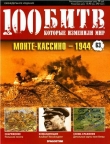Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 28 страниц)
Молодые и старые джатаки сидели вокруг слепого Чиграя, по-степному поджав под себя ноги. Не спуская глаз с беспокойных старческих рук слепца, люди почтительно молчали, выжидая, когда заговорит Чиграй.
Наконец Чиграй, подняв трепетные веки, как бы прислушался к тишине, густо пропитанной запахом козьего помета и кислой овчины, и голосом кротким и проникновенным проговорил:
– Жол – дорога.
– Ие? – откликнулся рядом сидящий с ним джатак, столь же древний по виду, как и Чиграй.
– Дорога,– повторил Чиграй.– Она падает третий раз на девятый боб, самый легкий из всех бобов и самый счастливый.
– Скорая дорога?– спросил самый молодой и самый нетерпеливый из джатаков, пастух Сеимбет.
– Девятнадцатый боб упал на путь девятого боба. Девятнадцатый боб быстрее тулпара, о котором знают все кочевники с детства.
– Правду ли говорят твои бобы, аксакал?– спросил Чиграя пастух Сыздык.
Помолчав и снова как бы прислушавшись к чему-то, Чиграй медленно и глухо проговорил:
– Бывает так, что и бобы не хотят говорить мне правды. Тогда я кладу их на отдых и выхожу ночью за дверь зимовки слушать, как молчит степь. Я знаю, что в эту пору все небо усыпано золотыми бобами звезд. И я слушаю, о чем шепчутся в ночи эти далекие звезды.
– О чем же они шепчутся, аксакал?– вновь спросил слепца самый молодой и самый нетерпеливый из джатаков.
– Ты слишком молод еще, джигит, чтобы знать об этом,– сердито сказал старый Чиграй. И он снова умолк, перебирая свои бобы и раскладывая их на циновке по кучкам.
В глубоком безмолвии сидели вокруг джатаки. Старики пили горячий лимонно-желтый чай, настоянный на степной траве – шалфее. Молодые задумчиво смотрели своими прищуренными глазами на трепетный огонь немощного светильника. Женщины, приютившиеся в черном углу вместе с больной козой, козленком и беркутом, скорбно вздыхали. Всем им хотелось, чтобы сбылось гаданье слепца и чтобы выпала скорая дорога джигиту, на возвращенье которого все меньше и меньше оставалось надежд у джатаков аула. Почти каждую ночь собирались молодые и старые пастухи в зимовке старейшего и мудрого аксакала. Почти каждую ночь колдовал слепец над своими бобами и почти каждую ночь предсказывал он скорое возвращение джигита. Но джигит не возвращался, и никаких вестей о нем не заносил в аул джатаков узун-кулак – длинное ухо – телеграф степи.
Пересыпая из рук в руки свои бобы, Чиграй говорил вполголоса полудремлющим вокруг очага джатакам:
– Вчера я стоял за нашей зимовкой. Это было в полночь. Степь молчала. Уснул в камышах ветер. И тогда я услышал, как трижды проржал жеребец в косяке кобылиц, пасущихся на тебеневке.
– Ие? – удивленно воскликнул один из старейших джатаков, сидевший по левую руку от Чиграя.
– Я услышал, как трижды проржал скакун, и вздрогнул от страха,– продолжал вполголоса старый Чиграй.– Я понял – это худая примета. Если трижды в полночь ржет жеребец, быть беде. Это я точно знаю. Он ржал в западной стороне. Значит, беда придет в наш аул с запада.
– Беды никогда в одиночку не ходят, аксакал!– заметил пастух Сеимбет.– И мы к ним давно привыкли. Они приходят к нам табунами с каждой новой луной.
– Какие же беды ждут нас теперь, по-твоему, Сеимбет?– спросил Сеимбета пастух Сыздык.
– Известно, какие. Пришла весна – Альтий потребует с нас долги. Нам с вами нечем будет расплачиваться, и мы снова останемся коротать жаркое лето в этих зимовках, стеречь байские дома и жевать курт. И мы снова будем к осени в долгу у Альтия.
Джатаки молчали. Шафранное пламя светильника едва тлело во мраке. Тихо было в зимовке. По-прежнему по-человечески кротко и скорбно мычала больная коза, прислушивался к чему-то нахохлившийся в черном углу старый беркут.
С тех пор – это было около двух лет тому назад,– когда джигит Садвакас, бежав с русскими из-под ареста, бесследно исчез в степях, много воды утекло из окрестных озер и много новостей наслышались джатаки от блуждающих всадников за эти годы.
– Хабар бар ма?– спрашивали пастухи встречного всадника.
– Хабар бар. В ауле Каратал загнал на байге чубарого байского скакуна подпасок по имени Рамазан, и на родовом совете старейшин подпаску сказали так: «Ты будешь пасти скот бая Итбая до тех пор, пока твой хозяин вырастит первенца от третьей жены и пока берег черного озера Кара-Су не покроется молодым ракитником».
Пастух останавливал каждого путника одним и тем же вопросом:
– Хабар бар ма?
– Хабар бар. По атбасарскому тракту проехал русский купец в малиновой опояске. Он скупил у джатаков баранов по дорогой цене за фальшивые деньги.
– Ие?!
– Хабар бар. Бродячий певец степей по имени Бе-имбет прославил в песне джигитов из рода Кейты – храбрых богатырей и лихих наездников.
– Ие?! Чем отличились они?
– Они отбили у байских барымтачей – прославленных конокрадов – косяк кобылиц с жеребятами, украденный у джатаков, и вернули пастуху Койче похищенную барымтачами его семнадцатилетнюю невесту Жамал…
Много слыхивали нехитрых степных новостей джатаки за эти годы от странствующих в окрестной степи певцов и блуждающих всадников, но никто из них ни слова не сказал им о Садвакасе – где он и что с ним? Томится ли он за железной решеткой в большой русской крепости или скрывается в кочевьях Малой орды в окружении таких же, как он, мятежных и непокорных джигитов? Об этом молчала степь, любившая новости, но и умевшая хранить тайны.
По ночам, собираясь в сумрачной и ветхой зимовке слепого Чиграя, джатаки рассказывали друг другу вполголоса о своих снах и догадках.
– Я видел сон,– говорил джигит Сеимбет.– На кургане сидел орел, белый, как войлок байской кибитки, а к орлу крался по ковылям матерый зубастый волк. И
я не знаю, что было бы с красивым орлом, белым, как войлок байской кибитки, если бы я ие закричал во сне от испуга. Орел услышал мой крик, взмахнул могучими крыльями и поднялся над степью. Как мне истолковать этот сон, мудрый наш аксакал?– спросил Сеимбет Чиграя.
И Чиграй после долгого раздумья ответил:
– Сон твой вещий, джигит. Твой орел, белый, как войлок байской кибитки, походит на самого храброго и самого смелого из джигитов степи Садвакаса.
– Ты думаешь, что наш Садвакас еще жив и здоров, аксакал?– спросил Сеимбет Чиграя.
– Бобы говорят мне так. И я им верю…– ответил Чиграй.
И джатаки, вновь поникнув в раздумье над догорающим очагом, умолкали.
И вот однажды, в одну из темных весенних ночей, какие бывают в канун новолуния, когда джатаки, собравшиеся в зимовке Чиграя, разговаривали вполголоса о новостях, которые удалось им услышать за день, случилось то, чего они ждали в течение многих ночей и дней за эти годы. Скрипнула дверь, и джатаки увидели иа пороге высокого и прямого джигита в русской одежде. Но ни ветхая солдатская шинель, ни такой же старый русский картуз с лакированным козырьком, ни ремень военного образца, туго перетянувший стройную и гибкую талию джигита,– ничто не помешало тотчас же узнать джатакам в пришельце Садвакаса.
Только одно мгновенье длилась в сумрачной зимовке Чиграя напряженная тишина. Только одно мгновенье неподвижные и онемевшие от неожиданности люди смотрели растерянно и изумленно в смуглое лицо пришельца. И вдруг, словно вихрем сорванные с места, джатаки бросились к человеку в серой солдатской шинели, и ураган восторженных возгласов забушевал под крышей старой зимовки:
– Ие!
– Уй-бой!
– Садвакас! Друг мой!
– Брат мой! Тебя ли я вижу?
– Сын мой! Ты ли это?
– Внук мой! Твое ли слышу дыхание я?
– Откуда ты?! Здоровы ли ноги и руки твои?– перебивая друг друга, кричали люди, окружив Садвакаса.
Обнимая его, они не верили в это мгновенье ни глазам своим, ни слуху.
Растерянно улыбающийся, взволнованный Садвакас, увидев поднявшегося с циновки слепого Чиграя, бросился к нему с протянутыми руками и крепко стиснул в своих объятиях старика. С минуту при воцарившемся в зимовке безмолвии стояли Садвакас и Чиграй, не проронив ни слова. Обнаженная, тронутая ранней проседью голова Садвакаса лежала на груди старика. А тонкие, трепетные пальцы Чиграя судорожно ощупывали затылок, виски и плечи джигита.
…А когда несколько улеглось необычайное возбуждение джатаков, когда подан был женщинами горячий, ароматный и крепкий цейлонский чай и рассыпаны на старенькой скатерти свежие, прожаренные в масле баур-саки,– все присутствующие в зимовке люди, не сводя с Садвакаса ярко поблескивающих глаз, слушали его неторопливую речь.
Держа в одной руке пиалу с недопитым чаем и пристально вглядываясь при этом в лица окруживших его джатаков, Садвакас говорил:
– Длинны дороги степи. И много верст прошли мы по ним с нашими русскими друзьями. Но длинней всех дорог покажется вам мой рассказ о том, что мы передумали и пережили за эти два года, скитаясь по далеким отсюда аулам кочевников и глухим русским селам. Я не могу рассказать вам обо всем этом сразу, в одну ночь. Слава богу, впереди у нас много еще ночей и дней, и вы, друзья мои, услышите все от меня, что испытал я и увидел… А сейчас скажу вам только одно: не будь у меня русских друзей – не видать бы вам меня.
– Ие?!– удивленно воскликнул старый Чиграй.
– Не видать бы меня вам, друзья, если бы отверг я дружбу русских людей,– продолжал Садвакас, остановив свой задумчивый взгляд на колеблющемся пламени светильника.– И первым из этих русских моих друзей был Салкын. Помните ли вы этого человека?
– Это тот, который помог бежать тебе с другими джигитами два года назад из русской крепости Капитан-Кала?– спросил пастух Сеимбет.
– Да, это тот самый,– сказал Садвакас.– Он опять мне помог бежать из острога, и это сделал не сам Салкын, а его друзья. Это было месяц тому назад. Я сидел вместе с двадцатью другими джигитами в каменной башне, похожей на сырой, холодный и темный колодец.
Если бы нас не выручили наши русские друзья, мы были бы теперь прикованы к тачкам на каторге, и мы рыли бы золото в далеких отсюда горах Акатуя.
– Ие?! Значит, ты опять убежал, Садвакас?– спросил пастух Сеимбет.
– Да, я снова бежал из-под стражи, и со мной убежали все двадцать джигитов.
– Как это было, скажи?– попросил Сеимбет.
– Это очень длинный рассказ, Сеимбет, и на него не хватит мне даже двух бессонных ночей. Я расскажу все это вам, мои друзья, следующей ночью, если нас никто не услышит из тех, кому не надо этого слушать… А сейчас мои ноги гудят от усталости, и свет в глазах моих гаснет. Я провел двое суток без сна, без пищи и отдыха. Я очень ослаб. И мне трудно сейчас разговаривать,– сказал Садвакас.
И только тут увидели люди, как и в самом деле был утомлен Садвакас и как дрожали его запекшиеся, точно обуглившиеся губы.
– Друс. Друс Правильно. Надо дать Садвакасу покой. Пора и нам разойтись по своим зимовкам,– сказал Сеимбет, поднявшись с циновки.
И следом за Сеимбетом тотчас поднялись все сидевшие вокруг Садвакаса люди, за исключением слепого Чиграя. Старик остался сидеть рядом с Садвакасом, держа его за руку, словно боясь вновь потерять его.
– Значит, снова пришел ты к нам, Садвакас, по тайной дороге?– спросил Сеимбет.
– Да, джигиты, я снова пришел к вам тайком. И об этом надо пока молчать,– сказал Садвакас.
– Ие,– подтвердил Чиграй.
– Друс. Правильно,– сказал Сеимбет.– Если так нужно, мы будем молчать. И никто не узнает, что ты снова с нами.
– Никто не узнает,– подтвердили хором джатаки.
– Молчим, Садвакас. Молчим,– проговорил вполголоса Сеимбет, подав знак молодым пастухам оставить зимовку.
После бесприютных вешних ветров, слонявшихся день и ночь над степью, после косых и колючих дождей, после низких и плотных облаков, похожих на грязную вату, наступила погожая пора. На небе – ни облачка. Куда ни глянь – все кругом цветет и благоухает. Колыхались над степью призрачные шарфы жарких полуденных марев. И, как пламя в дыму, полыхали в травах тюльпаны.
Шел двадцать девятый день уразы – постного месяца рамазана. Двадцать девятый голодный рассвет встречали в ветхих и жалких своих кибитках джатаки – пастухи и подпаски. Они просыпались, когда в юрте еще плавала теплая полумгла и когда нельзя было еще увидеть нитки, валявшейся на войлоке. В такую пору старый Чиграй будил старшего из пастухов – Сеимбета. Сеимбет будил Сыздыка, а Сыздык – подпаска Ералы. На рассвете Сеимбет делил между пастухами и подпасками пригоршни сухого творога – курта, и они, наскоро завершив свою утреннюю трапезу, спешили к отарам байских овец в стороне от зимовки.
В байских юртах шла подготовка к откочевке на летние пастбища. И волостной старшина Альтий приходил каждое утро к многотысячным отарам своих овец, занимаясь их пересчетом. Усевшись на высоком холме, Альтий приказывал пастухам прогонять мимо него цепочкой отары и пересчитывал вслух своих баранов.
Это встревожило пастухов не на шутку. Они знали, если Альтию станет известно о растерзанных волчьей стаей пяти баранах, аулу несдобровать.
– Пропал я,– говорил в отчаянье двенадцатилетний подпасок Ералы, испуганно поглядывая в сторону сидевшего на холме Альтия.
– Ничего, не бойся, бала. При чем здесь ты? Все будем как-нибудь отвечать,– пытался успокоить его Сеимбет.
– Нет, не все. Я больше всех виноват. Ведь овцы пропали из моей отары,– с рассудительностью взрослого говорил Ералы.
– Откуда знать баю – в твоей это отаре или в моей,– уговаривал его Сеимбет.
– Он все узнает, и мне будет худо,– твердил подпасок.
И Ералы оказался прав. Неизвестно, какими путями, но Альтий узнал, из чьей отары пропали овцы. А дознавшись, он призвал к себе в юрту подпаска и жестоко избил его волосяным арканом. Стиснув мелкие и частые, как у хорька, зубы, мальчик не проронил ни стона, ни крика, извиваясь под ударами жесткого волосяного аркана. Он знал, что защищать его все равно некому и что ни один из пастухов не посмеет вмешаться в расправу. Когда избитого пастушонка унес Сеимбет на руках в юрту слепого Чиграя, Ералы, страдая от чудовищной боли в своем маленьком хрупком теле, прежде всего спросил склонившегося над ним Сеимбета:
– А жеребенок мой где?
– В табуне, в табуне, Ералы,– успокоил его Сеимбет.
– Разве бай теперь у нас его не отнимет?– спросил, не открывая глаз, Ералы.
– Нет, нет, Ералы, не отнимет. Мы ему его не дадим.
– А чем же мы будем платить за баранов?
– Придумаем что-нибудь. А жеребенка не отдадим,– заверил Сеимбет подпаска.
И Ералы успокоился. Целых три дня отлеживался он в юрте слепого Чиграя. И старая байбише Бильда любовно ухаживала за подпаском, как за кровным своим последышем. Она поила его наваром целебного корня травы караматау, сорванной в долине озера Узун-Куль, и натирала его худое тело, лиловое от кровоподтеков, целебными соками из трав, которые росли, по словам байбише, только за тридевять земель от их аула. А на четвертый день подпасок поднялся чуть свет с жесткой своей постели, когда в юрте все еще спали, и, захватив с собой пригоршню сухого творога, ушел в табун, который пас Сеимбет. Еще издали, завидев в прибрежной осоке своего чалого жеребенка, мальчик, забыв обо всем на свете, бросился к своему любимцу. Жеребенок, отлично знавший своего маленького хозяина, приветливо протянул к нему морду и коснулся мягкими замшевыми губами лица Ералы. Обхватив тонкими бронзовыми руками крутую шею стригунка, Ералы долго ласкал его, целуя коротко подстриженную озорную челку и говоря ему самые нежные, самые ласковые слова:
– Мой хороший, золотой мой стригун Бала! Ты совсем у меня настоящий скакун. У тебя крепкие белые зубы и черный ремень на спине. Ты у меня умнее беркута – самой мудрой птицы. Ты у меня быстрей тушканчика – самого быстрого степного зверька. Злые белые скакуны бая Альтия глупы, как рыбы. Я люблю твои веселые большие глаза. Я люблю тебя, мой тулпар!
И стригун, положив голову на обнаженное хрупкое плечо маленького хозяина, слушал ласковые речи его, закрыв глаза. Затем Ералы, сев на жеребенка, заехал на нем в озеро и долго купал его в розовой от восхода, прозрачной и прохладной воде. Мальчик продолжал разговаривать с ним так же нежно и ласково, как разговаривал с маленькой своей сестрой – шестилетней Мусонтай.
– Ты уже прожил одно лето и две зимы, золотой мой стригун!– бормотал подпасок, продолжая плескать на широкий и гладкий круп жеребенка озерную воду.– Ты совсем стал похож у меня на того настоящего коня, про которого рассказывал старый Чиграй мне хорошую сказку. Много, много весенних и летних лун ждал я тебя, мой Бала! Каждый раз, когда брал меня бай Альтий в пастухи, обещал он мне отдать осенью самого красивого и самого резвого жеребенка. Каждое лето я пас байский скот. Я же хороший подпасок! Но каждую осень сытый и злой Альтий обманывал меня и не давал мне тебя, мой золотой, мой хороший звереныш. А теперь ты мой. И теперь я тебя никому не отдам. Ты у меня быстрее весеннего ветра и легче залетной птицы. Это все узнают, когда будет праздник Уразайт и когда будет в ауле байга – веселые скачки!
Был на исходе тридцатидневный пост, и джатаки, собираясь по вечерам у костров, думали вслух о предстоящем празднике – завершении постного месяца рамазана. И каждый из них мечтал об этом празднике по-своему.
– Я поборю самого сильного джигита из рода Джучи – Тарангула,– говорил пастух Есбатыр,
– Я дальше всех пройдусь на руках вниз головой,– хвастливо заявлял самый озорной из подпасков Омар.
– А я выйду победителем в козл о дранье,– утверждал проворный и ловкий джигит Чиакпай.
А старый Чиграй, раскинув свои бобы на циновке, и поколдовав над ними, нашептывал изумленно таращившему на него глаза подпаску:
– Я слушал, о чем говорят бобы. Они говорят мне сегодня правду. Они говорят, что на байге в день весеннего праздника Уразайт один жеребенок подпаска обгонит на скачках самого злого и сильного байского скакуна…
– Ой-бай!– удивленно восклицал Ералы, недоверчиво поглядывая на полусмеженные веки слепого Чиграя.
– Так говорят мне бобы,– продолжал бесстрастным голосом Чиграй.– Так мне сказал пятнадцатый боб – самый пугливый, как кобчик, и самый быстрый, как тарбаган. Он перешел дорогу восьмому бобу – злому, как шайтан, и черному, как ворон, байскому скакуну.
И джатаки, прислушиваясь к пророческому гаданью, думали о том, как было бы хорошо, если бы сбылись и на этот раз предсказания мудрого аксакала!
В ночь под праздник Уразайт вокруг аула джатаков запылали огненные миражи костров. Все мужчины и женщины аула, выйдя из юрт, приглядывались к темному, щедро усыпанному звездным золотом небу в ожидании появления новорожденного месяца. Самый счастливый из рода должен был первым увидеть тонкий, прозрачный рог новолуния. Самый счастливый должен был первым известить людей о том, что постный месяц рамазан исчез за Жаман-сопкой, уступив место новорожденному лику луны – предвестнику веселого весеннего праздника.
Против байских юрт в казанах закипала сорпа и варилось молодое и ароматное баранье мясо.
– Каждый колет барана. Это правильно,– сказал Чиграй.– Но джатак не знает, кого заколоть ему на праздник Уразайт.
– На чем же ты переедешь через ад по нитке, тонкой, как лезвие меча, когда ты будешь на том свете? – спросил мулла.
– Нет, мне не на чем переехать через ад на том свете,– сказал, скорбно поникнув, старый Чиграй.
– Ты говоришь мне неправду,– сурово оборвал Чиграя мулла.– Аллах и я знаем, что у тебя ходит овца с белой ногой.
– Это правда. Но я жду, когда у меня народится пара ягнят,– сказал Чиграй.
– Об этом не надо думать на этом свете, если ты не хочешь кипеть в аду,– поучительно и строго сказал мулла.
Пастух Сеимбет, зло покосившись на желтобородого муллу, сказал:
– Об этом надо сказать не нам – Альтию. Если он не отдаст мне моей тайнчи и барана, то мне прямая тогда дорога в ад. Выходит, я буду кипеть на том свете в смоле по вине Альтия?!
Мулла, встретившись с недобрым взглядом джигита, не нашелся, что ответить ему, и, многозначительно крякнув, пошел прочь.
А на рассвете, когда запели в окрестной степи перепела и заметались над озером белоснежные чайки, один из байских джигитов крикнул:
– Я вижу новорожденный месяц!
– И я!
– И я вижу. Вон он! Вон он поднялся над черным озером Кара-Су!– загремели над степью восторженные крики.
И тогда в просторных, украшенных дорогими коврами и красочным войлоком юртах аткаминеров и баев аула началось праздничное пиршество. Тучные, неповоротливые, заплывшие жиром аксакалы с сонными лицами торжественно и важно восседали полукругом и, засучив рукава цветных халатов, священнодействовали над кусками свежей баранины. Трое проворных и легких джигитов, искусно орудуя ножами, крошили дымящееся горячее мясо над деревянными блюдами, а белобородые аксакалы жадно хватали куски янтарного сала руками, набивая рот и давясь непрожеванными кусками. В три ряда замыкался мужской круг за застольным пиршеством аксакалов. Впереди сидели широкоплечие, заплывшие жиром люди с посеребренными сединой бородами – старшины рода, волостные управители и аткаминеры. Позади – молодые, развязные шумные джигиты. А за джигитами теснились, прижавшись друг к другу, менее почетные гости Альтия – отдаленные бедные родственники.
Женщины сбились справа около шипящих турсу-ков – кожаных мешков с кумысом. Одни ловко наполняли огромные деревянные чаши – пиалы голубоватым квашеным кобыльим молоком, другие разливали гостям сорпу – жирный навар от баранины. Аксакалы и джигиты свирепо обгладывали кости, затем кидали их через головы впереди сидящих джигитов на женскую половину, и гибкие руки женщин ловко схватывали их на лету. Затем зти же кости перелетали от женщин к толпившимся в черном углу пастухам и подпаскам.
Сам волостной управитель Альтий восседал, как бог в облаках, среди пышных пуховых подушек, обрабатывая складным ножом одну баранью голову за другой и звучно высасывая бараний мозг и жир из глазных и подлобных впадин.
Кто-то наотмашь бросил в бронзовое лицо подпаска Ералы кусок янтарного сала. Не успев схватить на лету дарованную ему пищу, подпасок с трудом выбрался из-под кучи навалившихся на него оборванных, грязных и злых ребятишек, с яростью вырывавших друг у друга добычу.
…А в полдень за озером Кара-Су заходил ходуном увал под проливным дождем конских копыт, и гортанные крики возбужденной и яркой толпы заглушили мятежное лошадиное ржанье. Пресытившиеся на пиршестве патриархи степей – сребробородые аксакалы сидели теперь полукругом на высоком кургане, устланном шитым войлоком и коврами. Важные, неподвижные, как изваяния, восседали они, равнодушно озираясь вокруг тяжелыми сонными глазами. Они томились в ожидании первого заезда восемнадцати лучших скакунов степи Сары-Дала, отобранных знатоками для этой весенней байги. Нарядные, озорные, крикливые и веселые казахские девушки мелькали то тут, то там, как цветы в ковылях, сверкая позументом своих голубых, оранжевых и малиновых камзолов. Степные красавицы резвились, позванивая связками серебряных монет, вплетенных в их тяжелые, темные, как осенние ночи, косы.
А в стороне от кургана огромная толпа кочевников шумела, окружив злых, надменных и капризных байских скакунов, споря о беговых качествах лошадей, предназначенных для сегодняшней двадцативерстной скачки. Среди гибких полукровок с плоскими крупами, огненными глазами танцевал на своих упругих и тонких ногах невеликий стригун с белой звездой на лбу. И такая же шумная и азартная толпа джатаков толпилась вокруг стригунка, какая шумела в это время и вокруг восемнадцати отборных скакунов, сведенных сюда богатыми аксакалами из окрестных аулов. Джатаки подбадривали подпаска Ералы, лихо сидевшего на стригунке, нетерпеливо перебирающем своими гибкими, точеными ногами:
– Не робей, Бала!
– Не трусь, Ералы!
– Плюнь на насмешки!
– Будь настоящим джигитом!– раздавались азартные крики джатаков.
А белобородые патриархи, сидевшие на кургане, презрительно косясь в сторону шумевших вокруг стригунка джатаков, переговаривались, усмехаясь:
– Тоже мне – бегунца нашли!
– Это не лошадь – паршивый кобчик!
– Пусть позорятся для потехи…
– Друс. Правильно. Смеху наделают на всю степь.
Когда был подан знак наездникам для отправки к границе забега и восемнадцать всадников под напутственные возгласы толпы тронулись, сдерживая своих горячившихся скакунов, в степь, тогда вслед за байскими всадниками тронулся на своем стригунке и подпасок Ералы под такие же напутственные возгласы джатаков:
– Удачи тебе, Ералы!
– Скачи с умом!
– Смотри не горячи зря коня!
– Не забудь разнуздать при забеге.
– Не давай сразу ему полной воли!
…Все двадцать верст ехали байские всадники шагом, с трудом сдерживая своих волнующихся перед скачкой коней. Шагом ехал вслед за шумной ватагой байских джигитов на своем стригунке и подпасок Ералы, вполголоса разговаривая то со стригунком, то с самим собой.
– Ты у меня настоящий скакун, Бала,– ласково похлопывая стригуна по крутой и упругой шее, говорил Ералы.– Ты меня выручишь на этой байге, и я тебе вымою молоком розовые твои копыта!
И стригун, точно понимая, о чем говорил ему подпасок, шел под ним, пританцовывая на своих молодых, упругих ногах и кивая в знак согласия своей красивой мордой с белой звездой на лбу и озорной, трепещущей челкой между острыми, как мечи, ушами.
Так, ласково разговаривая со своим конем, незаметно проехал подпасок дорогу к границе забега. Кавалькада байских всадников – это были такие же подростки, как и Ералы,– выстроилась на холме в одну шеренгу, к ним пристроился с левого фланга на своем стригунке Ералы. Его никто не заметил. Теперь было всем не до шуток. Маленькие наездники, крепко стиснув поводья, сидели на своих готовых ринуться вихрем конях, не сводя глаз с джигита в стороне: все ждали условного взмаха руки джигита в малиновом камзоле и его команды о начале байги. Ждал и Ералы, намертво стиснув в цепких руках сыромятные поводья.
Было тихо.
Ералы слышал неровный и частый стук своего маленького сердца. Он даже слышал, кажется, как стучало в это мгновенье и сердце его стригунка…
Наконец джигит в малиновом камзоле, подняв над головой камчу – тяжелую ременную плеть с отороченным серебряной ленточкой черенком,– пронзительно крикнул:
– От урочища Курга-Сырт до аула Альтия двадцать меряных верст. Сейчас мы увидим, чей скакун окажется быстрее степного вихря и кто из наездников будет легче птичьего пера. Байга!
Будто вихрем сорвало с холма девятнадцать всадников. Степь покачнулась. Голубой огонь неба на мгновенье ослепил и ожег покосевшие глаза Ералы. Горячий встречный ветер высекал слезу за слезой. Ералы прикусил язык. Он пригнулся над крутой и упругой шеей своего стригуна и ничего не видел впереди себя, кроме похожей на колеблющееся пламя маленькой светлой челки, вспыхивающей между острых ушей стригунка. А сзади, стремительно нарастая, гудел целый ураган азартных воплей наездников. То отпуская, то натягивая повод уздечки, Ералы беспрестанно твердил:
– Ой, Бала! Выручай меня, золотой мой стригун! Не срамись перед байскими скакунами, мой хороший!
Вот сверкнул узкий и плоский, как нож, залив озера. На мгновение мелькнул в глазах зеленый огонь густой прибрежной травы на займище. Ералы временами видел перед собой пустынную степь с парчовыми ковылями и стремительно мчавшуюся ему навстречу широкую степную дорогу. Ни разу не оглянувшись, подпасок тем не менее чувствовал, как все дальше и дальше отставали от него восемнадцать байских наездников на своих красивых, надменных и злых скакунах, как все глуше и глуше стучали на утрамбованной дороге некованые конские копыта.
Ералы не знал и не помнил, сколько времени летел он, как вихрь, на своем стригуне впереди восемнадцати байских наездников. Но вот, точно очнувшись от забытья, он увидел впереди себя степной увал, усыпанный людьми. Было похоже, что навстречу подпаску катился пестрый вал: это толпы девушек, одетых в разноцветные бархатные камзолы, бежали навстречу. Они бежали, размахивая своими тонкими, гибкими руками, приветствуя победителя праздничных скачек.
И Ералы, прижавшись своим легким и хрупким телом к тугой, напружинившейся шее стригуна, теперь уже не торопил его ни плетью, ни окриком, а только вполголоса повторял одно и то же:
– Золотой мой Бала! Ой, мой Бала! Хороший! Яркие, как степные тюльпаны, камзолы девушек, цветные халаты седобородых степных патриархов и пестрые лохмотья джатаков – все смешалось, слилось в один радужный, красочный круг, похожий на ярмарочную карусель. А восторженный рев оглушал Ералы, и голова его кружилась, как от крепкого майского кумыса, и временами ему казалось, что он задыхался от радости и терял сознание.
Ералы не помнил, как вылетел на полном скаку из седла на распростертые руки джатаков. Кто-то схватил его на лету, как подбитую выстрелом птицу. Старая тюбетейка слетела с головы подпаска. А жеребенок вдруг присел на задние ноги, испуганно фыркнул и зашатался, точно ноги его заскользили по льду.
Ералы, окруженный толпой пастухов и подпасков, придя наконец в себя, вытер потное лицо рваным рукавом своей ситцевой рубашонки и запальчиво крикнул:
– Все видели, как скоро ходит Бала?!
Но в это мгновение толпа пастухов и подпасков, окружавших Ералы, вдруг шарахнулась от него в сторону, и восторженный гул людской речи внезапно оборвался. Тогда Ералы, ощутив в сердце тревогу, бросился со всех ног следом за пастухами и подпасками и, с трудом протиснувшись сквозь их притихшую толпу, остолбенел, увидев распластавшегося на траве стригуна.
Жеребенок лежал плашмя, не двигаясь и как будто даже не дыша. Его передняя нога с белым пятном над щеткой, слегка изогнувшись, упиралась своим молочно-розоватым копытом в пушистую грядку дороги. Из судорожно вздрагивающих ноздрей текли жидкие струйки желтой пены. Ералы, бросившись к стригуну, приподнял руками его горячую морду и крикнул:
– Вставай! Вставай, золотой мой Бала! Вставай, мой хороший!
Стригун посмотрел на мальчика своими печальными большими глазами и тотчас же снова прикрыл их, слабо вздохнув при этом, как человек, которому было теперь очень и очень худо. Полусогнутая в коленке тонкая нога стригуна чуть заметно подрагивала, и Ералы казалось, что из-под густых ресниц жеребенка показались крупные, как горох, слезы.
Подпасок сидел около стригуна на корточках, похолодев от тревоги. Мальчик даже не обернулся на голос окликнувшего его старого баксы – лекаря Чиакпая. Чиакпай, осторожно оттолкнув в сторону подпаска и присев около стригуна, долго ощупывал тонкими, гибкими пальцами холку жеребенка.
Стригун сделал еще два-три едва уловимых движения головой, передернул острыми ушами и, весь вытянувшись, замер. Его полузакрытый глаз, подернутый холодной и мутной пленкой, отсвечивал теперь отраженным, неживым, тусклым светом.
И старый баксы, скорбно вздохнув, сделал неуловимое движение рукой, а потом, поднявшись на ноги, молча отошел в сторону.