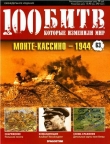Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
– Да ить ты же не казак теперь, а такой же чалдон, как и все новоселы!– насмешливо воскликнул Оська Караулов.
– Нет, извиняйте, братцы. Я был казаком, казаком и остался,– запальчиво проговорил Агафон Бой-баба
– Не в этом дело, братцы. Казак ли, чалдон ли ты, а планида нам падат теперь одна – постоять за свою беднейшую нацию грудью,– прозвучал рассудительный голос Кирьки.
– Это каким же манером? – заинтересованно спросил вполголоса Агафон Бой-баба.
– Манер известный – свернуть голову станичному атаману, и квиты,– сказал Оська Караулов.
– Свернуть голову атаману – дело нехитрое. А потом што?
– А потом своего атамана поставим – и вся недолга. Сами собой будем руководствовать, а не в пуп ермаковцам глядеть. Понятно?– спросил притихших вокруг соколиицев Кирька.
– Рисковое дело,– сказал, вздохнув, Архип Кречетов.
Помолчали.
На другой день после похищения барымтачами конского косяка попечитель Корней Ватутин разыскал своего работника, узкоглазого и рябого Кузьму, на берегу курьи. Связанный по рукам и ногам волосяным арканом, парень лежал в густой осоке в полубессознательном состоянии. Он смотрел на хозяина своими тусклыми, словно подернутыми пеплом глазами, не отвечал на его вопросы, а только беспомощно жевал спекшимися от жажды искусанными губами. Взвалив пастуха на бричку, Корней Ватутин вернулся на полном карьере в станицу и взбулгачил народ.
– По коням, братцы!– кричал, стоя на своем крылечке, Корней Ватутин столпившимся вокруг него станичникам.– Ударим в нагон, воспода станишники, по горячему следу за барымтачами. Никуда они от нас не уйдут. Наши будут!
– А в какую сторону удариться, восподин попечитель? В степи не одна дорога!..– крикнул фон-барон Пикушкин.
– Известно в какую – в аулы.
– Аулов много.
– Аулов много – орда одна.
– Правильно. Правильно. В погоню!– ревели взбесновавшиеся ермаковцы.
А через полчаса около взвода всадников, вооруженных шашками, бородатых, возбужденно горланивших казаков, толпилось в беспорядке около станичного правления, и вахмистр Дробышев, гарцуя на своем маштачке, лихо размахивал обнаженным клинком, отдавая команду:
– Стройся, стройся в шеренгу, воспода станишники. Не на ярманку – в поход собрались.
Построившись по шести в ряд, всадники замерли по команде смирно, когда на крыльце станичного правления появился Муганцев в сопровождении пристава Касторова, бледного и распухшего от запоя, утратившего былую военную выправку старика.
Вахмистр Дробышев, привстав на стременах, отрапортовал атаману:
– Взвод добровольцев готов к экспедиции.
– С богом. Желаю успеха, братцы. Надеюсь, робеть не станете, старички,– сказал Муганцев, пристально вглядываясь в бородатые лица лихо сидевших в седлах престарелых казаков.
– Старый конь борозды не портит!– крикнул в ответ на напутствие атамана правофланговый фон-барон.
– Вот именно. Не казаки – гвардия!– сказал пристав Касторов, подмигнув картинно подбоченившемуся в седле вахмистру.
– Справа – по два. Взвод – за мной!– скомандовал Дробышев и, пришпорив своего маштачка, повел на рысях мгновенно перестроившуюся шеренгу всадников через площадь, за крепостные валы, в степь.
Как ни быстро продвигался казачий разъезд по степям, а узун-кулак – длинное ухо – опередило всадников. И во всех окрестных аулах к вечеру этого знойного и мглистого дня было уже известно об отряде вооруженных саблями казаков, ринувшихся на розыски конского косяка, похищенного в минувшую ночь барымтачами.
– Хабар бар ма?– спрашивал один степной путник другого.
– Хабар бар. Девятнадцать всадников мчатся степью на наши аулы и машут саблями.
Когда в ауле джатаков стало известно о приближении казачьего взвода, пастухи и подпаски, собравшись в юрте слепого Чиграя, возбужденно шумели.
– Пусть уходят все наши дети и женщины в камыши!– кричали одни.
– У нас есть ружья. Не пускать казаков в аул!– кричали другие.
– А при чем здесь мы? Пусть ответит за все сам Альтий!– кричали третьи.
– Альтия они об этом не спросят. Они спросят нас. И мы им должны ответить,– сказал Садвакас, гневно сверкнув своими темными, слегка раскосыми глазами.
– Что мы ответим им?– спросил Сеимбет.
– Проведите меня до холма Кзыл-Жар и поставьте лицом к девятнадцати русским всадникам. Я встречу их у холма, и я скажу им всю правду,– прозвучал спокойный, приглушенный голос слепого Чиграя.
– Какую же правду скажешь ты им, аксакал?– спросил Садвакас Чиграя.
– Я скажу им о том, кто похитил их лошадей и где скрываются сейчас эти кони.
– Воля твоя, аксакал, но русские не поверят тебе и плюнут в твое лицо, если ты назовешь им имя Альтия,– сказал Садвакас.
– Да, аксакал. Русские не поверят тебе, если ты назовешь им имя Альтия. Ты стар, и твое место в юрте. Встретить русских – дело джигитов. И мы встретим их,– прозвучал голос пастуха Сеимбета.
– Нет, нет, джигиты. Ведите меня на холм. Не оставляйте меня одного. В этот час я хочу быть вместе с моим народом. Я хочу быть с вами, мои джигиты,– повелительно и властно сказал слепой Чиграй, простирая вперед свои худые, тонкие руки.
И двое джигитов, взяв под руки старика, вывели его из юрты. Выйдя на волю, Чиграй настороженно прислушался к степной тишине, а затем тихо спросил:
– Ты здесь, Садвакас?
– Я. здесь, аксакал.
– Тебе нельзя ходить с нами. Русские могут узнать тебя, и тогда будет худо. Уходи в камыши, где прячутся наши женщины и дети,– сказал Чиграй, касаясь своими трепетными пальцами груди Садвакаса.
– Нет, нет, аксакал. Я не могу прятаться в камышах вместе с женщинами и детьми. Я останусь вместе с джигитами,– решительно заявил Садвакас.
И Чиграй, вдруг насторожившись, прислушавшись к чему-то, глухо проговорил:
– Я слышу, гудит земля от конских копыт. Они идут к нашему аулу.
Но джатаки, напрягая слух, не уловили ничего, кроме далекого и печального детского плача, который то возникал, то замирал в дремучих камышах займища. Между тем Чиграй вновь повторил:
– От конского топота стонет земля. Они идут. Ведите меня. Ведите.
И джигиты, окружив Чиграя, двинулись в сторону холма Кзыл-Жар. Поднявшись на холм, джатаки увидели зыбкое облако пыли над трактом, а через мгновенье – и кавалькаду всадников, стремительно мчавшихся в развернутом строю на аул с обнаженными саблями. Жаркое солнце, дробясь, искрилось в клинках. Земля гудела, как барабан, под дробными ударами тяжелых некованых конских копыт. Заметив столпившихся на холме кочевников, вахмистр Дробышев взмахом сабли подал казакам сигнал спешиться. И всадники, как сдутые ветром с седел, передав лошадей коноводам, тотчас же окружили джатаков. Вогнав свой клинок в ножны, вахмистр Дробышев, угрожающе размахивая плетью, подскочил к прямому и неподвижному Чиграю, заорав во всю глотку на него:
– Ты здесь за старшего? Отвечай кратко, где наши кони?
И Чиграй, протянув вперед руку, сказал:
– Не кричи, атаман. Я скажу тебе правду. Лошадей ваших надо искать в ауле Альтия.
– Врет он, кобель!– крикнул фон-барон Пикушкин.
– Я стар, и мне незачем говорить неправду. Не джатаки – джигиты Альтия угнали ваших коней, казаки,– вновь прозвучал твердый и четкий голос слепого Чиграя.
Но станичники закричали, перебивая один другого:
– Не верьте ему, собаке!
– Тоже мне, валит с больной головы на здоровую…
– У Альтия свои табуны – степи ломятся.
– Альтий своим косякам счету не знат.
– Да ить он первейший мой друг, мой тамыр. Рази мысленно это дело – клепать на такого киргиза?!– кричал, колотя себя в грудь, фон-барон Пикушкин.
– Што там на их смотреть, воспода станишники. Бей конокрадов!
– Пустите меня, я ему дам по харе!– брызгая слюной, задыхался от крика, прорываясь к неподвижно стоящему на холме слепому Чиграю, приемный сын фон-барона Терентий Пикушкин.
Вдруг где-то совсем рядом прогрохотал выстрел. Это укрывшийся в прибрежной осоке Садвакас, для того чтобы отвлечь внимание озверевших казаков от зажатых в кольцо беспомощных и перепуганных джатаков, решил дать выстрел из дробовика и достиг своей цели. Казаки, окружившие пастухов и уже готовые было ринуться на них с обнаженными саблями и плетьми, опешили.
– Братцы, ить это по нам лупят! – крикнул вахмистр Дробышев и ринулся со всех ног к лошадям, порученным коноводам. Следом за вахмистром бросились казаки.
– По коням! По коням!– скомандовал вахмистр Дробышев, ловко прыгая на своего маштачка.
Казаки, спешно разбирая поводья, быстро повскакивали на своих коней. А пастухи и подпаски, воспользовавшись поднявшейся среди казаков суматохой, бросились врассыпную к аулу.
Между тем Садвакас, зорко наблюдавший за всем происходившим, дал один за другим еще два выстрела из дробовика по сбившейся в кучу конной кавалькаде, легко ранив под одним из казаков нервную, беснующуюся лошадь. Раненный в заднюю холку конь, закусив удила, понес казака в степь, а остальные всадники, беспорядочно заметавшись вокруг вахмистра Дробышева, кричали:
– Убийство!
– По нам из ружей палят!
– Под беглый огонь, братцы, попали… Вахмистр Дробышев, вырвавшись наконец из кольца беснующихся вокруг него всадников, привстав на стременах, завопил:
– Смирно, туды вашу мать! Слушай мою команду. За мной! С нами бог!
– Ура!– прозвучал воинственный клич фон-барона Пикушкина.
И станичники, придя наконец в себя, ринулись на полном карьере вслед за своим командиром. Заметив по дыму от выстрелов, что стреляли по ним из курьи, вахмистр, бросив своих всадников врассыпную, решил окружить курью и пойти на укрывшихся в осоке противников в рукопашную атаку.
– Шашки к бою! За мной!..– крикнул, лихо взмахнув своей саблей, вахмистр рассыпавшимся за ним казакам.
Раздробившаяся по увалу конная лава, сверкая на солнце обнаженными клинками, стремительно покатилась вниз, к покрытому густой и рослой осокой берегу займища, где лежал за одной из кочек Садвакас. Садвакас не сводил глаз с вахмистра Дробышева, мчавшегося на полном карьере прямиком на него. Заложив дрожащими руками в ствол последний патрон, Садвакас прицелился в голову вахмистра и, забыв з эту минуту обо всем на свете, ждал удобной секунды для верного выстрела. Но выстрелить он не успел. Не сводя своих прослезившихся от напряжения глаз с вахмистра, Садвакас не заметил налетевшего на него с тыла всадника и не сразу сообразил, как случилось, что он оказался в мгновение ока под русским бородачом. Изловчившись, Садвакас сбросил с себя навалившегося станичника и, вскочив на ноги, пытался скрыться в камыши.
– Держи его, варнака!
– Не уйдет, азиат!
– Рубани его по бритой башке!
– Обходи, обходи его сбоку, братцы!– доносились со всех сторон до Садвакаса разъяренные вопли наседавших на него русских всадников.
Напрягая последние силы, Садвакас продолжал бежать среди густого рослого камыша, как сквозь зеленое пламя бушующего вокруг него огня, обжигающего его полуобнаженное тело. Кровь ударила ему в голову, и сердце стучало с такой силой в грудную клетку, что каждый удар его отдавался чудовищной болью, и Садвакасу казалось, что он мгновениями терял сознание. Вдруг, ощутив короткий тупой удар в спину, Садвакас слегка присел, пытаясь схватиться простертыми вперед руками за стебли камыша. И тотчас же ослепительно-яркий свет вспыхнул и померк в его глазах, и он, рухнув в камыш, ничего уже не ощущал теперь, кроме оглушительного шума в голове, точно проваливаясь в какую-то бездну…
А минут пять спустя, когда спешившиеся станичники окружили неподвижно лежавшего в камышах джигита, с тревожным любопытством приглядываясь к его бронзовому лицу, фон-барон изумленно воскликнул:
– Воспода станишники, да ить это наш старый тамыр – Садвакас!
– Што ты говоришь?
– Богом клянусь, он, собака.
– Так точно. Его обличье,– подтвердил, пристально вглядевшись в лицо неподвижно лежавшего с закрытыми глазами джигита, Корней Ватутин.
– Вот это да! Вот это улов, братцы!– сказал вахмистр Дробышев.– Теперь все, как божий день, ясно. Вяжите его, подлеца, по рукам и ногам да в станицу. А за такую птицу они нам не один косяк приведут.
– Это как пить дать – приведут,– сказал утвердительно фон-барон Пикушкин.
И станичники расторопно скрутили волосяными чем-бурами по рукам и ногам Садвакаса, затем погрузили его плашмя на коня одного из станичников. Кавалькада двинулась всем скопом прочь из аула по направлению к станице.
Около двух недель пробирался Иван Сукманов с товарищами на восток. Стороной, бездорожьем, окольными путями выходили они из фронтовой зоны в глубокий тыл. Позади оставалась, навсегда уходила в прошлое страшная, затавренная кровью, заклейменная огнем и пороховым дымом фронтовая жизнь. Для этих людей война была окончена. Они шли туда, где призывно пылали по утрам высокие факелы предвесенних зорь и откуда доносились серебряные трубные звуки залетных степных ветров. Там ждала их иная, мирная жизнь. Там были желанные покой и отдых. Там были их семьи и пашни, в тоске по которым изболелись их души, привыкшие к нелегкому, но радостному земледельческому труду.
Шли ребята с опаской. Побаивались, как бы не напороться на заградительные кавалерийские разъезды или – еще хуже – попасть под беглый огонь вполне возможной погони. Дезертиры они были как-никак не простые. Славы наделали на весь свой полк, если не на всю армию. И двоим из них, подвернись они под горячую руку военно-полевого суда, грозила верная пуля, а в лучшем случае – лишение казачьего звания, штрафные роты и снова фронт. Вот почему и не рисковали они тронуться по проторенной дезертирской дорожке, что вела от позиции к ближайшему железнодорожному полотну, где без особого труда можно было прицепиться к любому воинскому эшелону и рвануть, благословясь, без оглядки в глубокий тыл. Но рисковать башкой после трех лет войны не хотелось. Вот почему и пробирались они через Пинские болота на Минск глухими, окольными тропами. Путь был не легкий. Ориентировались местами по карте-Десятиверстке, местами пробирались с хитрецой да оглядкой по лесным, заболоченным дебрям Полесья при помощи подвернувшихся под руку проводников.
Питались первое время скудными запасами из позиционного пайка, выданного за несколько дней до побега,– галетами и заплесневелыми сухарями, некогда присланными тыловыми патриотами в дар русским воинам. А на десятый день пути, когда были заметены в ладонь из походных сум и поровну разделены между всеми последние крохи фронтового продовольствия, спутникам пришлось переходить на подножный корм. Грызли они и древесную кору, и сыромятные ремни от ранцев – всяко бывало. Спали тоже – где и как приходилось: и в полуразрушенных артиллерийским огнем сторожках на кордонах лесных стражников, и в заброшенных позиционных укреплениях, и в наскоро вырытой где-нибудь на лесной опушке снежной берлоге. Словом, приходилось туговато. Да народ был тертый, каленый, крутой, ко всему привычный. А уж коли дело дошло до самовольного возвращения с фронта, то уж вряд ли можно было страшиться дорожных невзгод, измора или стужи! Вот и шли они, упрямо шагая на восток, злые от голода, молчаливые от бесстрашия, суровые от решимости. Шли, потеряв счет дням и ночам, перепутав числа, забывая порой обо всем на свете и помня только об одном – о далекой родной стороне.
Их было трое. Все однополчане и земляки. Иван Сукманов и Яков Бушуев все три года войны воевали в одном полку, а третий – Денис Поединок вернулся в полк после длительного излечения в госпитале к исходу второго года войны. Около года промыкались Иван, Яков и Денис на одной и той же позиции, а война и чужбина так их сроднили и сблизили, что теперь и водой их было не разлить.
После истории с прокламациями Якову Бушуеву с Иваном Сукмановым ничего больше не оставалось делать, как только бежать с фронта. Яков не мог не посвятить в свои замыслы Поединка.
А Поединок не мог отстать от Якова.
Между тем ни Яков Бушуев, ни тем более Денис Поединок даже и не подозревали о том, что побег этот был продуман и подготовлен в деталях не кем иным, как Иваном Сукмановым задолго еще до событий, связанных со знаменитыми листовками. Оба сукмановских спутника решительно ничего не знали о том, что вот уже около полугода Иван Сукманов был тесно связан с одной из нелегальных фронтовых большевистских организаций и что всего-навсего за неделю до всех этих событий ему было поручено развернуть широкую революционную агитацию в 4-м Сибирском казачьем полку. Полк этот до сих пор считался наиболее реакционным в 10-й армии, а потому действовать надо было здесь с особой осторожностью и тактом, да и не кому иному, а только своему же рядовому казаку. Всех, кто не являлся сородичем и не имел на погонах отличительного вензеля этого полка, казаки с Горькой линии глубоко презирали и никогда не доверяли чужаку независимо от его рода оружия и даже чина. Таковы были традиции, издревле укоренившиеся среди этого самолюбивого, наивного и храброго войска.
Подпольная фронтовая партийная организация доверяла Ивану Сукманову и рассчитывала на длительную его работу в полку. Однако события, принявшие крутой оборот, вынудили Ивана Сукманова скрыться и увлечь за собой товарищей, оставлять которых на произвол судьбы он не хотел и не мог. Правда, Иван Сукманов не особенно был огорчен столь быстрым самоустранением от той огромной, горячей и увлекательной работы, что предстояла ему в полку, так как основное и главное, как ему казалось, было уже им сделано. Судя по тому, что после трехкратного довольно-таки тщательного обыска офицерам разведки не удалось обнаружить в позиционных землянках ни одной из двухсот разбросанных Яковом листовок, письма большевистского партийного комитета были доставлены по адресу, и расставаться с ними никто из казаков уже, видимо, не хотел. А это говорило о многом.
Наконец сами обыски и крайне грубое обращение при этом с казаками со стороны офицеров разведки тоже немало способствовали тому глухому и грозному брожению умов, которое началось среди сибирского казачества после зачитанных до дыр и уже почти наизусть заученных листовок. В партийной организации, куда обратился Иван Сукманов в канун побега, ему посоветовали как можно скорее попытаться пробраться в глубокий тыл.
Ивана Сукманова снабдили явкой на одну из законспирированных квартир в районе Нарвской заставы Петрограда, и он, ни слова не говоря пока об этом своим спутникам, повел их на следующую же ночь за собой.
Тронувшись вслед за Иваном Сукмановым в этот нелегкий и далеко не безопасный путь, Яков Бушуев с Поединком были уверены, что все они направляются прямо восвояси – в родные станицы, на Горькую линию, мало задумываясь над тем, что ждет их в далеком и родном краю и как отнесется к самовольному возвращению их с фронта станичное общество.
На двенадцатый день путники выбрались из болот Полесья на железнодорожное полотно к разъезду номер 49. На этом разъезде, при содействии стрелочника со странной фамилией или, может быть, прозвищем Шайба, Иван Сукманов, как его предупредили в подпольном фронтовом комитете, должен был устроиться сам и устроить своих товарищей в качестве кондукторов на одном из полувоинских-полугражданских товарных составов, следующих прямым назначением на Петроград. По соображениям конспиративного порядка Сукманов не посвящал своих спутников во все эти детали. И потому Яков с Денисом были немало удивлены, когда незнакомый им стрелочник принял их столь приветливо, как можно было принять только давно знакомых, желанных гостей. Обосновавшись в сторожке стрелочника, спутники провели здесь двое суток, отдохнув после долгого изнурительного странствия по бездорожью Полесья. Вечером па третий день стрелочник свел их с неизвестным им человеком, судя по форме и знакам отличия, инженером-путейцем, который снабдил всех троих беглецов железнодорожными документами, из которых явствовало, что все три спутника по побегу являются теперь железнодорожными служащими, кондукторами, сопровождающими эшелон товарных вагонов, груженных лесоматериалами, следующий на Петроград. Нашлась у стрелочника для всех троих и соответствующая одежда, переодевшись в которую фронтовики вдруг обрели сугубо гражданский и мирный вид. Вместо потрепанных, грязных, опостылевших за годы войны шинелей на них были плотные, ловко сидевшие ватные куртки. Вместо папах – круглые кондукторские шапки под каракуль. Кроме того, каждый из них получил по казенному, правда, довольно потрепанному и замызганному тулупу, который полагался товарным кондукторам во время маршрутных поездок в зимнюю пору.
А на четвертые сутки рано утром бывшие фронтовики, а теперь кондукторы распрощались с гостеприимным стрелочником и отбыли с проходящим железнодорожным составом, к которому было прицеплено на разъезде десять груженных лесом вагонов, прямым маршрутом на Петроград…
Как в полусне, в полузабытьи, жила последние два года Наташа Скуратова в отцовской усадьбе. С удивительным равнодушием смотрела она на окрестный мир, словно в нем потускнели вдруг все его былые краски, звуки и запахи, столь пленявшие ее прежде. Старый родительский дом, некогда казавшийся ей уютным, теплым и милым сердцу гнездом, теперь не вызывал в ее душе ничего иного, кроме чувства серой, будничной скуки и уныния. Безучастно и холодно смотрела она на все: на самодурство выжившего из ума отца и на чудовищное скопидомство матери, на запустение одичавшего за последние годы приусадебного фруктового сада и на беспорядок з пустых, неопрятных комнатах барского дома.
После разлуки с Алексеем Алексеевичем Стрепетовым Наташу будто кто подменил. И будь бы ее родители чуть повнимательней, они бы заметили в дочери немалые перемены. Она потускнела, свернулась, как запоздалый цветок, прихваченный ранним инеем. Она почти разучилась смеяться и не вставала, как прежде, чуть свет по утрам, а валялась до полудня в постели. Она не пропадала в погожие летние дни, как бывало, с утра до вечера в степи или в роще в поисках ягод или грибов, а сидела затворницей в комнате с закрытыми ставнями. Любившая прежде морозную вьюжную зиму, не пропускавшая ни одного дня, чтобы не походить по заснеженным полям и перелескам на лыжах или не прокатиться в лунную зимнюю ночь с отцом на резваче в станицу, Наташа теперь утратила былую охоту даже к этим своим невинным развлечениям. Все свободное время она проводила за чтением. Читала все, что попадалось под руку в небогатой отцовской библиотеке. И часто, задумавшись над раскрытым томиком Пушкина, она вдруг загоралась вся от внезапно вспыхнувшего в ней душевного света и не могла без сердечного трепета и тревоги читать грустные пушкинские строки вроде тех, которые когда-то написал ей в прощальной своей записке Алексей Алексеевич:
Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль.
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Безразличное отношение родителей к ее душевному неустройству не обижало, а оскорбляло Наташу. Но и к этому со временем она привыкла и перестала в конце концов замечать своих родителей точно так же, как не замечали они ее.
Старый Скуратов, забыв очень скоро о трагической гибели своего единственного сына, жил, как и прежде, своими барышническими страстями. Он по-прежнему путался с какими-то темными степными коновалами или явными конокрадами, без конца менял, покупал и перепродавал лошадей, мастерил при помощи дошлых, полуобрусевших аткаминеров сомнительные конские паспорта и подложные расписки, принимая у себя в доме каких-то развязных и нагловатых, не очень чистоплотных джигитов. А постаревшая, неопрятная, вечно злобствующая Милица Васильевна носилась с утра до вечера из кухни во двор, со двора в кухню, непристойно бранила прислугу за нерадение к барскому добру и без конца пересчитывала в подвале какие-то банки с вареньем.
Так вот и жила Наташа Скуратова эти последние годы, оставленная в начале войны Алексеем Алексеевичем Стрепетовым в полном одиночестве. Она не знала, любит ли он ее. Ведь он никогда не говорил ей об этом, даже в прощальном своем письме перед бесследным исчезновением из мятежного полка. «И если суждено еще будет нам с Вами когда-нибудь встретиться, я расскажу Вам многое, и Вы, надеюсь, поймете и оправдаете меня тогда, чего не сможете сделать сегодня»,– писал ей Алексей Алексеевич. И Наташа, наизусть заучившая эту прощальную стрепетовскую записку, чаще всего вспоминала почему-то эти слова и больше всего думала о них, никак не понимая их подтекста, хотя и чувствовала, что какой-то скрытый смысл в этой фразе имеется. Много и часто, то хорошо, то дурно думая об Алексее Алексеевиче, Наташа не понимала одного: как он мог, любя ее, бесследно исчезнуть на целые годы, не найдя способа сообщить ей за все это время хоть что-нибудь о себе. «Значит, все это вовсе не то, за что я это все принимала…»– все чаще и чаще думала с горечью Наташа.
Время шло. Проходили чередой дни, похожие один на другой. Стрепетов не подавал о себе никаких вестей. О нем, как, впрочем, и погибшем Аркадии, совсем изредка говорили в скуратовском доме, но всегда при этом полковником произносились о племяннике жестокие, нехорошие слова. Это обижало и раздражало Наташу. Не рассчитывая уже на какой-нибудь слух об Алексее Алексеевиче, она все же не переставала думать о нем, не могла позабыть ни его грустной, рассеянной улыбки, ни тревожного и пытливого взгляда. С надеждой прислушивалась она к звону бубенчиков какой-нибудь запоздалой тройки, мчавшейся по тракту мимо усадьбы, холодела при мысли о том, что вот так вдруг прискачет как-нибудь среди ночи и он…
А однажды, заглянув поутру в зеркало, Наташа ахнула. Боже мой, что же с ней сталось?! Впервые за эти три года она увидела как будто чужими глазами свое потускневшее, утомленное лицо и испугалась. С изумлением, с тревогой приглядываясь к своему отражению, она с не меньшей тревогой и изумлением огляделась затем и вокруг себя. Вконец постылыми, серыми, скучными показались ей давно не беленные стены комнаты, старая пыльная мебель, туалетный столик, заставленный пустыми флакончиками из-под дешевых духов, коробочками из-под кремов и пудры и прочими безделушками, в которых давным-давно не было решительно никакой нужды.
А за окном красовалось золотое погожее утро ранней осени. Белые, как лебеди, гуси полоскались в пруду. Шестнадцатилетняя дочка кухарки – Маша, здоровая, сильная, гибкая девушка, легко и плавно ступая босыми ногами, несла на коромысле полные ведра воды и беспричинно улыбалась чему-то. Озорной, весь в репьях пес Раскатайка, заигрывая с Машей, падал перед девушкой, положив на вытянутые впереди себя лапы лохматую морду, и притворялся спящим, а затем вскакивал из-под босых Машиных ног и, отбежав вперед, снова ложился в той же позе, весело поглядывая на улыбающуюся девушку своими лукавыми каштановыми глазами.
Накинув на ночную рубашку легкий ситцевый халатик, захватив с туалетного столика гребенку, сдернув на ходу со спинки кровати полотенце, Наташа выскочила по черному ходу на крылечко и первая поздоровалась с идущей мимо Машей.
– Машенька, здравствуй!– крикнула Наташа, приветливо махнув девушке полуобнаженной тонкой рукой.
– Здравствуйте, барышня. Чего это вы сегодня ни свет ни заря?– удивленно сказала Маша и, продолжая улыбаться, остановилась, слегка согнувшись под коромыслом.
Раскатайка, забыв про свою забаву, тоже присел на задние лапы рядом с девушкой и с таким же веселым недоумением, как и она, смотрел на Наташу.
– Ты еще пойдешь за водой?– спросила Наташа девушку.
– А то как же. На кухню два-три коромысла. И астры надо полить.
– Ну тогда и я сейчас спрошу ведра у мамы. И будем вместе с тобой воду носить.
– Пожалуйста, если охота…
– Сию секунду, Машенька… Я тебя догоню,– сказала Наташа, тотчас же скрывшись за дверью.
Маша, сделав еле заметное недоуменное движение левым плечом, пошла все той же легкой, танцующей походкой дальше, а Раскатайка, склонив набок свою лохматую голову, остался сидеть на месте, не спуская своих лукавых каштановых глаз с двери, за которой скрылась Наташа.
Через какие-нибудь четверть часа обе девушки, забыв про оставленные на берегу ведра, сидели рядышком на мостках и, совсем как дети, весело и беспечно болтали ногами в студеной воде.
– Это худо – быть неграмотной, Машенька,– продолжая давно начатый разговор, строго сказала Наташа.
– Куды хуже, барышня…
– Хочешь, я тебя обучу?
– Што вы, барышня… Да ить я на хутор, зачем не видишь, от вас уеду.
– А на хуторе школы нет?
– Школа-то с прошлого года значится, да вот учителя – сбились с ног – найти не можут.
– Что ты говоришь, Машенька?! Школа без учителя?
– Не школа – сирота она у нас, барышня.
– А что, если я учительницей к вам поеду?
– Пожалуйте, коли не шутите…
– Вполне серьезно говорю, Машенька.
– Скучно только у нас вам покажется.
– Не скучнее, чем здесь, надеюсь.
– Ну, тоже ить, сравняли барский дом с хутором! Хуторские горницы – не ваши хоромы.
– Эх, Машенька, знала бы ты, как мне надоели эти хоромы.
– Это в таком-то раю красоваться вам надоело?
– Не смотрела бы ни на что…
– Ну, значит, взамуж пора вам, барышня.
– А ты откуда знаешь?
– Знатье известное. Не сидится девке на месте – подавай жениха невесте.
– Неправда. Я о женихе и не думала…
– Думой тут не поможешь, барышня.
– Глупости говоришь, Машенька.
– Все может быть, барышня. Дура-то я отменная. Это правда.
– Никакая ты не дура. Наоборот.
– Нет, дура. Кабы умной была – не видать бы девкам меня на нашем хуторе.
– Вот как? А куда бы ты делась?
– В город Ирбит бы уехала.
– Почему же в Ирбит?
– Така уж планида мне нонче падала…
– Что же бы стала ты делать в Ирбите, Маша?
– Как что? Жить…
– Где же?
– С купцом.
– С каким купцом?
– С которым бежать зимой собиралась.
– Как бежать?
– Ну, как девки бегут, коли благословения матушка не дает? Собралась бы ночью, перекрестилась на божий храм – и поминай как звали…
– Погоди. Да он что же, сватался за тебя?
– Не сама же я к нему напросилась. Смешная вы, барышня.
– Когда ж это было?
– Зимой. На Никольскую ярманку. Я с подружкой Дашей Немировой в станице гостила. Вот он там меня и облюбовал. Глаз не сводил. Сластями запотчевал, ешь – не хочу. Соболью шубку сулил. Винцом начал баловать. У меня – голова кругом. Едва с собой совладала.
– И хорош собой?
– С лица не воду пить.
– Все же?
– Как вам сказать? В годах. С бородкой по колен. А так – ничего.
– Ты с ума сошла, Машенька. Разве он тебе пара?
– А што?
– Ну как што? В годах. Борода до колен. Да ведь ты-то совсем еще ребенок.
– Не скажите, барышня…
– Однако же. Тебе – шестнадцать, ему – небось под пятьдесят. Это как-никак разница.
– Зато в соболях бы теперь по городу Ирбиту ходила.
– Вот ты какая! Что же тебе тогда помешало?
– Я же вам сказала – дура была.
– А теперь поумнела, что ли?
– Не знаю, барышня. Не похоже.