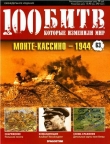Текст книги "Горькая линия"
Автор книги: Иван Шухов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Но подзадоривать его уже, в сущности, было незачем, а тем более теперь, когда старик воочию убедился, с каким нескрываемым восторгом смотрел на строевого коня Федор. А этого уже было вполне достаточно для того, чтобы, мысленно сотворив краткую молитву в честь Николая-угодника, осенить себя крестным знамением, а затем открыть торг.
Так Егор Павлович и сделал.
Вопреки ярмарочным правилам, старик на сей раз пренебрег даже непременной в таких случаях пробой строевого коня под седлом и сразу же после осмотра жеребца на месте приступил к сложным переговорам с надменным аткаминером о цене.
Между тем аткаминер Кенжигараев, окруженный группой степных аксакалов, волостных управителей и баев, стоял все время несколько поодаль от занятых осмотром коня станичников. Он, видимо, был уверен, что его жеребец таким покупателям будет не по карману, и потому не особенно тревожился за смотровый исход. Но теперь, заметив выступившего из казачьего круга покупателя, Кенжигараев тоже, в свою очередь, подался вперед и на вопрос Егора Павловича о цене ответил не сразу. С присущей степному человеку медлительностью этот именитый и важный владелец полукровного жеребца сначала не спеша почесал, приподняв тюбетейку, бритую голову. Затем искусно сплюнул сквозь зубы в сторону и только тогда сказал с деланным равнодушием:
– Цена без запросу. Два ста с четвертной.
– Ого, крепко завернуто,– не то испугавшись, не то восхищаясь, сказал Егор Павлович и оглянулся на стариков.
– Недешево. Понимаю. Но цена, как говорится у русских, по товару, а товар налицо…– ответил на великолепном русском языке именитый владелец лошади.
– Товар товаром. Про товар спорить не стану. Товар, можно сказать, подходящий… Но вера у нас, господин кыргыз, с вами разная, а ведь бог-то один. Под одним господом всем миром ходим…– начал было издалека Егор Павлович, не зная, как подступить к делу. Но, тут же сбившись и не сумев закончить своей сложной дипломатической мысли, он отрезал:– Бога ты, видать,
не шибко боишься, восподин бай. Надо же, таку цену заломил и не охнул!
– На бога надейся, а сам не плошай. Тах ведь, кажется, говорится у русских.
– Ну ладно, ладно. Как у нас ни говорят – все наше… Только вот что скажу, восподин кыргыз, нам с тобой попусту-то калякать здесь нечего. Ты давай говори мне делом.
– Я же чистым русским языком сказал, кажется. Моя цена без запросу.
– Стало быть, две с четвертной?
– В обрез.
– Без уступу?
– Ни копейки.
– Не раскаешься?
– Погожу. Они замолчали.
Насторожились за спиной старика Бушуева одностаничники. Притихли и баи с белобородыми степными патриархами, стоявшие позади аткаминера.
Станичникам было уже ясно, что ни на какие уступки аткаминер не пойдет, а у их покупателя таких бешеных денег, разумеется, не найдется. По карману ли такой конь Егору Бушуеву?! Если бы даже старик, поддавшись соблазну, и решился из присущего ему упрямства устоять перед этой неслыханной ценой и наградить полюбившимся конем сына, вряд ли он сумел бы расплатиться с аткаминером кредитными билетами на такую сумму.
Наступила минута крайне напряженного и очень тягостного для всех безмолвия. Тертые ярмарочные завсегдатаи и зеваки затаив дыхание ждали с секунды на секунду провала скандального торга. Скандал, как всегда, возникал со словесной перепалки между покупателем и владельцем. Затем – что часто бывало на ярмарках – он переходил в бранный ураган между многочисленными сторонниками того и другого; и нередко все это завершалось грандиозным побоищем, в котором больше всего перепадало казахам, новоселам и цыганам.
Насторожившиеся станичники мысленно готовы были уже к такому всеярмарочному бою, а некоторые из них даже и желали его. Старики, окружившие Егора Бушуева, крепко, до хруста в суставах, сжали в руках витые из таволги черни армейских плетей. А молодые служаки еще крепче держали в ладонях рубчатые эфесы шашек.
Но к огромному разочарованию ярмарочных зевак все вышло на этот раз по-иному. В эту решающую минуту Егор Павлович, оглянувшись на одностаничников, вдруг высоко занес над головой прямую, как меч, руку и, на полушаг приблизившись к аткаминеру, сказал:
– Ну, в добрый час. Рискую, тамыр.– И старик с такой яростью ударил своей пятерней по протянутой к нему ладони Кенжигараева, что именитый аткаминер пошатнулся. Удар двух ладоней, прозвучавший ружейным залпом, решил дело. И строевой конь Кенжигараева перешел в руки Егора Павловича Бушуева.
Под одобрительный гул и изумленные восклицания одностаничников принял Егор Павлович из рук Кенжигараева узаконенную на купленного коня расписку. Огласив во всеуслышание конский паспорт и сверив с конем обозначенные в расписке приметы, старик бережно свернул драгоценный документ и солидным жестом заложил его во внутренний карман потертого своего парадного мундира. Затем, не спеша, старик извлек из-за широкого опойкового голенища старательно завернутый в красный плат старенький, видавший виды бумажник и, поплевав на пальцы, принялся на глазах у всех отсчитывать кредитные билеты.
Федор, стоявший все время несколько поодаль от толпы, окружавшей его отца и аткаминера, занят был теперь обласкиванием строевика. Он уже скормил лошади половину пшеничного калача и кусок завалявшегося в кармане сахару. Конь с покорной доверчивостью тянулся умной мордой к новому хозяину. И Федору было приятно ощущать на ладони щекочущее прикосновение теплых, мягких, ласковых губ коня.
Забавляясь с конем и вполголоса наговаривая ему всякие ласковые слова, Федор насторожился, услышав позади себя знакомый, по-барски певучий голос сотника Скуратова.
– За мной, господа. За мной!– крикнул кому-то Аркадий Скуратов.
Обернувшись на этот оклик, Федор увидел сотника. В щегольской военной форме, гибкий и подтянутый, офицер не шел, скорее всего бежал, размахивая стеком, прямо на Федора. По пятам за Скуратовым следовало трое, по всем признакам, залетных городских людей в штатском.
«Что им от меня надо?»– с тревогой подумал Федор, машинально стиснув в руке волосяной чумбур. Затем он повернулся лицом к коню и сделал вид, что не заметил ни сотника, ни его спутников.
Между тем Скуратов тоже как будто не сразу заметил Федора. Явно взвинченный чем-то и необыкновенно возбужденный сотник еще более взволновался при виде коня, очаровавшего его и всех его спутников формой и мастью. Это обстоятельство, с одной стороны, и льстило Федору, но в то же самое время и встревожило его. Федору известно было, что Скуратов толк в лошадях знал и восхищаться конем зря, конечно, не стал бы.
– Нет, вы обратите внимание, господа, на удивительную гармонию форм и линий!– запальчиво проговорил Скуратов, скользя ладонью по атласному крупу коня и по подрагивающему его бедру.
– Да. Красиво, изящно…– неопределенно промычал один из трех его спутников, толстяк с потухшей сигарой во рту.
– Нет, нет, господа, я положительно влюблен в эту лошадь. Я положительно влюблен…– запальчиво твердил Скуратов.– А еще утверждают, что природа не терпит совершенства. Болтовня. А это разве не пример воплощения классической красоты и полнейшего совершенства?!
– Эта лошадь напоминает мне толстовскую Фру-Фру из «Анны Карениной»,– сказал тот же полусонный толстяк.
– Извините, у Льва Толстого – кобыла, а это – жеребец! – возразил толстяку один из спутников сотника.
– Вот именно… – с живостью подхватил Аркадий Скуратов, хотя он никогда не читал «Анны Карениной» и не имел никакого представления о Фру-Фру.
– Нет, господа, конь недурной. Определенно, недурной…– опять промычал толстяк, приподнимая свои сонные веки.
– Да. Да. Да. Превосходный экземпляр!– с восторгом воскликнул Скуратов.– Собственно, если хотите – даже не конь. Это сплошной звук, господа. Понимаете – музыкальное произведение! Конечно, такой жеребец не годится для рыцарских турниров под лонжирным седлом. Но я, армейский офицер, ценю в нем прежде всего его очевидные боевые качества. Именно такими лошадьми рекомендовал комплектовать кавалерийские части сам Джемс Филлис…
– Позвольте, позвольте, сударь. А кто такой этот ваш Джемс Филлис?– опять, как бы проснувшись, пробормотал толстяк с потухшей сигарой.
– Боже, вы не знаете Джемса Филлиса?!
– Не имею понятия…
– Но как же можно не знать этого величайшего в мире английского мастера верховой езды? Да ведь он же создал собственную систему выездки, признанную лучшей в мире,– тоном глубокого эрудита пояснил, кокетничая своими познаниями, сотник Скуратов.
– Ну и черт с ним, с вашим Джемсом,– сказал толстяк.– Я вижу одно. После долгих скитаний по этому азиатскому торжищу мы, кажется, нашли то, что искали. Так в чем же дело? Деньги на бочку. С хозяином – по рукам. А засим и копыта строевому коню можно обмыть шампанским…
– Совершенно верно. Совершенно верно, господа. Обмыть… И именно шампанским,– поддержал толстяка один из скуратовских спутников.
– Надеюсь, вы не против того, чтобы приобрести такого коня, сотник?– учтиво спросил Скуратова толстяк.
– Разумеется, нет. Я же сказал. Я же от него без ума…– проговорил с горячностью Скуратов.
– В таком случае открываем торг,– бойко объявил толстяк, почему-то распахнув при этом свой легкий мышиного цвета плащ и лихо сдвинув набекрень широкополую фетровую шляпу.
– Я готов торговаться,– суетясь вокруг жеребца, ответил Скуратов. Но затем, с недоумением оглядевшись вокруг, он спросил:– Позвольте, а где же хозяин?
– Я здесь, ваше благородие!– отозвался на вопрос Скуратова Федор Бушуев. И он, не выпуская из левой руки обмотанного вокруг запястья чембура, выступил из-за головы коня, став перед сотником во фронт, вытянув по швам руки.
– Бушуев?!– близоруко прищурив глаза, спросил с изумлением сотник, вглядываясь в окаменевшее лицо Федора.
– Так точно, я, ваше благородие.
– Интересно. Интересно… С каких же это пор ты стал хозяином этой лошади?
– С нонешнего дня, ваше благородие.
– Позволь, позволь, голубчик. Да ведь этот конь, если я не ошибаюсь, принадлежит аткаминеру Кенжигараеву?
– Так точно, принадлежал, ваше благородие, Кен-жигараеву. А теперь эта лошадь моя.
– Вот как?! Это каким же образом?
– Очень просто, ваше благородие. Конь куплен за наличный капитал моего родителя…
– Гм… Любопытно, это на какие же дивиденды?
– За два ста с четвертной кредитными билетами, ваше благородие.
– Ого! Да у тебя родитель-то, видать, с капитальцем?
– Никак нет, ваше благородие. Он теперь по случаю проводов меня в полк при двух коровенках на семь душ семейства из-за этого коня остался и в долги ишо по горло залез…
– Ага. В долги по горло залез, а сына – нижнего чина – на офицерского коня решил посадить. Похвально. Похвально.
– Рады стараться, ваше благородие,– ответил Федор не моргнув глазом.
Холеное, слегка припухшее от хмеля лицо молодого Скуратова, покрывшись мертвенной бледностью, обрело вдруг строгое, сосредоточенное выражение. И только тонкие, мелко подрагивающие в уголках губы да тяжелая неподвижность полусмеженных век говорили о последней грани внешнего спокойствия и самообладания, за которой мог уже последовать неизбежный взрыв.
Глядя потемневшими от тревоги глазами на сотника, Федор чувствовал, что встреча эта к добру не приведет, и, ко всему готовый, стоял, вытянувшись, перед офицером, твердо решив про себя одно: удержать в своих руках купленного строевика любой ценой. Он ждал, что после минутного оцепенения, в котором находился сейчас Скуратов, офицер схватит его за горло или, может быть, ударит наотмашь по лицу, как бил он на смотру казаков, у которых обнаруживал непорядок в снаряжении…
И вот, как бы очнувшись от забытья, сотник бросил на Федора удивленный, яростный взгляд, а затем с такой стремительностью приблизился к нему вплотную, что Федор отступил назад и, слегка побледнев при этом, замер.
Однако Скуратов вдруг весь как-то обмяк, и подобие жалкой улыбки на мгновение как бы осветило его одутловатое лицо.
– Послушай, Бушуев, нам с тобой ссориться не к лицу,– вполголоса, мягко и примирительно сказал сотник.– У нас впереди с тобой длинная и нелегкая дорога. Мы оба пойдем с тобой в Верный в конном строю. И я – твой командир – хотел бы пройти по этому маршруту вместе с тобой, нижним чином, душа в душу: без неприятностей, бед и обид… Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Так точно. Вникаю, ваше благородие.
– Так вот, Бушуев… Во имя благополучия в нашем походе и ради братского моего отношения к тебе – об этом я очень прошу тебя – можешь ли ты уступить мне коня?
На этот вопрос ответил Федор не сразу. Помедлив, пожевав запекшимися губами, не сводя лихорадочно блестевших темных глаз с лица Скуратова, он наконец сказал:
– Никак нет, ваше благородие. Не могу…
– Послушай, голубчик. Я предложу взамен тебе одну из лучших строевых лошадей из табунов моего отца. Да. Да. Одну из лучших. На выбор. Согласен? – взволнованно, не переводя дыхания, проговорил Скуратов.
– Никак нет. И на менову несогласный. Лучше не просите. Не могу, ваше благородие.
– Золотом?!
– Ни золотом, ни кредитками…
– Четыреста?!
– Я, ваше благородие, не барышник. Не цыган. И не прасол. И тыщи не возьму…
– Так… Стало быть, это твое окончательное слово?– глухим подавленным голосом спросил Скуратов, пополам согнув в руках свой упругий стек.
– Так точно, ваше благородие. Я бросаться словами на ветер непривышный…
– А не передумаешь?
– Никак нет. Мы люди самостоятельные… Они замолчали.
Скуратов стоял потупясь. И Федор, не спуская с сотника своих по-азиатски сузившихся и чуть-чуть косивших от гневной решимости глаз, видел, как снова мелкая дрожь прошла по тонким, бескровным губам Скуратова, как дрожали фиолетовые его веки. Федор понял, что надо было уходить, и смело спросил:
– Разрешите ехать домой, ваше благородие? Скуратов ответил не сразу. Он помолчал, поспешно, нервным движением руки коснулся зачем-то своих висков и только потом очень глухо, вполголоса протянул:
– Ну что ж… Можешь ехать. Можешь…
Федор, браво козырнув сотнику, лихо взметнул на коня, дал ему шенкелей и тронулся прочь, не оглядываясь на Скуратова и его спутников.
Как-то под воскресенье, вернувшись с неудачной беркутиной охоты, организованной волостным управителем Альтием, пристав Аникий Касторов залил. Спьяна он продал за полцены Венедикту Павловичу Хлызову-Мальцеву своего саврасого иноходца, подарил ни с того ни с сего своему денщику Дениске старую гармошку-ливенку и тут же выгнал денщика из дому. Дениска в тот же вечер продал дарованную ему ливенку подгулявшему новоселу с одного из прилинейных отрубов, а на вырученные деньги жестоко напился в шинке у бабки Жичихи. Пропьянствовав дня три, Дениска пришел наконец в себя и, поселившись в Соколинском краю, в избе Кирьки Караулова, стал терпеливо выжидать выздоровления своего барина. Дениска знал, что пристав по окончании запоя вновь вытребует его к себе, и все начнется сначала.
Станичники при встрече с Дениской, сочувственно покачивая головами, спрашивали:
– Ну как, драбант, не выздоровели их благородие?
– Никак нет, господа станишники. Девять ден, как кобель, водку лачет,– отвечал мрачный денщик.
– Ух ты, сукин сын. Как ты смеешь не почитать начальство?!– сердились станичники.
– Черт его не почитал, пьяницу.
– Смотри, варнак. Держи язык за зубами. А то добарахлишься – век плакаться будешь.
– А я не из боязливых,– беспечно отмахиваясь от назойливых стариков, отвечал денщик.
Не впервые он слышал эти стариковские угрозы. Не впервые выгонял его вон страдавший запоями барин. И, как правило, все это завершалось благополучным возвращением драбанта на свое место, где он чистил по утрам ваксой высокие щегольские сапоги пристава, а по вечерам играл с барином в подкидного дурака и рассказывал плоские армейские анекдоты.
На десятый день беспробудного пьянства пристав начал приходить в себя. Как всегда по окончании запоя, чувствовал он себя хуже некуда. И вот утром, проснувшись от тяжелого сна, полного дурных сновидений, Касторов, еще не совсем придя в себя, увидел появившегося в дверях станичного десятника Бурю.
– Разрешите доложить, ваше благородие,– сказал, вытянувшись перед приставом в струнку, Буря.
– Что опять там такое? Докладывай.
– В крепости нарочный из войсковой управы, ваше благородие!
– Ну и что? Говори, дурак, толком…
– Так что их высокопревосходительство наместник Степного края, наказной атаман линейного Сибирского казачьего войска генерал-губернатор Сухомлинов изволили выехать со свитой на Горькую линию!– не переводя дыхания, отрапортовал Буря.
Это известие до того ошеломило пристава, что он тотчас протрезвел и, вскочив, как ужаленный, заметался по комнате в поисках парадного кителя, забыв о Буре.
– Денис! Драбант!– кричал пристав.
– Разрешите доложить, ваше благородие, что драбанта вы выгнали и его в вашем доме нету,– осмелился напомнить Касторову Буря.
– Пошел вон, дурак, и доставь мне немедля драбанта!– заорал Касторов и, наскоро натянув на себя белый парадный китель и пыльные, давно не чищенные сапоги, ринулся со всех ног к станичному правлению.
Известие о выезде на Горькую линию наместника края всполошило станицу. Казаки, побросав в степи брички, сенокосилки, полузаметанные стога и весь свой нехитрый скарб, попадали на своих лошадей и карьером слетелись в станицу. Народ, поднятый набатом, заполонил площадь. Потные, запыленные всадники – одни в седлах, другие на нерасхомутанных лошадях, только что выпряженных из конных граблей и сенокосилок,– спешно выстраивались во фронт перед станичным правлением, стараясь принять относительный боевой порядок. Площадь гудела от людского говора, от восторженных воплей казачат, примостившихся на деревьях станичного сада, от звонких, как серебряные колокольчики, девичьих голосов.
А когда на высоком крыльце станичного правления показался высокий, необыкновенно важный и представительный станичный атаман в своем парадном мундире, а за ним нахохлившийся пристав Касторов, несметная толпа, забившая просторную площадь, притихла и замерла, как бы привстав на цыпочки.
Трижды ударив булавой с серебряным набалдашником о пол крыльца, атаман торжественно произнес:
– Господа станичники и госпожи бабы! Объявляю вам радостное известие. Сегодня их высокопревосходительство наместник Степного края, наказной атаман наших войск генерал-губернатор Сухомлинов изволили выехать со свитой из города Омска на предмет инспекторского смотра по Горькой линии.
И слова атамана потонули в дружном вопле выстроившихся во фронт всадников:
– Ура-а-а!
Возбужденные боевым кличем всадников кони тревожно запрядали ушами, заперебирали ногами, взвились под некоторыми казаками на дыбы.
– Доблестное сибирское казачество!– продолжал торжественным, засекавшимся на высоких нотах голосом атаман.– Прославленные усачи с Горькой линии! Ветераны ферганских и кокандских походов! Только мы с вами достойны такого высокого визита, коим соизволил осчастливить нас с вами наш наказной атаман. Встретим же их высокопревосходительство, как требует того их чин и как положено встречать нам нашего наместника согласно артикула…
– Ура!– рявкнули во всю силу своих прокаленных степными ветрами глоток старые казаки.
А после того как атаман отдал деловые, строгие приказания о форме и порядке встречи наместника, бросились казаки и казачки по своим домам выполнять распоряжения властей, наводить образцовый порядок в домах и на пыльных, давно не метенных улицах.
Несмотря на циркулярное распоряжение наместника края, потребовавшего лет пять тому назад всеобщего озеленения линейных станиц, садов и палисадников за это минувшее пятилетие в станицах не прибавилось. И атаман Муганцев, вспомнив сейчас об этом циркуляре Сухомлинова, пришел в отчаяние.
– Как же нам быть?– озабоченно спросил он пристава Касторова.– Вы представляете, чем может кончиться визит наместника, если он вспомнит о своем приказе?!
– Представляю. Уж нам-то с вами, господин атаман, тогда несдобровать…– согласился пристав.
– Какой же выход?
– Выход один. Обязать казаков немедленно организовать искусственное древонасаждение,– быстро нашелся пристав.
– Это каким же образом?
– Очень просто. Нарубить берез и украсить ими улицы, как это принято делать на троицу. Уверен, что губернатор не станет разбираться, настоящие это деревья или липовые.
– Вы в этом уверены? Имейте в виду, что наместник придирчив…
– Я это знаю. Но в данном случае он просто не додумается о нашем фокусе. Зрение у него – не ахти, к счастью. А на ощупь, надеюсь, он пробовать наши березки не станет.
– Черт его знает, а вдруг взбредет ему в голову проверить…– усомнился атаман, но тут же, оживившись, добавил:– Впрочем, это идея, пристав. Идея. Вообще я заметил, что вы с перепою легки на выдумки.
– Гм… Да. Это со мной бывает,– согласился пристав.
А на другой день все прямые и широкие станичные улицы потонули в густой зелени «выросших» за ночь роскошных садов. Перед каждым домом шумели теперь на знойном ветру огромные полувековые березы, раскинувшие могучие свои ветви над железными крышами пятистенников и крестовых домов станицы.
На площади, поодаль от станичного правления, спешно достраивалась братьями Кирькой и Оськой Карауловыми новая уборная, предназначенная, по замыслу пристава Касторова, для генерал-губернатора и блестящей его свиты. Станичники, окружив плотников, судачили:
– Это же не нужник, воспода старики, а прямо дворец!
– А ты што думал, генерал-губернатор при нужде, как мы, грешные, за наземку спрячется?!
– Это, конешно, не генеральское дело – на денник за нуждой бегать.
– Хороша будочка. Засядешь в такую – и вылезать не захочется…
– Нужник по чину – генеральский,– заметил солидно Буря.
– Правильно,– подтвердил Кирька Караулов, украшавший в это время фронтон уборной искусно вырезанным из фанеры коньком.– Только прежде генерал-губернатора я сам лично в нем опростаюсь.
– Ну, это ты брось, Кирька! Там на што другое, а на это тебя, варнака, хватит. Смотри, и в самом деле не настрами, подлец, в генеральском ватере!– грозно прикрикнул на Кирьку престарелый георгиевский кавалер дед Арефий.
– А в иноземных царствах все крестьянство давным-давно при собственных нужниках состоит. Не то што мы – Азия!– сказал дед Конотоп.
– Правильно, дед. Вот проводим наместника и тебе такой же нужник построим,– сказал Кирька Караулов, подмигивая одностаничникам.
На крепостном плацу вахмистр Максим Дробышев гонял строем маленьких казачат, вырядившихся в полную войсковую форму: синие миткалевые шаровары с алыми лампасами, защитные гимнастерки с погонами и фуражки с красными околышами, надетые набекрень. Дружно и ловко работая обнаженными деревянными клинками, казачата маршировали перед грозным вахмистром в пешем строю, перестраиваясь на ходу в развернутый фронт, в сдвоенные и строенные колонны. Они репетировали свое церемониальное выступление перед наместником края на предстоящем параде линейных полков.
Они замирали в строю по команде «смирно», ели, как могли, глазами вахмистра Дробышева, который разыгрывал теперь перед ними самого генерал-губернатора.
Грозный на вид, неестественно раздувшийся и напыщенный вахмистр Дробышев приветствовал молодых казачат, шагая вдоль фронта:
– Здорово, орлята!
– Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!– дружно орали в ответ казачата, багровея от натужного крика.
Подскочив к одному из левофланговых казачат, неуклюже державшемуся в строю двенадцатилетнему Арсе Караулову, вахмистр орал на парнишку:
– Как стоишь?! Подбери брюхо, подлец. И не разевай рот, а то вмиг тебе за душой слажу!
А вечером измученные строевыми учениями казачата дежурили на станичной каланче и на колокольне, зорко приглядываясь к широкой трактовой линейной дороге, ждали – не покажется ли на ней конный разъезд, выставленный за десять верст от станицы, для того чтобы вовремя предупредить станичников о появлении в степной стороне поезда с генеральской свитой.
Шестые сутки томились в степи от вынужденного безделья и зноя казаки, занявшие выставленные за станицу сторожевые пикеты. День и ночь дежурили близ линейного тракта всадники, не спуская глаз с широкого, подметенного большака. А генеральского поезда не было видно. Свободные от дежурства казаки валялись целыми днями в палатках, смастеренных из самотканых половиков и попон, изнемогая от духоты, от пота и скуки.
– Он, поди, ишо из своих генеральских хором не вылазил, а ты тут мучайся, жди его каждый секунд всю неделю.
– Беда, братцы. Подумать надо, сколько золотых ден потеряли в сенокос…
– То-то и оно, что оставит нас нынче наместник без корму.
– Это как пить дать – оставит.
– Рапорт бы станишному атаману подать. Што он нас тут без дела держит. Губернатор, может, через двадцать ден явится, а ты тут валяйся…
– Попробуй-ка, сунься сейчас к атаману с таким рапортом, он тебе покажет кузькину мать.
– Куды там, об этом, братцы, лучше не заикайся.
– А вот кыргызам – тем, воспода ребята, сейчас лафа. Они и сена вдоволь накосят, и лошадей нашим овсецом откормят,– сказал Пашка Сучок.
– Ясное дело – откормят. Сторожить-то теперь овсы некому,– откликнулся рябой казачишка из соколинцев Афоня Крутиков.
– Ну и пусть кормят на свою башку. За потраву-то мы перед кыргызней, братцы, в долгу не останемся.
– Да уж об этом-то толковать нечего – станишники у азиатов в долгу никогда не были и не будут.
А по вечерам, усевшись вокруг костра, отводили станичники душу в просторных, как родимые степи, песнях.
Пели, уронив на плечи чубатые головы, горестно прикрыв глаза. О, как горько волновали их в такую пору нехитрые узоры слов, как тревожили их сердца рыдающие переливы подголосков… Не песни – целые поэмы знавали наизусть старые казаки, и ладно подпевали им хором молодые.
Соберемтесь-ка, казаченьки, во единый во кружок, Запоем про девку красную, про лазоревый цветок. Эх ты, молодость игровая – буйный ветер в ковыле! Эх ты, девка чернобровая, в кашемировой шале! Вот идет она, качается,– горький стебель-полынок, За ковыль-траву цепляется расписной ее платок. Вот идет она, пригожая, а за нею – сотня вскачь. На снега лицом похожая, а губами – на кумач. Казаки в строю беснуются, да ребятам невдомек: Кем она интересуется, кто ж собой ее завлек?
– Где ты, суженый да ряженый?!– Прокатился в сотне гул. Карабин его разряженный ей подносит есаул.
Подвели коня горячего – вихрем пыль из-под копыт.
– Это што тако бы значило?!– вдруг красотка говорит.
– Сотня, смирно!– Приосанился есаул и ей в ответ:
– Разрешите вам, красавица, передать поклон-привет. Из похода, из сражения не вернулся лишь один… Приказал он с уважением передать вам карабин; Саблю гнутую, точеную, со степным тавром коня;
Плеть, из таволги крученную, серебром отороченные полковые вензеля. Вот седло его печальное с медной птахой на луке; Вот колечко обручальное, что носил он на руке. Все доспехи, все отличия приказал он передать Вам – за чудное обличив, вам – за косы за девичие, За походку и за стать…
Только он уж вам не встретится: свянул кудерь, чуб зачах… Темной ночью не засветится жар в косых от зла очах. Он лежит плашмя, подкошенный пулей в битве роковой, Запыленный, запорошенный иноземною пургой. Он лежит один. И бесится чертом меченым пурга, Ни друзей вокруг, ни месяца, ни подруги, ни врага… Он один. Под окрик ворона над ним вьюги голосят. Волчьи стаи в его сторону глазом огненным косят. Без поры и безо времени наш товарищ боевой Ногу выбросил из стремени, в снег зарылся головой… Ты ж, подруга его верная, нас прости за горький сказ, Красоту вашу, наверное, видим мы в последний раз… Потому что ранней зорькою мы в поход уйдем опять, Чтобы жизнь казачью горькую в чистом поле растерять…– Полк уходит. А девичие затуманились глаза; Словно молнией, обличив озарила ей гроза. Вот стоит она, печальная. На губах – вишневый сок. И слеза ее прощальная глухо падает в песок. Вот стоит она былинкою – краше песни и вина, На груди под пелеринкою брошка-бабочка видна.
Прошумели птицы-стрепеты. Поднялась прострел-трава. Нет, не Есех, казачки, встретите нас вы утром у двора!
А когда кончалась длинная песня и замирали на высоких нотах затерявшиеся в вечерней мгле подголоски, заводил один из бывалых казаков армейскую прибаску и побывальщину.
– Стояли это мы, братцы, в казармах за городом Верным. Как сейчас вижу – ночь месяшна, белым-то бела. Лежу это я после конных учений на нарах, и так у меня что-то свербит на сердце, так свербит. Чего, думаю, это у меня свербит? Смотрю, а в створку белый клубочек – шмыг, и давай по казарме крутиться, и давай крутиться. Крутится и подпрыгивает, крутится и подпрыгивает, как мяч. Во, думаю, притча кака получается… Сел я, вылупил на клубок глаза и вижу: это не клубок, братцы, а неземной красы барышня. Такая красавица – маленько не королева!
– А ты што?
– Ну што. Я, конечно, к ней…
– А она што?
– А она – от меня…
– Настиг?
– Ну, как же настигнешь ее! Настиг, кабы слово из черной магии знал. А я в те поры в этой магии – ни тиньтилили.
– Жалко, што там Трошки Ханаева не было. От этого варнака никакая бы краля не ушла, даже в привидении…
– Воспода станишники,– проговорил, как сквозь сон, Пашка Сучок,– а правда, што при губернаторской свите сам Шерлок Холмс находится?
– Все может быть. Наказной атаман без сыщиков на Горькую линию не поедет…
– Пошто так?
– А по то, што труса празднует…
– Кого это он испугался?
– Как так – кого? Политиков.
– Ну, забарахлил. Откуда они у нас, политики-то?
– А вот из тех самых мест. Ты думаешь, мало их пришло в наши края теперь из Расеи?
– Насчет Расеи – не скажу. А вот в станице они у нас, говорят, водятся,– сказал приглушенным голосом Афоня Крутиков.
– Брось буровить, станишник.
– За што купил, за то и продаю,– сказал Афоня.
– Откуда же они в станице-то? Уж не среди казаков ли?– прозвучал тревожный голос до сего молчавшего вахмистра Дробышева.
– Насчет казаков пока не знаю. А вот на хлызов-ской мельнице, говорят, есть такие,– произнес шепотом Афоня.
– Уж не Салкын ли?– тоже шепотом спросил вахмистр.
– Похоже на него. Говорят, он беглый. С каторги на линию к нам подался. С золотых приисков. С Байкала.
– Стало быть, беспашпортный?
– Пашпорт – што. Он тебе этих пашпортов сам, сколько ты хошь, наштемпелюет. Не в пашпорте дело. А дело в том, што он, варнак, кое-которых казаков сомущать начинат. Понял?!
– Брось ты. Это, к примеру, кого же?
– Попались такие ему, подлецу, на удочку…
– Кто?– горячо дыхнув в самое ухо Афоне, спросил вахмистр.
– Федька Бушуев, восподин вахмистр, у меня на подозрении. Зачастил он к Салкыну по вечерам неспроста. Сами знаете, я на таких делах ишо в полку собаку съел. Я их, этих политиков и смутьянов, за версту чую. Даром бы меня за такие дела ни с того ни с сего вне очереди в урядники не произвели и медали б не дали,– тщеславно заметил Афоня Крутиков.