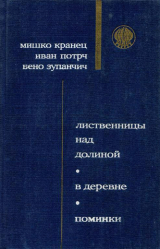
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Штрафела после собрания у Плоя исчез – испарился столь же стремительно, как и возник, в одну ночь. «Гомила жила и жить будет и без Штрафелы!» – считали люди. А Штрафела отправился в Марибор, туда, откуда появился в сорок четвертом году, принеся несчастье Гомиле, и особенно нашему дому. После драки у Плоя, где гомиляне безжалостно его отделали, он какое-то время носился по селу, несколько раз ездил в город, но, судя по всему, и там не нашел своей, Штрафеловой правды, вроде бы звезда его совсем закатилась. Люди толковали, что такого типа, как Штрафела, который пугает всех пистолетом, стоило бы посадить в кутузку, но ничего такого с ним в городе не произошло; однако пистолет ему обратно не отдали, хотя на другое утро Штрафела громыхал у Плоя, что, дескать, пистолет отнять у него никто не имеет права, дескать, пистолет он себе «голыми руками» добыл, а потом чуть не разрыдался, узнав, что оружие увезли в город и передали милиции. Люди убедились теперь, что прошли те времена, когда ворон ворону глаз не выклюет, и неправда, будто по-прежнему есть у Штрафелы в городе своя рука, друзья-приятели, с которыми он якобы вместе землю пахал и связан воедино одной веревочкой. Ничего такого не оказалось и в помине. И если вечером, в канун своего внезапного исчезновения, он клялся у Плоя, что гомиляне увидят, как им придется туго без него, когда ноги его не будет на Гомиле, то чуть погодя, уже порядком выпив и, видно, позабыв обо всем, что говорил раньше, стал болтать, что Гомила для него ровным счетом ничего не значит, а все местные люди мразь и гитлеровские последыши и ему, мол, нечего среди них делать. Он поступит на завод, туда, где и полагается быть настоящему пролетарию. И тут, когда об этом зашел разговор – это уж потом выяснилось, – корчмарь и корчмарка стали во всем ему поддакивать. И корчмарка, приехавшая к нам тоже из Марибора, согласна была с ним – она любила повторять, что только в Мариборе надо жить человеку, то есть человеку ее пошиба, а, значит, и Штрафеле. Там многого можно добиться, и весь приход ничего о том и знать не будет; хоть через забор прыгай, не узнают – город-то велик! Все это Штрафеле пришлось по нутру, но тем не менее он пустил слезу перед уходом на последний ночлег под крышу к Хедлам. Но дома он уже не плакал, плакать пришлось Лизе, когда она вместе с нашими бабами спасалась из дому.
– Проклятая! – ревел на нее Штрафела. – Чего слюни распустила? Песни петь надо, что едешь к настоящим людям, к пролетариям! Слышишь ты и знаешь ли ты вообще, кулацкое отродье, что это значит – пролетарии? Штрафела – пролетарий и ничего не потерял среди этих кулацких и гитлеровских прихвостней на Гомиле.
Он вопил, высунувшись в распахнутое окно, вслед женщинам, и особенно поносил старую Хедловку, да и всю Гомилу. Пусть они не воображают, что отделались от него. Начнется другая революция, кричал он, и тогда он, Штрафела, вернется на горе, черное горе, гомилянам и всей их кулацкой реакции. Тогда все выйдет так, как захочет он, – а теперь он уезжает, но не ради себя, пусть не думают, что он о себе заботится, он уезжает ради них, вкалывать едет, чтоб им лучше было. Он орал, и ночью голос его разносился далеко вокруг, так что слышно было даже у нас, на Топлековине.
И вдруг, точно ножом отрезало – может, сам себя пожалел, – вопли и крики Штрафелы утихли, и утихли надолго, потому что утром его уже не было у Хедлов – исчез, не успело солнышко на небе подняться.
– В городе ему как следует всыпали, – говорила корчмарка каждому, кто между двумя рюмками хотел узнать, что нового слышно о Штрафеле. – Хорошенько всыпали. – И смотрела при этом на мужа.
– Да, – кивал Плой, – да, люди добрые, что ж вы хотите, прошли времена, когда можно было пистолетом народ пугать.
– Бедная Лизика, – нет-нет вздыхала сердобольная душа, которой было жаль своих земляков, – крепко ей досталось. Жаль бабу…
– Ну еще чего. – У корчмарки было свое мнение. – Какова баба, такова ей и слава: Лизика тоже носом крутила, не было ей равных на Гомиле. – Плоиха озиралась вокруг, ища поддержки: – Разве не так? – И, натолкнувшись взглядом на меня, сказала: – Вот пусть Южек расскажет, каково у них было дома! Что она с матерью творила? Разве не так?
Я кивал, не имея сил взглянуть людям в глаза, а, возвращаясь на Топлековину, думал о том, как скоро люди забыли о Марице и об Ольге – те тоже всласть пососали крови у матери, а вышла неправой одна Лизика; но встревать во все это мне не хотелось.
Прошло несколько недель, и вот как-то в воскресенье утром, в самую сладкую пору дня, к Топлекам, задыхаясь, прибежала моя мать. Руки – в одной четки, в другой платок – у нее тряслись, чего раньше я за матерью не замечал, и она долго не могла перевести дыхание, прежде чем сумела выговорить:
– Южек, беги скорей, скорей домой, Лизаня все у нас увезет, все накладывает! Беги скорей!
Она вытирала лицо сперва платком, потом передником; ей было жарко, хотя стоял студеный зимний день.
Топлечка мигом вынесла матери водки, и та сделала несколько глотков, а между делом, как сумела, торопливо рассказала, что эта проклятая Лизаня улучила удобную минуту, когда все ушли в церковь, и пригнала возчика о каким-то еще мужиком, черт их знает, откуда они взялись, наверное, из Марибора. «И подумать только, Штрафелы не было с ними – может, его посадили, как вы думаете?» И вот когда дома никого не было, они стали таскать из дома вещи, и мать спешила скорей рассказать, все подряд.
– А мне люди по дороге и сказали, что дома творится, «Домой, говорят, спешите». Я умолила Гечеву, она тоже возвращалась, та приняла меня к себе в телегу, и успела я ко времени домой. Южек, беги скорей!
Я слышал, как Топлечка начала выражать ей свое сочувствие, и мне ничего не оставалось делать, как идти. А втайне я надеялся, что мать передумает и одна, без меня вернется домой, очень уж она торопилась обратно, то ли хотела видеть своими глазами, что там происходит, то ли просто в ту минуту пожалела самое себя.
– Чего ж удивляться, что такое творится, что посреди бела дня меня могут обобрать, начисто разорить. Да и ты, Южек, мог бы знать, где твой дом, а то вот одна и мыкаешься с девками, никто в грош не ставит. Пока Францл был жив – ох, господи, вечный ему покой на том свете, в этой жизни он хорошего мало видел…
Я оглянулся и хотел было возразить ей, но увидел, что всякие слова бесполезны – мать вытирала передником слезы, лившиеся ручьем, и столь внезапно охватившее меня чувство жалости к ней, когда я решил быть добрее, растворилось. По горло я был сыт этими бабьими слезами – можно подумать, женщины ничего другого и не умели делать. Мы уже совсем подходили к нашему дому, и я различал незнакомый мужской голос, покрикивавший что-то, вроде «Эх, кобылка!»
Этот чужой голос и затем вид чужого мужика, толкавшего нагруженную нашим скарбом телегу по двору, точно он находился у себя дома, взбесил меня; я едва удержался, чтоб не броситься на него, едва сумел заставить себя отойти в сторонку и оттуда поглядеть, как нагружали на телегу наши вещи. Уже совсем собрались было трогать, а я стоял истуканом. Мать успела кинуться в дом, потом по двору разнесся ее вопль, и она стремглав выскочила наружу.
– Все, все увезла! – кричала она и, не закрывая рта, смотрела то на телегу, то на меня, а я точно прирос к месту.
– А вы думали, так просто, без ничего меня выставить? Что я задаром, будто наймичка какая, на вас надрывалась?
Это в дверях появилась Лизика с пузатым горшком, она куда-то указывала, вроде бы на телегу. Завидев меня, она еще пронзительнее завопила, точно непременно нужно было кричать громче, раз я стоял здесь и слушал.
– Вы думали, мы со Штрафелой вам за здорово живешь крышу над головой поставили? И нечего на меня кричать, мы еще потолкуем – за все, за все до последнего динара вам заплатить придется. – Она приумолкла и вдруг выпалила, ткнув в мою сторону горшком: – Кулаки! – будто всех нас заклеймила этим словом.
Я был ошеломлен, скованный этим своим состоянием, бездумно поднял одеревеневшую руку и ударил по горшку. Сестра завизжала, горшок вырвался у нее из пальцев, точно она его вовсе не придерживала, и грохнулся об пол. Пол был цементный, и горшок разлетелся вдребезги, а между черепками стал расползаться жир.
– О господи! – выдохнула мать, ко всему прочему ей было жаль горшка, и потому она не могла отвести взгляда от его останков.
– Ну, господь вам помогай, люди! – сказал возчик, стоя у телеги, и несколько раз встряхнул конусообразной головой в башлыке.
Сестра опустилась на колени и попыталась собрать жир, но, чем больше она старалась, тем больше расплывалось пятно, точно руки ей не повиновались и пальцы сводила судорога.
«Ничего-то она не соберет», – подумал я, испытывая неведомое блаженное чувство. И ни с того ни с сего засмеялся. Она обернулась, с яростью взглянула на меня, при этом она выпрямилась, и черепки, что ей удалось собрать, вновь выскользнули у нее из рук. Она смотрела на меня так, словно видела впервые и словно чего-то никак не могла уразуметь, тем же вопросительным и грозным или оскорбленным взором окинула она мать, а потом и возчика. Почему она на них посмотрела, не знаю, я на них не смотрел, но уже в следующий миг сестра опять вспыхнула, швырнула в меня черепками, которые оставались у нее в руках, хотела, видно, и сама на меня броситься, но вдруг замерла, закрыла лицо передником и, горько всхлипывая, заплакала. Плач сотрясал все ее тело – такого мне еще не доводилось видеть. Однако вскоре она опять начала кричать. Насколько я мог понять, она вопила, как нам должно быть стыдно, и особенно матери.
– И что вы только творите с собственным чадом, можно ли такого ждать от родной матери и родного брата? – кричала она, но угроз больше не было.
Отчаянье Лизы словно придало матери мужества, она забралась на телегу, выпустила кабанчика из ящика, свалила на землю кухонный стол и начала копаться в сене. Сверкнули какие-то горшки и поварешки. И опять поднялся крик. Я повернулся и ушел в хлев – присутствовать при всем этом мне уже не хотелось. В яслях я сел между коровами, которые сторонились меня. «Даже скотина не узнает, – мелькнула мысль. – Домой надо возвращаться!» И стал ждать, пока скандал затихнет. Кончилось все скоро, причем, насколько я мог понять, тем, что мать с криком выбросила Лизе какие-то вещи.
– Вот это ты забирай и это! У нас в доме никогда не было краденого, слава богу, и сейчас не будет. Работать надо было, если хотели выжить, а твой бродяга думал, будто ленью да воровством прожить можно. Несчастная ты девчонка! – Она умолкла и, словно о чем-то вспомнив, начала снова: – И тумбочки прихвати, чтоб я их не видела у себя в доме!
Это барахло после того, как мы сгорели, откуда-то приволок Штрафела, наверное из домов бежавших или выселенных немцев, – меня не интересовало откуда именно; я радовался, что все это исчезнет, потому что такое нас только позорило и потому что не для нас, не для крестьянской жизни, это было сделано.
Потом я услышал голос Лизики – да, она меня звала! – и вот она уже стоит в хлеву, прямо передо мной, я слышал ее дыхание, но смотрел вниз, на подстилку, слышал, как она сказала, робко, точно опасаясь отказа:
– Южек, я тебе зажигалку принесла. У Штрафелы есть еще одна, возьми!
Я не пошевелился, тогда она подошла вплотную и сунула зажигалку мне в карман. А я ждал, когда она выскажет, зачем пришла.
– О кабанчике я, – начала она, – отдали б вы его нам. У вас еще три есть. Я ведь тоже помогала дом поднимать. – Она с трудом удерживала слезы: – Южек! И с тобой ведь в жизни беда может стрястись.
Да, она явно не верила в Штрафелу и в его пролетарские занятия – и не хотела сжигать мостов за собой! А я почему-то испытывал чувство удовлетворенности!
Она ждала. Да, теперь ведь я, собственно говоря, был здесь хозяином, и этот хозяин заговорил сейчас во мне.
– Какое мне дело до кабанчика, – буркнул я.
Лизика поняла меня, кинулась вместе с возчиком вылавливать в кустах освобожденного было поросенка и вскоре сунула его, отчаянно визжащего, в ящик. Еще раз проснулся у меня в душе хозяин, и, когда Лизика уже водрузилась на козлы, рядом с возчиком, я кинул ей на прощанье:
– Тебе понадобилось беду испытать?
Она завыла, заголосила, а я нащупал в кармане зажигалку, и, ей-богу, мне захотелось зашвырнуть ее, однако я этого не сделал не потому, что пожалел сестру – мне до нее не было ровно никакого дела, – просто что-то удержало меня, и слава богу, иногда лучше не делать так, как в первую минуту хочется. «Пусть уезжает и пусть сюда не показывается!», – думал я, счастливый от мысли, что мы избавились от Лизики, но еще более оттого, что не станет теперь здесь Штрафелы, того Штрафелы, который по нынешним временам представляет собой постоянную опасность для дома, и не только для нашего, но и для многих домов по соседству – ибо никогда нельзя было знать, что такой Штрафела может выкинуть! Черт возьми, ведь шла речь о земле, поэтому для Гомилы лучше было избавиться от бродяги – пропади он пропадом, наш кабанчик, пусть хоть полдома с ним вместе заберут! Раньше я все опасался, как бы Штрафела не вернулся и не начал бы опять мутить воду у нас дома и в Гомиле – из-за земли было еще полбеды, – но вот Лизика увезла свое барахло, и теперь я мог думать об обоих хозяйствах, о нашей земле и о земле Топлеков – оба лежали у моих ног. Ко мне вышла мать.
– Остался бы ты дома!
Я зажег сигарету, но промолчал.
– Пусть Топлечка себе батрака возьмет.
Я выпускал дым и по-прежнему молчал.
– Почему ты им за батрака должен служить? У меня нет больше сил одной тянуть. Если вы по-другому не хотите, если не выходит иначе, пускай одна из девок поскорей замуж идет.
Она была обижена и оскорблена, она боялась за меня и потому звала обратно, к родному очагу.
А я в тот день напился досыта – я пил дома, и мать подносила мне вино, как хозяину; я пил после обеда у Топлеков, а вечером вдребезги напился у Плоя, где все село праздновало исчезновение Штрафелы. Революция на Гомиле завершилась.
– Эх, Топлечка, теперь заживем! Что нам до других! Иди, милая, обними меня покрепче!
Вечера становились студеными, и как же хорошо было лежать рядом с горячей женщиной. Я привык к Зефе и с трудом дожидался вечера, когда Туника поднималась к себе наверх, и забирался к Топлечке в постель – и вновь и вновь, точно в первый раз, чувствовал, как она сперва отодвигалась и клала на подушку свою крепкую руку, чтобы обнять меня и с силой – она тоже меня ждала! – привлечь к себе. Да, свыклись мы друг с другом, и таким вот образом где-то после праздника всех святых опять начались ночи, когда ничто на целом свете не трогало нас…
Приходя в себя, она шептала:
– У, какой ты, настоящий мужик стал! Господи, да ведь я чуть было не пропустила тебя! А видишь, не промахнулась. Да ты слышишь меня, мужичок?
И нежно касалась моего тела, но мне не хотелось разговаривать, а того меньше – шептаться, поэтому я помалкивал.
– Выучила я тебя греху? О господи, да? Южек?
Я вздрогнул, отодвинулся от нее – а она продолжала теснить меня. И неожиданно засмеялась, громко, так что пришлось накинуть одеяло ей на голову. И оттуда, из-под одеяла, доносился до меня ее смех.
– Господи, какой ты теленок был… точно… точно… точно впервые на ноги вставал. Чисто теленочек!
Ее душил смех, и она никак не могла успокоиться.
– Господи, ну давай поговорим! Со старым никак у меня не выходило поговорить. Сделал свое и отвалился… Скажи хоть ты что-нибудь!
И опять ее душил смех, кто поймет, отчего – отчего и над чем она смеялась! Или вспоминая о нем? Что тут было смешного?
– Ох, Зефа… Спать я хочу, дай посплю…
– Тебя укачать?
– Зефа?!
Откровенно говоря, я уклонялся от ее объятий. Жутко, хотя уже и не слишком, становилось мне при мысли, что Туника могла нас услышать; вдруг появится ночью и встанет с каганцем в дверях или посреди комнаты – куда скроешься?
А потом, когда я ложился в свою стылую постель в каморке, неизменно начинал звучать слабый голос разума, и этот слабый голосочек постепенно креп, становился громче – так я все это переживал и понимал, что истории с Топлечкой наступит конец, иного ведь не могло быть; понимал, что Топлечка безумная, – безумная, как все женщины, что раз уж мы начали, придется играть в эту игру – такую, какая есть, – а в один прекрасный день она завершится. Всему на свете приходит свой край. Да и о чем, господи помилуй, можно говорить с ней – о любви и о разных этих женских глупостях? И что только не приходило ей в голову… Я отворачивался к стенке и мгновенно засыпал. И спал как камень в течение всей зимы, крепко и без сновидений.
Но если месяц-другой меня не волновали люди, то на третий пришлось мне призадуматься, и если житье-бытье мое с Топлечкой до известных пор глубоко не проникало мне в душу, то наступил день, когда пришлось мне почесать в затылке и когда уже невозможно было оставаться безразличным к окружающей жизни. Точно вдруг стали сгущаться тучи, из которых вот-вот должен был грянуть гром. Все вдруг завертелось и закружилось, и не успели наступить праздники Нового года, как все разом – точно печь разнесло! – грянуло.
Топлечка обычно ходила к ранней мессе, а молодежь и мы с Туникой – понятно, каждый сам по себе – к поздней, то есть около половины десятого. Случилось это в городе, на рождество или на стефанов день – да, как раз на стефанов день. В узкой улочке перед старой кузницей обогнала меня девушка, я сперва и не обратил на нее внимания, а потом по юбке и по платку признал Хану. Я был один и, не знаю, какая муха меня укусила, весело ее окликнул:
– Хана!
Она остановилась, оглянулась – кто это ее зовет. Я ускорил ход, чтоб догнать ее, хотя мне уже стало не по себе от собственной выходки – ради чего, какого дьявола я ее окликнул? – и все-таки я заговорил весело, обрадованный нашей встречей:
– Хана! Ты только посмотри…
Я собирался сказать: «Ты только посмотри, как она мимо мчится», но девушка, узнав меня, отвернулась, точно укушенная змеей, и чуть не бегом пустилась по узенькой улочке – убегала как от зачумленного. Я побежал было за ней, но потом остановился и осмотрелся по сторонам. Не видел ли кто меня? По мостовой спешила тетка с кувшином молока, сзади, от площади, подходили какие-то парни, должно быть из долины, городские, меня они знать не могли и, как бежал, не видели. Опасаться людей, словом, не приходилось – но отчего убежала Хана? Меня вновь обуяло желание догнать ее, расспросить, но тут же мысль эта показалась мне ужасно нелепой. Я остановился, подождал, пока пройдут парни, – и вдруг белый свет померк перед глазами, не было впереди ни пути, ни мессы.
В церкви я был только наполовину – слушал, но не слышал проповедь, – в голове колом засело: почему Хана не захотела меня узнать? Даже поздороваться не захотела, обернулась, пронзила взглядом – будто я учинил бог весть какое злодейство. Загудел орган, на хорах запел детский голосок, и у меня по коже пошли мурашки. Месса была пятая, кругом царило радостное оживление, колокольчик у алтаря весело звенел, люди преклоняли колени, осеняя себя широким крестом, – только я один стоял под хорами, как какой-нибудь старец, и не знал, как мне опуститься на колени без того, чтобы не задеть кого-нибудь ногой, и как перекреститься без того, чтоб не зацепить соседа локтем и чтоб меня самого не толкнули. Я чувствовал свою неловкость. Перед самым концом, когда орган грянул в полную силу, я начал полегоньку пробираться к выходу и вышел, прежде чем смолк последний хорал, да, чтобы одному спуститься от церкви, обойти замок и направиться к Гомиле.
В конце концов, я пережил бы и эту выходку Ханы, перенес бы, как прежде переносил ее острый язычок, если б корчмарка – а мне именно так показалось – не поджидала меня. Заходить в корчму я не собирался, но она стояла на веранде, и неловко было миновать ее молча, коль скоро мы поздоровались. Да и негоже ей думать, будто я избегаю людей.
И лишь позже меня осенило, какой смысл она вложила в свой вопрос:
– Что там у Топлеков?
Я сжал стакан с вином, отхлебнул глоток и в свою очередь спросил:
– А что там может быть?
И пристально на нее посмотрел.
И в самом деле – что там могло быть? Люди ж не ходят в окна подглядывать? И кому какое дело, что там у Топлеков!
– Смотри, Южек, – произнесла корчмарка с таким видом, будто ей все нипочем, но свое высказать она должна: – Смотри, как бы тебе из-за баб собственной земли не лишиться.
Я еще раз посмотрел на нее с любопытством и озлоблением – ей-то что за забота? Я и прежде недолюбливал эту тетку за ее фокусы – все-то ей требовалось знать! – и потому собрался было спросить, а как у нее обстоят дела с женихами для дочерей Плоя от первого брака, неужто ни одного нет на примете?
– Кружатся всякие жучки вокруг домика, – не дала мне опомниться Плоевка, очевидно я смотрел на нее дурак-дураком, – каждую ночь прилетают.
Теперь уж я смотрел на нее во все глаза.
– Марица, похоже, столковалась с Хрватовым, – не спеша говорила она и пояснила: – Он-то наверняка к себе девку не примет, у них ртов много, – чтоб я уразумел, в чем дело.
Парня Хрватовых я знал, он был из Врбана, из другого прихода, безземельный.
– Детские игры! – ответил я, махнув рукой, осушил стакан и собрался восвояси. Эта новость о Марице могла оказаться верной – сестра была тихоней перед людьми, но, стоило ей что-либо вбить себе в голову, она достигала своего во что бы то ни стало, это-то я знал, поэтому из упрямства очень даже запросто могла и замуж выскочить. А тут откуда-то взялся сам корчмарь и встал рядышком, опираясь на стол.
– Ты гляди, Южек, – предостерег он меня, – как бы тебе Топлечки глаза медом не замазали!
Только это и сказал – и засмеялся. А мог бы и зарыдать – из-за своих девок, что торчали в дверях и не сводили с меня глаз, когда я шел мимо.
Судя по всему, о Хрватове и Марице говорили правду. Когда я порасспросил Топлечку, она сказала:
– Хрватов – парень старательный, пускай девка за него идет.
Я ошалело посмотрел на нее – это было после ужина, назавтра после стефанова дня.
– Господи, да пусть идет, в доме мужик будет, чтоб Штрафелы и духу близко не было! – продолжала она, и я понимал, что она одобряет эту свадьбу, а она тут же начала поправлять свои волосы, хотя никакой нужды в том не было.
Кажется, я слова не вымолвил, а про себя подумал: «Да ведь она хочет, чтоб кто-нибудь к нам пришел и меня выпер», – и вдруг испугался этой мысли. И у меня словно кончились силы терпеть, и впервые с тех пор, как пришел к Топлекам, я почувствовал, что сам себе становлюсь ненужным и докучным. А было это как раз под старый Новый год и утром Туника принесла мне «Драву», целую пачку, – к вечеру не осталось ни чинаря: такого со мной прежде не случалось, так много я раньше не курил.
Да, не было у меня больше сил. Вечером, покончив с делами, снял я фартук и повесил его на гвоздь.
– Пойду своих проведать.
– Ай что случилось? – спросила Топлечка, притворяясь испуганной.
Происходило это в кухне, и Туника стала потише и помедленней размешивать корм для свиней.
– Чему случиться? – ответил я. – Просто хочу в праздник своих проведать.
– Ну сходи, – согласилась Топлечка и, помолчав, добавила: – Только побыстрей возвращайся, чтоб нас с Туникой не слопал кто. Не знаю почему, а страшно мне что-то.
Туника затихла. Выпрямилась и вполголоса, словно про себя, сказала:
– Вот именно – слопал…
Она толкла картошку, и та громко чавкала, брызги разлетались во все стороны, и девушка то и дело стряхивала их с руки.
Дома не оказалось ни Марицы, ни Ольги. Мать сидела в углу за печью, в темноте, перебирала четки – точь-в-точь покойная бабка.
– Вы одна? В темноте?
– Одна. Молюсь я.
Я вытянул вперед руку, чтоб не свалить какой-нибудь стул, и пробрался к скамье у стола.
– А ты иногда молишься?
– Ну, – досадливо пробурчал я, задетый таким вопросом – не исповедоваться же пришел. – А эти две где?
– А где им быть? О господи, да ведь праздник! Все с ума посходили.
– Ну да, им-то, конечно, надо нос совать в чужую кастрюлю. Куда они ушли?
– Куда? – Тон у матери был раздраженный. Дескать, привязался, но тем не менее ответила: – К Плою пошли. Куда ж им еще податься?
Я слушал, как она перебирала четки, хотел было зажечь лампу, но обнаружил, что у меня нет спичек, а попросить у матери не решился.
– Одни ушли?
Четки загремели, словно мать вдруг выпустила их из рук.
– Почему ж одни? С Хрватовым.
Так, значит, правда, что мне сказала корчмарка и о чем повсюду толкуют. Видно, и мать на стороне этого Хрватова, иначе разве б стала она так спокойно молиться! Дело зашло дальше, чем я полагал. И теперь мне уже не мешала окружавшая нас тьма.
– Говорят, они пожениться хотят!
Зерна опять пощелкивали, и мать согласилась:
– Говорят, о господи милостивый!
Я сидел как на угольях.
– А вы как?
Молчание.
– А вы как считаете?
Снова молчание.
– Мама! – Я чуть не завопил.
– О господи, пусть поженятся.
– Как?
– О господи, как? Так, как люди женятся!
И опять у нее выпали из рук четки, и она зашевелилась.
– Это я и сам понимаю, – зло ответил я. – А куда… на что они будут жениться – вот что я хочу знать.
Мать размышляла – она перестала молиться, это я чувствовал отчетливо. Воцарилась тишина.
– О господи, на хозяйство, – сообщила она наконец.
Я не выдержал:
– Значит, на наше хозяйство, к нам в дом?
Я спрашивал ее еще и еще, словно не мог поверить собственным ушам.
– О господи, а что ж мне одной подыхать на хозяйстве?
– Значит, Хрватову землю отдаете?
Стояла такая тишина, что каждый звук казался оглушающе громким.
– Будет стараться, – опять это старанье, будто я не старался! – получит. Мне спешить некуда. Я для вас умирать не собираюсь.
О себе я вряд ли что мог сейчас сказать, но о Штрафеле вспомнил.
– Видно, вас Штрафела недостаточно проучил.
– Хрватов – не Штрафела, а Марица – не Лизика! – быстро возразила мать.
На это сказать было нечего. Хрватов считался парнем работящим, слесарничал, хорошо зарабатывал. И поэтому теперь я мог спросить о себе.
– А меня вы решили просто-напросто в сторону отодвинуть? Ха… – Я попытался улыбнуться, но сердце сжимала жгучая тоска.
Мать опять зашевелилась, я слышал, как она положила четки на скамью, потом сказала:
– А разве ты не стелешь себе у Топлечек? Чего ж ты там остался?
О таких делах, о моих отношениях с женщинами мы с матерью никогда прежде не разговаривали – видно, благодаря темноте, нас разделявшей, сейчас я решился. У меня развязался язык. Я вдруг вскочил с места. Встал на ноги, сжимая кулаки, но единственное, что я смог в этой тьме, – это сказать черной фигурке, сидевшей передо мной и шарившей на скамье возле себя, грязное ругательство, а затем уж я завопил:
– Проклятье, не думайте, что вам удастся вышвырнуть меня, как Штрафелу! Я… я…
Здесь я должен был, видимо, сказать, что я остаюсь – или у себя, или у Топлеков, – но слова не шли у меня с языка. Я подыскивал нужные слова и вдруг услыхал, как мать нашарила коробок спичек на печи. Выругавшись, я кинулся прочь – света вынести я бы сейчас не смог. Однако мне не удалось ускользнуть от слов, которые ужасающе медленно и отчетливо произнесла мать:
– Да, Южек, стелешь ты себе, сам стелешь! А каково постелешь, таково и спать придется.
За дверью я остановился. Внутри, в горнице, вспыхнул свет – нет, туда мне больше не было хода! От Плоя доносились громкие звуки гармоники. Я бросился в ту сторону, твердо уверенный, что встречу там Хрватова, Марицу и Ольгу, и мы все четверо поговорим. Ощупав карманы, я почему-то переложил нож в правый карман брюк, крепко сжал рукоять и помчался; я ничего не различал перед собой, равнодушно ступая по неровной земле.
Но у самой корчмы ноги у меня словно налились свинцом. Вспомнились последние слова матери – меня вдруг охватил страх, я никак не мог понять скрытый смысл ее слов. Неужели она что-нибудь знает?
Значит, и другие тоже знают? Корчмарка? Корчмарь? Хана? Вспомнилось сказанное чужими людьми: «свою землю не потеряй… Смотри, чтоб они тебе глаза медом не замазали…»
Однако я подавил в себе сомнения и зашагал дальше, по-прежнему крепко сжимая в кармане рукоять ножа. Двери корчмы внезапно распахнулись, и оттуда вырвалась музыка, полоса света упала во двор, вместе со светом на веранду высыпала толпа парней и девушек – они пели и хохотали. Я спрятался за каштан, потом скользнул через дорогу, перепрыгнул канаву и полями отправился к Топлекам. В груди комом стояла тоска: я завидовал молодежи, завидовал их веселью и их песням, завидовал им во всем. Мне было так тяжко и грустно, словно все вокруг навалилось на меня и душило, однако слез, которые могли б облегчить душу, у меня не находилось. И чем выше я поднимался по склону, чем ближе подходил к Топлековине, тем сильнее убеждал себя, что сумею порвать отношения с Топлечкой, со всем ее хозяйством, я сумею положить конец всему, что произошло за минувший год.
– Нет, бабы, – я всеми святыми клялся самому себе, Южеку Хедлу вам глаза медом не замазать!
Бесшумно, чтоб не услышала Топлечка, прикрыл я за собой входную дверь и пробрался к себе. Сбросил башмаки и, не раздеваясь, кинулся на постель.
– Нет, Топлечки, вы мне медом глаза не замажете! – твердил я, не имея сил думать о чем-либо другом, и вдруг увидел Зефу. – Ты что? – Мне вдруг стало весело.
– О господи, – она говорила тихо, – как я рада, что ты не пошел к Плою. Я тебя встречать ходила.
Да, это я заметил, она не сняла даже верхней одежды.
– Ну и что?
Она молчала. Я сказал ей то, что она и без меня знала:
– У матери был, одна она дома сидит…
– Я… я, Южек, беременная. – Внутри все у меня оборвалось, даже сердце перестало стучать, однако я отчетливо слышал все, что она говорила. – О господи, еще раз матерью стать придется.
– Зефа? Как? – ничего больше я не мог выдавить из себя.
Я лежал на постели, точно лишившись разума, и пришел в себя, лишь когда она стала расстегивать на мне пиджак, приговаривая, как ей холодно, и упрашивая подвинуться. Мы улеглись, однако тоска моя не ослабевала.
VIII
Хедл на этом остановился – на рассказе о ребенке и о том, как он сжимал в кармане нож, – но вечером, когда он должен был продолжить и, скорее всего, закончить свою повесть – а чем все это могло кончиться, как не расправой с Хрватовым, женихом Марицы? – вечером он исчез из камеры вместе с двумя другими ребятами. Я, как повелось, просидел в канцелярии до наступления темноты и, возвратившись в камеру после отбоя, увидел пустые места на нарах.
– А этот где? – спросил я, глядя на свободное место возле себя. – Куда они девались? Их что, куда отправили?








