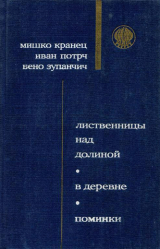
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Топлечка куда сильней закудахчет, как у молодки пузо на нос полезет.
В тот раз я убрался из корчмы, однако на Топлековине жизнь катилась по-прежнему, только нам с Ханой было все одно, хотя Топлечка что-то держала на уме про землю.
Она примирилась с родней, и в один прекрасный день сестра с Рудлом пожаловала на Топлековину. Случилось это в воскресенье после ранней мессы – Туника ушла к поздней, и дома за завтраком сидели трое: Зефа, Хана и я. Заметив тетку и Рудла, Хана попыталась было ускользнуть, но Рудл ее предупредил; когда она схватила платок, он подошел к двери:
– Погоди, Хана!
Хана остановилась под стенными часами, обвела всех сверкающим взглядом, однако ей пришлось присесть на скамейку в углу.
Я, как и она, чувствовал себя зверюшкой, попавшей в капкан.
А Топлечка не утерпела:
– Погоди, послушай, хорошо ли то, что ты творишь!
Был момент, я подумал – меня все это вообще не касается: такая мысль мелькнула у меня после сказанных Топлечкой слов. Хана же вскочила со скамьи, но, видно передумав, опять села и изобразила, будто происходящее к ней не относится, пусть говорят что угодно, однако до конца выдержать не сумела. Топлечка и Рудл сразу и начали, под Рудлом не успел еще стул согреться. Сперва тетка, Рудлова жена, что-то тявкнула, она-де недовольна сестрой, то есть Топлечкой, а сам Рудл, когда уселся, откашлялся и спросил:
– Хорошо? Зефа, хорошо? – помолчал и изрек: – У вас уже с самого начала не могло быть хорошо.
– С начала? С каких же пор? – Она тоже помолчала, набирая воздуха, и выпалила: – А с тех самых пор, как вы меня к Топлеку на хозяйство привели, чтоб отец мог долги выплатить и землю спасти!
– Зефа, дочка слышит, не валяй дурака!
Имелась в виду Хана.
– О господи, верно ведь, Зефка! – поддержала мужа сестра.
– Оставь в покое, Зефа, отца – он уже мертвый! Я вот о чем тебя спрошу: разве не говорил я тебе, когда мы Францла хоронили, что у тебя девочки подрастают? И сказал я тогда: смотри, каково-то они себя вести будут!
– Ты смотри-ка! А кто девку подучил?
Рудл закашлялся в ответ, а жена его громко вздохнула.
– Теперь ты молчишь, а сам-то ее и подучил! Чего ж ты не выгнал ее, когда она явилась к тебе и оставила меня одну на хозяйстве.
– Брось это, Зефа! Нет речи о том, кто кого подучил. Я тебе тогда сказал, на поминках, почему так вышло с Францлом. Что было, то было! И тебя предостерег. Ты свое сделала, говорил я, имея в виду дочерей, а это означало, тебе надо помнить, что после смерти Францла у тебя вся жизнь должна быть в девочках. А ты… словно бы в самом деле ума лишилась.
– О господи, верно! О господи, Зефка!
Рудл говорил не спеша, словно обдумал каждое слово заранее. Набил трубку и закурил, глубоко затягиваясь. Говорил, а сам закусывал, словно ему до самой ночи некуда было торопиться. Топлечка смотрела на него, будто хотела испепелить его взглядом или ей не хватало дыхания, поэтому Рудл и сумел выложить все, что у него накопилось на душе.
– Я полагал, выдашь ты замуж Хану, она старшая, и перепишешь на нее землю. Пусть она своим пользуется! Всем нам пришлось…
При этих словах Хана встала и шмыгнула из горницы, теперь он не обратил на нее внимания.
– А вот того, что у меня в каморке орет, его ты не слышишь?
Топлечка поднялась, но сказать ничего связного не сумела, настолько была разъярена.
– В этом, Зефа, ты сама виновата. Пусть у парня мозгов не оказалось, у тебя-то им полагалось быть!
– О господи, верно!
Сестрица на все глядела глазами мужа, они точно условились – он будет говорить, а она ему во всем поддакивать.
Да, так вот все и шло, точно меня вовсе не было здесь! Мне хотелось уйти, но, если б я встал – а я сидел за столом, – все обратили бы на меня внимание. Я мог только сидеть и ждать конца – а он был уже недалеко, совсем близко.
И тут Топлечка сорвалась. Она в крик сообщила, что у нее ничего хорошего не было в жизни, что ее привели сюда, чтобы расплатиться с долгами да народить детей в этом проклятом доме, и что теперь она станет жить, как ей охота, а что касается Ханы, то пусть они оба, Рудл и его жена, раз и навсегда запомнят:
– Пока я хоть пальцем смогу двигать, Хане земли не видать! Этого права у меня никто не отнимет! Только после моей смерти…
Она не закончила, у нее перехватило дыхание. Хлопнув дверью, ушла к себе. А я окаменел при этих ее словах, тогда я не знал отчего, теперь – сегодня – я, господи милостивый, знаю!
Рудлу с его женой ничего не оставалось, как удалиться.
– Господи, господи, господи! – шептала женщина, поспешая за мужем. – Что с нею вышло? О господи, верно!
На меня они не обращали внимания, будто меня не существовало на белом свете. Даже не попрощались. Я выскользнул из горницы потихоньку, как только мог.
Так вот и стали собираться тучи над моей головой. Хана приходила ко мне, в каморку или в хлев, а я ни за какие деньги не позволил бы увлечь себя в комнатку, где они спали вдвоем с Туникой.
Однажды поздно ночью, когда я вернулся с пахоты и лежал с Ханой в хлеву, обессиленный крутыми спусками и подъемами – я пахал у Мурковых, дальних родственников Топлечки, которые не могли купить двух коров в упряжку, – обессиленный жарой и выпитым сидром, мне вдруг послышалось, будто парни, шагая по дороге через село с песней, помянули Хедла.
– Погоди! Тише! – никнул я на Хану, приподнимаясь на локте.
Сперва ничего нельзя было разобрать, знакомая песня тянулась в бесконечность, а потом стихла. Через некоторое время запели снова и теперь – не могу уж сказать, в чем было дело, то ли ветерком снизу потянуло, то ли еще что, – различил я каждое слово. Парни, двое или трое – я узнал только голос Палека, – громко и звучно выводили:
Ох ты, Хедл-сирота,
у тебя болят бока,
трех ты разом полюбил,
себя счастья ты лишил…
И снова я слышал каждое слово, будто пели в церковном хоре:
трех ты разом полюбил,
себя счастья ты лишил…
Они пели снова и снова, еще и еще, твердя о потерянном моем счастье. Не могу передать, как горько стало у меня на душе, как заболело сердце, и тело будто уже сделалось не моим.
Потом мы услыхали: кто-то переставляет цветочные горшки на подоконниках и захлопывает окна так, что дребезжат стекла. Кто же, кроме Топлечки, это мог быть – она ведь тоже слыхала песню, вот и вскочила и принялась закрывать окна, чтобы не слышать озорной частушки. Вдруг я почувствовал на своей руке ладонь Ханы, она хотела меня обнять, но я вырвался и бросился прочь. И если сперва частушка как будто легонько задела меня, то теперь поразила в самое сердце, а звон закрываемых окон привел в ярость. Я стоял перед хлевом и чувствовал прикосновение руки Ханы – она хотела обнять меня, удержать, а я вырвался от нее в припадке гнева, и снова и снова у меня в ушах раздавалось дребезжание стекол. Я бросился бежать – по полям, по дороге, летел сломя голову, задыхаясь, в овраге я уже пыхтел как паровоз. Перескочив через речушку, остановился в дубовых посадках, росших вдоль дороги, – перевести дыхание, опомниться. А песня доносилась словно бы от кузницы.
Потом песня оборвалась, послышался перестук башмаков по камням, смех, шутки, взрыв смеха. Вскоре стало тихо. Теперь, наверное, они шагали молча, каждый занятый своими мыслями.
Я вздрогнул, застегнул фартук и засучил рукава, дрожь сотрясала мое тело, зубы стучали – я понимал, драки не миновать. В руках я сжимал кол, который выдернул неведомо когда и где.
Да, они приближались. У меня был кол, а они шли безоружные, безмятежно заложив руки в карманы.
Я уже слышал их разговор – они были почти рядом, еще чуть, и они поравняются со мной, а я выскочу им навстречу из-за деревьев.
– Оставим в покое этого черта… убогого! – Это был голос Ирглова.
– Пожалуй! – согласился крайний, это был Хрватов.
Они были уже совсем близко. Палек вздохнул, сделал несколько шагов и произнес:
– Мне вот Тунику жалко…
– Несчастная она девка, верно… – ответил Ирглов.
– Все видеть приходится, эх! – Это снова был Палек.
Наступил миг, когда я должен был броситься на них, но слова о Тунике вонзились мне в сердце, поразив его больнее, чем мои собственные беды. Она вызывала жалость и у меня, не сумею точно объяснить почему, но я сильно ее жалел. Я затаил дыхание, а сердце у меня колотилось с такой силой, что я испугался, как бы ребята не услышали его стук.
Парни миновали меня и уходили теперь со смехом и шутками. Ирглов помянул Хану, только я не расслышал как, однако слова Палека донеслись до моих ушей:
– Хана? Да она ж как собака злая!
Кто-то залаял «гав-гав», и взрыв смеха заглушил все слова, они шли и частушек больше не пели.
Я оперся на кол, прошло у меня желание схватиться с ними, вокруг стояла такая тишина, что я отчетливо различал сильные удары своего сердца. Безжалостная тоска мучительно охватывала меня; закинув назад голову, я задержал дыхание и сквозь ветви дикого каштана, что рос среди дубов, стал рассматривать звезды в небесной выси. Они мерцали спокойно и безмятежно, у них не было никаких забот, а мне вдруг стало так плохо, что захотелось умереть не сходя с места. Не помню, как я вернулся в дом, как сел на доски в сарае, обхватив руками голову. И услышанные мною фразы «себя счастья ты лишил» и «несчастная девка» прочно застряли в моем мозгу: мне в самом деле было несказанно жаль Тунику и я был куда как несчастен.
Я вздрогнул, почувствовав, что рядом кто-то есть, поднял голову и увидел Хану. Она стояла передо мной и счищала с себя соломинки, точно только встала с сена. Да, она уже успела прийти, и тем не менее я изумился, увидев ее. Голова моя опять упала в ладони, а потом я метнул в нее бешеный взгляд и прошипел:
– Чего тебе? Чего тебе тут понадобилось?
– Господи, что я тебе сделала? – спросила она. – Ну что, Южек?
Я оглядел ее с ног до головы, она продолжала снимать с себя соломинки, и махнул рукой, точно мне на все наплевать. Не было у меня веры в ее вздохи.
– Господи, я так боялась, что вы подеретесь! Чуть не закоченела!
Я не сводил с нее взгляда, и по этому взгляду она могла бы догадаться, что сейчас она здесь лишняя. Она стала гладить мои волосы, я сбросил ее руку с головы, а потом вдруг ощутил жар ее бедер: мне показалось, будто она хочет, чтобы я ее приласкал, и я начал осыпать ее поцелуями, щеки и губы у нее были холодные, и я испытывал такое ощущение, что она не нужна мне и докучна, однако не переставал ее целовать, пока она сама не отодвинулась и не завязала платок, будто насытившись.
– Ухожу, – сказала она.
Я смотрел ей вслед – как она шла, остановилась на ступеньках, как открыла дверь, громко хлопнула, ничуть не беспокоясь, что услышит мать.
Однако Хедлом, «лишившимся счастья», заинтересовались другие.
Осенью, с холодами, мне пришлось обратиться в комитет, в общину, чтобы получить одежду, – Топлечке сделать для меня ничего не удалось, сказали, чтоб приходил я сам. И вот сбросил я свой фартук, повесил его в хлеву на гвоздь, умылся, причесался и отправился. Проклиная разные бумажки и карточки, я собирался выложить Рошкарице, секретарю в общине, что вот, дескать, из погорельцев я, это вы и без меня могли бы знать в своем комитете, и носить мне нечего!
Однако все обернулось по-другому. В канцелярии попался мне Михорич, новый жупан[8] или председатель, кто он там есть. Он сидел спиной к двери, но, услышав мой голос и ответное приветствие Рошкарицы «Дай тебе бог, Хедл!», вскочил на ноги и уставился на меня, точно сто лет не видел, откашлялся и спросил:
– Пришел, значит?
Я ощетинился, а в душе у меня все затрепыхалось, молча проглотил слюну.
– Да, пришел! Еще немного, и нам вовсе нечего будет надеть: всему приходу известно, что мы погорели.
Вся обстановка да и Михорич, стоявший посреди комнаты, заложив руки за спину, и пристально на меня глядевший, выводили меня из терпения.
– Ну-ка, не ершись! – неторопливо начал он. – Да, вы погорели, знаю, только тебе, Хедл, еще разок погореть придется!
Я смотрел ему в глаза, понимая, что он имеет в виду, но не мог пошевелить ногами – они словно бы приросли у меня к полу. Я смотрел на него, и в голове у меня вдруг все смешалось, и мне почудилось, будто голос Михорича доносится откуда-то издалека.
– Рошкарица, дай ему ордер! Уже оплачено, Топлечка оплатила. А ты, Хедл, загляни-ка ко мне. Слышишь, Хедл?
Да, я слышал его, я взял бумажку со стола у женщины, снял шляпу и через настежь раскрытую дверь вступил туда, куда вышел Михорич. Он остановился, поджидая меня.
Помещение было побольше и подлиннее первой комнаты, середину его почти от самой противоположной стены до двери занимал длинный стол. Михорич сел у дальнего его края и рукой пригласил меня сесть, я поместился у самой двери, прямо напротив него. Он зажег сигарету, катанул по столу еще одну – мне – и крикнул:
– Рошкарица, закрой дверь!
Слышно было, как женщина тяжело приподнялась со своего стула, подошла к двери и, видно, хотела Михорича о чем-то спросить, но председатель отмахнулся: дескать, затворяй, что и было исполнено. Он уперся локтями в стол, потом вытянул руки плашмя, точно отвешивал столу пару пощечин, и выложил мне прямо в лицо, поскольку мы сидели друг напротив друга:
– Топлечка, Зефа, приходила ко мне. Сам я ее позвал, люди много болтают, но мы живем в Гомиле, а не в Турции.
– В Турции?
Я поднял на него глаза: должно быть, взгляд у меня был идиотский, потому что Михорич схватил пепельницу, с треском переставил ее на другое место и строго, решительно сказал:
– Не смейся, парень! – И умолк, словно затрудняясь, как продолжать, огонек сигареты дважды или трижды вспыхнул у него на губах, однако он молчал.
– Вот что я хотел тебе сказать, – начал он после паузы, – этому… этому… этому у вас там на Топлековине надо раз и навсегда положить конец!
Я вздрогнул, взгляд мой скрестился с напряженным взглядом Михорича, и я вдруг почувствовал, что лишился всякой воли, все то упрямство, которое наполняло меня, вдруг вышло вон.
– Я тебя спрашиваю: у тебя хоть капля мозгу есть? Ну, Хедл? Южек?
– Да ведь… – Я чуть не заплакал: последние слова его, обращенные ко мне, ужасно вдруг меня растрогали.
– Ребенок, девочка у Зефы твоя? – продолжал он.
Я мял пальцами сигарету бесконечно долго и молчал, хотя чувствовал, что ему нужен ответ. Потом я взглянул на него: пощады не было, он пристально глядел на меня, ждал.
– Моя… – прохрипел я.
– Ладно, случается… Нужно это было или нет, меня не интересует. Одним дитятей больше или меньше – на таком хозяйстве незаметно, лучше больше иметь, чем нужду испытывать.
Теперь я понимал, что смогу ему отвечать, но мне стало самого себя жалко и глаза мои увлажнились.
– Но вот что мне хотелось бы знать, вот о чем ты мне скажи! Топлечка здесь была у меня и всякого тут наболтала. Старую, ты, парень, не думаешь себе на шею взять?
– Эх!.. – Мне только и оставалось, что вздыхать.
– Конечно, – добавил Михорич, – старая сама должна была мозгами раскинуть, не молодка.
У меня отлегло от сердца. Пока все напоминало рассуждения Рудла и его жены.
– Ну ладно, тут ясно. А что с Ханикой у тебя?
Я опустил голову, не имея сил взглянуть ему в глаза. Однако Михорич хотел все знать и повторил свой вопрос.
– Ничего… – пробормотал я.
– Не дури мне голову! Вся община знает, что вы творите на глазах у всех. Люди вы или скотина?
На это мне ему нечего было возразить, я молчал.
– Я прикидывал, уговаривал ее, вот и с Рудлом толковал, чтоб вам землю передать, да упрямая она, упрямая, как все Крефлы, и слышать не хочет о Хане, так и не смог убедить.
– Она такая, – согласился я, – такая она.
– Да, один черт с бабой сладит, ежели она рехнется, и целых два черта понадобятся, ежели она рехнется под старость! В отношении Ханы вот что я тебе скажу: если вы с ней родите ребенка, ты женишься на ней, хотя бы пришлось уходить в долину. А с твоей землей, у вас в доме, скорее всего, у тебя ничего не выйдет – к Хедловке, говорят, уже засылали сватов просить одну из девок. Дай бог ей тут чуть побольше счастья, чем с Лизой и Штрафелой вышло!
Он умолк, и некоторое время мы оба молчали.
– Ну вот, никогда все гладко не выходит, – заговорил он снова. – Знал я, чем это кончится. Если б старая Топлечка так не упрямилась… чем ты ей так досадил?
Он засмеялся, я в ответ тоже улыбнулся через силу.
– Эх, загнать бы мне вас в задругу, живите там, как хотите!
И мы опять ухмыльнулись друг другу. А потом Михорич стремительно встал и придавил в пепельнице свой окурок.
– Иди, – сказал он, внушительно и строго произнося каждое слово, – иди бросай Топлечек и мирись с матерью! Я с ней поговорю. И мы что-нибудь придумаем для сестры, что собирается замуж. А ты уходи, уходи подальше от этих женщин!
Я сидел, словно ноги отказались мне служить, а он приблизился ко мне вплотную и полушепотом, чтоб не было слышно у Рошкарицы, спросил:
– А Туника? С Туникой у тебя ничего не было?
Я вскочил и почувствовал, как кровь прихлынула мне в лицо.
– С Туникой… с Туникой… – заикался я, – что с ней может быть, она ж ребенок…
Я заметил, как он смутился.
– Ну, я тебе проповедей читать не буду, я не поп. А свое я тебе сказал, поступай как сказано: уходи от них прочь! Лучше сегодня домой уйти, чем завтра, потому что с каждым днем ты будешь больше запутываться. Боюсь я за тебя, слишком ты мягкий, все вы, Хедлы, такие, потому вот и Францл так кончил. А за Тунику на меня не серчай, слишком худо ей жить, если сызмалу приходится такое видеть.
Он что-то говорил, угостил меня еще одной сигаретой, которую я не успел даже выкурить, искрошил пальцами в кармане по дороге. И пуще всего я стал бояться: как бы не столкнуться где-нибудь с Туникой, не оказаться наедине.
Почему, почему я тогда не ушел, не бросил дом Топлеков и всех Топлечек? Почему не пошел домой и не помирился с матерью? Так я теперь думаю, а тогда такое со мной творилось, что не выходило никак, хотя на Топлековине с каждым днем становилось мне хуже. Я избегал Тунику, а Топлечка стала крутиться вокруг священника, исполнять какие-то там девятидневки, принуждала к этому и дочерей – Тунику ей вроде удалось уговорить, и еще кое-какие перемены в ней произошли: она начала пить.
Куда б я ни сунулся в кухне, где она после своей каморки проводила больше всего времени, повсюду – на полках, на подоконниках, в шкафчиках – натыкался на прикрытые крышкой горшочки и, заглянув в них, обнаруживал вино. И от самой Зефы пахло вином. А когда она принималась за что-нибудь по хозяйству, сразу становилось заметно, что она уже пьяна: все валилось у нее из рук, а вообще-то она только и знала, что хлопотать возле ребенка да вставала на доски и смотрела куда-то вдаль сквозь ветки деревьев, кто знает куда смотрела и о чем она в это время думала. Если заглядывал кто из соседей, она смущалась и принималась толковать о чем-то, вовсе к делу не относящемся, о пустяках. А так сидела все у изголовья своей дочки, кричавшей с утра до ночи, даже по ночам в доме слышался ее плач; говорили, что причиной тому молоко матери, которая слишком-де убивается, но я-то хорошо знал, что дело в вине.
Я избегал Зефу, избегал ребенка, да и сама Зефа избегала меня, но случилось, что я испытал к ней глубокую, неподдельную жалость.
Стряслось это между мессами, кажется в субботу перед малой мессой, когда за оврагом уже созрели орехи. Не помню почему, но скотину выпало пасти мне, животные в охотку жевали, хорошо слушались, и я занялся орехами; хлестнув по веткам бичом, я подбирал упавшие орехи и разгрызал их. Дело шло к обеду, когда снизу, от большой дороги послышалось протяжное пение, точно вдруг пчелиный рой зажужжал, вскоре уже и голоса можно было различить. Я узнал Мартина Фраса, который пел церковные гимны, а остальные, женщины и кое-кто из мужчин, громко ему подтягивали, поспешая следом, как если б их ожидало какое-то неотложное дело. Я поднялся по склону и чуть не расхохотался в голос, увидев, как из корчмы на веранду друг за дружкой выскакивают корчмарь, корчмарка и их дочки, точно их кто вышвыривает наружу. Было смешно смотреть, будто они высыпали на пьяненьких сватов полюбоваться, я готов был расхохотаться, как за спиной у меня послышались чьи-то поспешные шаги, оглянувшись, я увидел Топлечку. Она бежала в мою сторону в праздничном черном платье, в черной косынке, спущенной на самые глаза, и с корзинкой в руке. Я сошел с тропинки, уступая ей дорогу, но она тоже сошла с нее – на другую сторону, словно желая избежать встречи, она спешила, задыхалась и, минуя меня, отвернулась.
Меня это взбесило, и я чуть было не пустил ей вдогонку пару ласковых слов. Однако и по сей день радуюсь я, что этого не случилось, потому что, когда я с улыбкой посмотрел ей вслед и увидел ее согбенную фигуру, точно у скрюченной старухи, увидел, как болтается вокруг ног длинная черная юбка – она на глазах стала худеть после родов, – у меня сжалось сердце. Я бросился обратно в орешник, но глаза мои неотрывно следили за ней – она спешила вдогонку за процессией, – и на душе у меня становилось все более и более погано. «Как могло такое произойти? Как? Как, Южек?» – спрашивал я себя. Ужасно неловко я себя чувствовал, тяжко мне было, жалел я ее, жалел и самого себя. Бесцельно колотил я бичом по веткам, не видя больше ни одного ореха.
После этих процессий и исповедей Топлечка совсем замолчала и почти перестала заниматься домашними делами; впрочем, в ее распоряжениях и не было нужды, каждый из нас знал свое дело – и мы сторонились друг друга, как я уже имел случай тебе сказать; единственным человеком, чей голос по-прежнему громко раздавался в доме, была Хана: она ржала, как говаривала о ней Топлечка. Хана не успокаивалась, я-то об этом знал, и изо дня в день становилась все более и более яростной. Хуже всего бывало после ужина, когда мы начинали молиться.
Мне казалось, будто Топлечка дала покаянный обет вывести дом на верный путь. Поначалу мне это надоедало – еще и оттого, что Хана ни в чем не давала ей спуску и вовсю над ней потешалась, а потом, когда молитвам и песнопениям уже не стало видно конца, я ее только жалел.
По обыкновению Хана первой откладывала ложку и, трижды осенив себя быстрым и мелким крестом по одной линии от лица до груди, словно описывая три круга, стремительно поднималась из-за стола и выходила в кухню.
– Будем молиться, – спокойно произносила Топлечка.
Не останавливаясь, Хана как ни в чем не бывало громко бросала:
– Пусть тот и молится, кому велено!
– О господи, девица, – шмыгала носом Топлечка. – Да простит тебе господь!
На эти ее слова Хана смеялась уже из сеней, а потом из кухни доносился грохот и стук посуды.
Топлечка принималась вздыхать и заставляла Тунику идти за сестрой. Туника уходила, но, как водится, ничего не добивалась. А я сидел и не знал, как мне быть: не любил я эти Топлечкины молитвы, однако и той силой, что была у Ханы, – встать и уйти – я не обладал; я никогда не был набожным, как, например, наши бабки или тот же Мартин Фрас, славивший в церковных процессиях деву Марию, но, если люди молились, я не мог так просто встать и уйти. Поэтому я и оставался с Туникой и Топлечкой и твердил привычные слова, краснея от стыда. И всегда, стоило Топлечке начать молиться, я почти с уверенностью знал, что она молится о том, чтобы я на ней женился, а наблюдая за нею, я замечал, как она с каждым днем все более опухает от пьянства, и мне становилось страшно.
Конечно, я никогда всерьез не думал о том, за что мы молились: язык произносил слова, а в голове было иное. Теперь, впервые с тех пор, как я попал к Топлекам, задумался я о себе и обо всем, что происходило со мной и вокруг меня. Я стал думать о Топлечке и о Хане, о том, к какому все это придет концу, что будет с их землей, с Топлековиной. Я слушал мелодичный голосок Туники, и случалось, у меня начинало щипать глаза. Я ломал голову в поисках ответа – зачем, зачем я живу при этих женщинах, все чаще и чаще мне вспоминались слова Муршеца, который при любом удобном случае предупреждал: «Ты, парень, берегись старой!» – и совет Михорича: «Брось баб!» Меня трясло при таких воспоминаниях, а рядом была Хана, и я с ней терял рассудок, и мне становилось все безразлично, и только Тунику, я уж тебе говорил, было жалко. Тревожило меня и замужество Марицы – ведь тогда наша земля переходила к сестре, но не находилось у меня сил и решимости покончить с Топлечками.
Однажды, как раз посреди вечерних молений, закричал ребенок – девочка громко и натужно плакала. Топлечка не шевельнулась и продолжала читать молитву – в конце концов, не утерпев, поскольку ребенок не унимался, из кухни сперва донесся голос Ханы, а потом она сама вдруг ворвалась в горницу и мимо матери бросилась к ребенку.
Топлечка делала вид, будто ничего не видит и не слышит, – мы молились. Однако то, что Хана говорила, перепеленывая и баюкая ребенка, заставило Топлечку прервать молитву. Швырнув четки на стол, она ринулась в каморку. Она выхватила ребенка из рук у Ханы, и все завершилось слезами и воплями, слушать которые у нас с Туникой не было охоты; мы разошлись: я – к себе, Туника – сперва в кухню, а потом наверх. Я не мог видеть, как они вырывали малютку друг у друга из рук, ругаясь и понося при этом друг друга из-за земли и из-за меня.
В эту ночь, сидя у себя на постели, я вдруг почувствовал, как меня колотит дрожь: я начал раздеваться, а одежда вываливалась у меня из рук. Я затыкал себе уши, чтобы ничего не слышать – с той ночи я стал запираться.
А после другого подобного вечера, когда опять все окончилось воплями и всхлипываниями Зефы, я, должно быть, оставил свою дверь незапертой и посреди ночи, вздрогнув всем телом, проснулся, вернее, меня разбудил шепот. Кто-то меня называл по имени, гладил мои руки и лицо, ласкал – эх, это была, я узнал по голосу и по рукам, Топлечка.
Я привстал на постели.
– Южек, Южек, – шептала она, – я к тебе пришла, на немножко пришла…
Голос у нее дрожал, она была воплощением мольбы; меня точно ледяной водой окатило.
– Зефа, оставь меня, отстань… – шептал я, отдирая ее пальцы.
– Господи, господи, – с рыданиями спрашивала она: – Почему ты такой, почему? Зачем, зачем ты так со мной поступил?
Я был в полной растерянности. Ее хмельное дыхание обдавало меня, я старался отодвинуться в сторону – не было сил выносить запах вина. Наклонившись над кроватью, она искала меня – руки у нее были сильные, шершавые.
– Южек, ребенок у тебя ведь со мной, девочка…
Она умоляла, а голос ее звучал так, будто ей было весело и она намеревалась меня развеселить. Вот руки ее коснулись моей груди, и я схватил ее за запястья. Она пыталась вырваться, разгорячась, но я с силой сжимал ее руки.
– Южек, господом богом тебя прошу, Южек…
Она умоляла – нет, это вынести мне было не под силу! Я натянул одеяло до подбородка, по шею закутался в него. И при этом нечаянно толкнул ее, она соскользнула с кровати и опустилась на пол.
Она закрыла лицо руками, я понял это по ее приглушенному дыханию, потом оперлась на спинку кровати, задрожала, и послышались глухие рыдания.
Я накрылся с головой, отвернулся к стене, но уснуть не мог; она рыдала рядом. Я словно видел ее при свете дня; как пошатываясь и еле держась на ногах, она выбирается из каморки, сгорбленная и вконец измученная, как бежит за крестным ходом, видел ее сильные и шершавые руки, которыми она закрывает себе лицо и рвет волосы. Я снова и снова натягивал себе на голову одеяло, но слышал каждое ее движение – эх, жизнь наша не ведает милосердия!
Да, жизнь не ведала милосердия, во всяком случае по отношению ко мне: вскоре, в одну из ночей, после вечерней молитвы, Хана сообщила мне, что у нее будет ребенок, и потребовала, чтобы я сделал все, что полагается делать мужчине, то есть договориться о земле или Топлеков, или Хедлов.
– Будь ты хоть немножко мужчиной, такого бы не случилось! Или ты старухи испугался?
Я промолчал, опасаясь выдать себя, но в ту ночь она стала мне ненавистна. Я лишился воли и еле-еле дождался, пока она уберется. И внезапно я подумал о Тунике. Это был конец, однако я не зарыдал, не издал ни звука, слишком сильное горе перехватило мне горло.
XI
От Ханы я узнал обо всем незадолго до рождественских праздников, когда о замужестве Марицы уже говорили как о деле решенном, свадьбу предполагали сыграть вскоре после сретения.
Зимы в тот год словно и не бывало, снег выпал где-то в феврале, и была такая теплынь, будто климат меняется: дороги развезло, грязь стояла около дома, возле хлева и сараев, шагу не ступить.
И настроение у меня было под стать этой промозглой зимней погоде. С утра до вечера я слонялся от дома к хлеву, от свинарника к гумну, не зная, чем заняться, все меня раздражало, однако отсюда я оторваться не мог, а на свое родное гнездо, где сейчас готовились к свадьбе, тоже глядеть не хотелось. Прежде, бывало, я любил смотреть туда, на Хедловину, а теперь всякое желание пропало, сам себе я казался погорельцем, который схватился воду из лужи таскать, чтоб пламя сбить, а огонь уж всю избу обнял, вот он и уселся на свое ведерко и глаз не сводит, глядя, как обваливаются потолочные балки. И ко всему, сплошь я был равнодушен.
Через день-другой после того, как Хана сообщила мне свои новости, мы с ней ненароком остались вдвоем в хлеву. В горнице исходила криком девочка, и можно было не опасаться, что нас подслушают. Я стоял у двери с граблями, которые не успел отложить, и смотрел на закопченный фонарь, качавшийся наверху, отчего большие тени плясали по потолку и по стенам. Хану закрывала своей тушей корова, девушка тянула за соски и покрикивала на животное, не обращая внимания ни на что, – мне казалось, я ей сейчас не нужен и поэтому она срывает зло на корове. Я топтался на месте, не решаясь поделиться с ней тем, что меня мучило, потому как нутром чувствовал, что без отклика останется любое сказанное мной слово. Не оставалось мне, видно, иного пути, как выложить все напрямую, так делает она сама. И вот, когда она в очередной раз шлепнула корову в бок и крикнула на нее, я скорее спросил, нежели предложил:
– А может, ты избавишься от него, Хана, а?
Сперва мне показалось, будто она не расслышала, ни один мускул не дрогнул у нее на лице. А потом, вдруг ее кто ужалил. Она нахмурила брови и резко спросила:
– Чего?
Она перестала доить, ждала, чтобы я повторил, – и тогда я повторил свои слова.
Теперь она все расслышала – и стала доить. Лицо просветлело, она даже как-то кокетливо поправила прядь волос под льняным платком, однако не ответила: казалось, будто у нее вообще не было желания продолжать разговор на эту тему.
– Хана! – воскликнул я чуть покруче.
Опять никакого отклика, хотя она уже догадалась, к чему я клонил.
Но я, начав, не собирался отступать. Я приблизился к ней и хватил граблями оземь так, что в стороны полетели клочья соломы, и злобно рыкнул:








