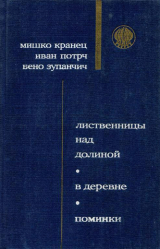
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
– Сам увидишь, Южек, что из этого выйдет! Для Лизы добра не жди. Приспичило ей принять этого проклятого бродягу! – Она особенно подчеркнула слово «бродягу». – Тоже мне партизан!
Меня ошеломила ненависть, прозвучавшая в ее словах; она люто ненавидела их обоих, Штрафелу и его жену, мою сестру, свою собственную, родную дочь. А потом вдруг спокойно сказала мне:
– Только, Южек, ты будь хорошим!
Точно сулила что-то. Что же? Землю?
Я вдруг почувствовал под ногами твердую почву – но, прежде чем я смог об этом поразмыслить, прежде чем все решилось со Штрафелой, пришла к нам Топлекова Хана. Увидев ее, я разинул рот.
– Отец тебя просил зайти, – обратилась она ко мне и, повернувшись к домашним, мы как раз сидели за столом, сказала: – Господи Иисусе, что будет с нашим отцом?
Слова ее с трудом проникли в мое сознание, я не слышал, что ей отвечали, мне стало и жарко и холодно разом. Ух, почему он меня зовет? Чего, черт побери, он от меня хочет? Может, Зефа ему все рассказала?
Почему именно того, что Топлечка ему все рассказала, я тогда больше всего испугался, не могу понять и по сей день. Я почему-то привык думать, что у жены не бывает секретов от мужа – а она ведь жена ему! Я собирался спросить у Ханы, не передавала ли чего мать, но подходящих слов не было. Я схватил шапку и пошел за девушкой, вовсе не чувствуя тяжести собственного тела, словно лишившись вдруг всякого веса. Когда мы вышли, Хана что-то спросила о Штрафеле, а я бездумно выпалил:
– Бродяга!
И меня охватил ужас – а вдруг Топлек поднимется с постели и выгонит меня из своего дома этим же самым словом.
– А ты б не пошел в батраки? – спросила Хана.
– Зачем? – засмеялся я, не давая себе труда задуматься над ее словами, но почувствовав в них ядовитый укол; однако времени разбираться не было – мы стояли у порога их дома; скрипнула входная дверь. Вздорная девка!
Того, что больше всего меня пугало, белых глаз Топлека – мурашки пробежали у меня по спине, когда я открывал дверь! – этих дьявольских выцветших белых глаз я не увидел; постель в горнице была застлана, и на ней никого не было.
«Переложили его», – подумалось; и не знаю отчего, сердце наполнил холодный ужас, точно в доме предстояло увидеть покойника; я оглядел все углы и еле сумел поздороваться: «Добрый вечер вам всем пошли господь!» На скамейке возле печи сидела Туника и возила ногами по полу; Топлечка вскочила из-за стола, точно ее кольнуло, схватила платок и, отвернувшись в угол, проворно повязала голову. Подобрала волосы, надвинула платок на самые глаза, повелительно взглянула на Тунику и Хану, вставшую у двери, и, поскольку взгляд ее не оказал своего действия, спросила:
– Вы идти думаете? Свиньям еще корм не задавали.
Девушки вышли, Хана что-то бормотала сквозь зубы, и мы остались одни: она у стола, сложив под грудью руки, я возле печи, чуть опершись на скамью, как перед тем Туника, и не поднимая глаз с полу.
– Он тебя звал, – сказала женщина, кивнув головой на каморку, и я не сумел разобрать по ее тону, о чем может идти речь. Она вошла первой, прикрывая платком глаза, и спокойно обратилась к больному:
– Ты слышишь? Южек Хедлов пришел.
Я услышал сперва протяжный стон и затем нетерпеливую скороговорку:
– О господи Иисусе, да пусть он входит! И Христом богом тебя прошу, подай лампу!
Не хватало еще только слов «ужасная женщина». Зачем, какого черта, как глупый баран, попер я за Ханой!
Топлечка сняла лампу, висевшую над столом, и стороной обошла меня, а я замер у двери, не осмеливаясь войти внутрь. Она поставила лампу на стул у изголовья больного и присела на сундук напротив, сложив на груди руки. Ложе больного было низким, продавленным, хотя по высоте кровать была одинаковой с той, стоявшей в горнице, – с одинаково округленными спинками, в голове выше, чем в ногах.
Я юркнул в дверь и опустился на краешек скамьи возле печи, на тот ее край, что высунулся сюда из горницы.
– Затвори дверь! И под голову, под голову мне подложи!
Женщина все послушно исполнила. Должен признаться, мне было жутко, и я физически ощущал, как тревожно бегают у меня глаза, не имея сил на чем-нибудь остановиться. За моей спиной посреди стенки находился кукерль, или кукерли, как называют маленькое оконце на кухню, которое, одному дьяволу ведомо зачем, принято у нас прорубать. Оно было прикрыто почерневшей деревянной заслонкой, но тем не менее стук посуды слышался довольно ясно – и меня вдруг охватило смятение, что девушки на кухне обо всем услышат и все узнают; особенно тяжело мне было об этом думать из-за младшей, Туники.
– Зима подходит… – начал больной и смолк в изнеможении, точно у него оборвалось дыхание, – зима подходит… Еще уборка, листья, репа, и зима наступит… Ты меня слышишь, Хедл? Или как тебя? Южек… ты слышишь меня?
Я вздрогнул – да, я слышал! – и кинул на него быстрый взгляд. Он пристально глядел на меня. Я поспешно кивнул, проглатывая слюну.
– Зима подходит, а дел много… Женщины одни, а меня земля зовет, чувствую, помирать мне… Все мы помрем, эх! Ты слышала, поправь подушку, голова скатывается! Ох, эти бабы!
Топлечка наклонилась к нему, не поднимаясь с сундука – он стоял в двух шагах от постели, – и стала поправлять подушку.
– Ох ты, как чурка!
– Да, чурка! – чуть слышно вздохнула она; я заметил, как задрожала у нее грудь – встав с сундука, Зефа склонилась над мужем. – Господи, что мне делать?
– Чурка, да! – настаивал больной, словно это вдруг поразило его в самое сердце. – Со мной, баба, ты всегда была чуркой! – Ему не хватило дыхания, он слишком разволновался, но скоро все прошло. Он приподнял голову, которая опять упала на подушку, как у младенца, и добавил без тени укоризны, почти беззвучно, точно вот-вот кончится: – Ох, если б ты и с другими такой была…
Должно быть, я побледнел в этот миг – студеный ветер пронзил меня, ногам стало холодно. Я ждал, взвинченный, готовый ко всему, когда зайдет речь о главном – о том, ради чего Топлек меня пригласил, из-за чего дочерей выпроводили на кухню и из-за чего мы с Топлечкой должны были предстать перед ним, перед хозяином. В мозгу ожили воспоминания о том вечере, когда отелилась корова, когда меня напугала и сразила ненасытность и горячность Топлечки.
Невольно я посмотрел на сундук – женщина сидела по-прежнему, может быть, чуточку больше согнувшись, закрыв руками лицо; ее била дрожь, сотрясались плечи, спина, все тело. Вдруг она вскочила на ноги, воздела руки горе, точно взывая к небу о помощи, и рыдающим голосом крикнула:
– Ну и оставался б при своих кузнечихах!
Она хотела еще что-то сказать, но задохнулась, всхлипнула и опустилась без сил на сундук. Закусила губу и умолкла, только плечи изредка – как прежде – дрожали. Кто знает, о чем она вспомнила и отчего умолкла.
Больной оставался неподвижным, не шевельнулся, не дрогнул, только глядел в потолок, глаза были белее, чем всегда, и молчал, сжав губы, словно больше не хотел говорить.
Не помню, как долго мы так сидели, что у меня творилось в это время в мыслях – думалось о многом и разном! Мне вдруг открылась чья-то жизнь, как никогда не открывалась до сих пор; и она оказалась такой жалкой и ненужной, что от боли сжималось сердце; и сейчас я остро чувствовал – все это должно свалиться на меня – убогого недоросля, жаждавшего отведать вкусной корочки с пирога!
Готовый ко всему, я сидел, вздыхая, и словно становился легче и меньше, и словно откуда-то из другого мира, словно через какую-то туманную пелену долетали до меня слова о том, чтобы я поступил к ним в батраки и помогал им в работе.
– Бабам бы помог… Договоримся, чтоб без обиды… Я думал, выйдет у меня… думал, к осени поднимусь, а не выйдет!
В голосе его звучала мольба, а мне слышался и упрек. Я не знал, что отвечать.
– Южек, ты придешь? – вдруг спросила Топлечка.
Я заерзал на скамейке и попытался увильнуть:
– Я бы пришел, да что дома скажут?
– Дома? А ты – тьфу на них! Брось ты их! – рассердилась женщина.
Она посмотрела на больного, не на меня, сняла с головы платок, и я заметил, как дрогнула у нее грудь – она задела рукой, когда поправляла волосы, – да, она знала, что нужно! И не произнесла ни слова. Мы молчали.
И только внизу, в подклети, где я на минуту остановился попрощаться – мы были одни, в темноте, – она негромко сказала:
– Стелить тебе в горнице будем…
А чуть погодя, когда я ухватился за ручку двери, не зная, как поступить, она повысила голос, чтоб слышали дочери, сидевшие на кухне:
– Счастливо, Южек! Значит, придешь! Ох, господи помилуй, что делать-то одиноким бабам…
Это опять была прежняя Топлечка, тот же плаксивый голос, сгорбленная спина, придавленная бременем безысходной судьбины.
Ясное дело, домой я шел как лунатик, неуверенно ступая по земле. А то вдруг принимался скакать через канавы, непрестанно твердя:
– Никогда больше! Никогда больше! – и еще: – Чурка, чурка…
Только я сам не верил в то, что повторяли губы, – я дрожал при мысли о том, что меня ждет. «В горнице тебе стелить будем…» А когда я перешел ручей, в ушах снова звучали стоны больного: «Ох, ты как чурка!» Мне стало жарко, шатаясь как лунатик – не знаю, как меня держали ноги, – я добрался до дому и повалился на солому, обхватив голову руками. Тревожные мои опасения – что Топлек догадывается обо всем – не оправдались; однако это не приносило облегчения, ибо страхи иного рода одолевали меня теперь, не давали заснуть.
Кончается… уже кончается… утопает, цепляется за соломинку, цепляется за меня – а я? Как мне ему помочь? Да и вряд ли с охотой я помог бы…
Меня охватывал ужас, в голове все перепуталось, четкой оставалась только мысль о земле; но теперь, как на духу, могу тебе сказать: о земле Топлеков в ту ночь я не думал, просто не успел о ней подумать, жизнь слишком быстро втянула меня в свои жернова и принялась перемалывать. Что скажут дома – это была отговорка, и я сам понимал. Мне хотелось «убраться из дома» – из того дома, где даже Штрафеле с каждым днем приходилось все хуже; где мать с каждым днем становилась все более замкнутой и ходила по комнате, как живое напоминание Штрафеле и его жене, собственной своей дочери, о том, что после масленицы бывает и великий пост, после наслаждения наступает раскаяние; где Лизика и ее Штрафела с каждым днем выглядели все более жалкими и старались воспользоваться любым случаем кому-нибудь поплакаться, мне или сестрам.
Мы сидели за ужином все вместе, мать со Штрафелой тоже были здесь, молчали, занятые каждый своими думами, ели жидкую пшеничную кашу, не спеша отправляя ее в рот, когда Марица, эта болтушка, ни с того ни с сего вдруг брякнула:
– У Плоя тоже корчму отнимут: ничуть ему не помогает, что Палек был с ними! В лесу, значит, партизанил, – Палек ведь сын Плоя.
Воцарилась прежняя тишина, и так бы это и миновало, если б Лизика, громко вздохнув, не подхватила, точно жалуясь на что-то:
– Ах, как это нехорошо!
Ну да, теперь она раскаивалась, потому должна что-то сказать, а каких-нибудь полгода назад для нее все было хорошо, что бы ни несла с собой эта Штрафелина правда.
– Ты бы помолчала! – рявкнул на жену Штрафела.
– А чего ей молчать? – окрысилась на него Марица; она глотнула воздуху, повертелась на своем месте и отрубила: – Она у себя дома пока!
У Марицы язычок не зря был подвешен, она его и наточить умела!
Возможно, что и теперь никто бы ничего не сказал и ничего бы не произошло, если бы у Штрафелы по неведомой причине не вывалилась из рук ложка. Марица, ясное дело, не сумела удержаться от смеха, а Штрафела – разве он мог с собой совладать – этого не вытерпел и, метнув в нее недобрый взгляд, спросил:
– Что значит, Марица, «пока»?
– Пока и есть пока! – отрезала сестра, как бы подчеркивая, что этим все сказано, и ответила ему таким же взглядом, раз уж он не отвел от нее глаз.
Штрафела выскочил из-за стола, схватил ложку и с такой силой сжал ее, что мне показалось, вот-вот он запустит ею в сестру; он был вне себя от ярости и готов был испепелить взглядом не только Марицу, но и всех нас, сидевших за столом. Но мы смотрели каждый в свою тарелку, не поднимая глаз.
– А когда вам крышу над головой надо было ставить, я хороший был, да?
Теперь все молчали, никто не собирался ему отвечать: казалось, у всех Хедлов слова вертелись на языке, но они силой удерживали их за зубами.
– Ну? Вы что, онемели? – крикнул Штрафела, поднимая судорожно сжатую в ладони ложку.
Мать положила свою ложку, вышла из-за стола и с тремя громкими вздохами произнесла:
– Хороший… для Франчека… погубить его!
Отвернувшись, она зарыдала, отошла к печи и села, вцепившись себе в волосы.
Штрафела на это только выругался, а Марица по-прежнему не спускала с него глаз.
– Будьте вы прокляты! – И он отшвырнул ложку; та отскочила от стола и над головой Лизики пролетела к середине комнаты, а он выскочил из двери как одержимый.
– Ох, – простонала Лизика и, поднявшись с места, поплыла следом.
– Вот так, мать! Все из-за вас! – сказал я и тоже отложил ложку.
– Из-за меня? – переспросила мать. – А почему из-за меня?
– Передать надо… кому-нибудь! – задохнувшись, произнес я.
– Кому? Тебе? – спросила она, и мне показалось, что в голосе ее прозвучала насмешка. Она повязала низко на лоб платок, встала и вышла.
Это и меня привело в ярость. И я обрадовался случаю на ком-нибудь ее сорвать, благо здесь были мои сестры, Марица и Ольга.
– Да жрите вы все сами, а я уйду, уйду от вас. Пусть к черту идет этот дом и эта земля! Пусть он достается Штрафеле, этому зверю!
Но и сестер уже не было в комнате. В ту же ночь я собрал те свои манатки, что уцелели после пожара, и быстро, чтоб не передумать, ушел; ушел я и для того, чтобы заставить мать на что-либо решиться. Но как сделать, чтоб земля досталась мне, я не знал. Я уходил, охваченный безумной злобой оттого, что никто не остановил меня или хотя бы чем-нибудь показал, что это их проняло.
У Топлеков я сперва спал в хлеву; устроил себе там постель наверху и после ужина, заглянув к скотине, забирался туда и с головой укутывался в солдатскую попону; по ночам подмораживало.
Топлечка вертелась вокруг, однако я никогда не начинал с ней разговор, не мог его начать, мне было слишком стыдно: стыдно перед ней, стыдно перед Топлеком, да и перед самим собой; о своих домашних, как и о дочерях Топлечки, особенно о Тунике, я не думал. Зефа ловила меня у поленницы, в хлеву, а за ужином или за обедом затягивала своим протяжным жалобным голосом, то и дело добавляя нудно так: «Южек».
– Южек, а за листьями мы не пойдем? Завтра бы… Южек, кадки бы приготовить… промыть и серой почистить!.. Южек, греча хорошо уродилась в этом году. Огородить бы ее надо, а то наша Туника ее скотиной вытопчет… Ох, господи помилуй!..
Заканчивалось это вздохом, и она уходила. Я старался не смотреть на нее, это я хорошо помню, однако до сих пор звучит у меня в ушах ее ноющий голос и я вижу ее наклоненную вперед фигуру, как будто перед исповедником, – но каждую минуту я чувствовал на себе ее взгляд, она наблюдала за мной, своим батраком, и только выжидала случая, когда можно будет на меня кинуться. Иногда ее взгляды пронзали меня, и тогда мне хотелось все бросить и убежать. И я сделал бы это, если б не распростился навсегда с родным домом; я бы вернулся, если б Штрафела ушел, если б мать послала за мной или как-нибудь распорядилась о земле. А то…
А то все вышло иначе: вышло то, чего я боялся, но чего в глубине души желал, – только… только чем все это кончится, мне и в голову не приходило, не могло прийти. Будь оно все проклято! В голову не могло прийти…
Вечером я разгружал кукурузу с воза. Топлечка прошла с пустой корзинкой, будто шла за чем, мимоходом накинулась на кур, загнала их в курятник, пошла обратно и с пустой корзиной у локтя остановилась на пороге, посмотрела на меня. Я работал, чувствуя всем телом ее пристальный взгляд, хотя сам ни разу не оглянулся.
– Ух, холодно, – воскликнула она вздрагивая и прижала локти к животу. И потише, во всяком случае мне так показалось, спросила своим певуче-протяжным голосом: – А тебе не холодно по ночам, Южек, в хлеву?
Я сбросил последние листья и стебли кукурузы, спрыгнул на землю, отряхнулся и ответил:
– С чего это мне должно быть холодно?..
Она молчала, внимательно глядя на меня, потом снова поежилась и сказала:
– Холодно тебе, вижу, холодно…
Взявшись за оглобли, я повернул телегу и стал толкать ее под крышу, в сарай. Из дома с пойлом для свиней выбежала Хана; следом за ней со вторым ведром в свинарник пробежала Туника. Свиньи заволновались, застучали копытцами, захрюкали. До меня доносились распоряжения Топлечки и недовольные ответы Ханы.
– Ханика! Ханика! – звала мать.
Дочь откликнулась, только когда во второй раз вышла от свиней.
– Чего вам?
– Надо одеяло отнести в хлев.
– Чего? – Хана выпрямилась и повернула голову в сторону матери.
– Южеку, – сказала та, – не то он замерзнет.
– Почему ж мне-то носить? – вызывающе спросила девушка и, вероятно, заметив меня, добавила, как бы оправдываясь: – Не видите, что ли, у меня дел по горло.
Она вошла в дом, следом за ней Топлечка со своей по-прежнему пустой корзинкой.
– Ух, ну и детки крещеные! – сетовала она.
Чуть погодя – я пошел к скотине – Топлечка медленно прошла к гумну и опять оказалась возле хлева.
– Одеяло я тебе дала, – сообщила она мне, не входя внутрь. – Одеяло и простыню. На лестнице повесила. – Помолчала и добавила: – Чтоб не замерзал.
– Ладно, ладно… – пробурчал я, желая от нее отвязаться, и почувствовал, как все тело у меня охватило пламя. Я замер с граблями в руках, но единственное, что я еще услышал, было нечто напоминавшее вздох, потом шаги стали удаляться.
Когда в тот вечер я украдкой, словно чего-то опасаясь, вошел в дом, первое, что я услыхал, был смех Ханы, доносившийся из кухни. Она заливисто смеялась, что-то говорила и снова смеялась. Инстинктивно я притих, но то ли они услыхали, как я вошел, то ли еще почему, однако Туника вдруг распахнула дверь, увидела меня в полосе упавшего из кухни света, и смех мгновенно оборвался.
– Где ужин? – спросил я.
– В горнице, на столе, – ответила девушка, придерживая дверь, точно ждала, пока я уйду.
Я направился в горницу, но не успел как следует притворить за собой дверь, как опять раздалось фырканье Ханы – видно, она не могла удержаться от смеха и хохотала у меня за спиной. Из каморки больного появилась Топлечка с чугунком в руках, она заправила волосы под платок и сказала:
– Садись за стол, Южек. Сейчас будем ужинать. – Прислушалась к хохоту, долетавшему из кухни. – Чего они там заливаются? – И позвала: – Ханика, Туника! Ужин остынет!
Мне и представить себе было трудно, как она сможет прийти ко мне, чтобы Топлек или девушки не заметили или вовсе не догадались – как-никак коровы у Топлеков редко телились; и однако, до последнего дня своей жизни не забуду, как каждую ночь я ждал ее, и нетерпение мое возрастало. Я уже не мог заснуть, я вслушивался в скрип двери, стоило ей приоткрыться, в хруст гравия по направлению к уборной, дважды повторяемое хлопанье дверцы, и опять все затихало. Со временем у меня настолько изощрился слух, что я уже различал шаги каждой Топлечки.
Однажды ночью – молодой месяц стоял высоко между звезд, было, наверное, около полуночи – я услышал шаги Топлечки. Медленные, осторожные, башмаки на босу ногу, сперва по песку во дворе, потом вдруг под крышей хлева. Она ступала очень осторожно – сна у меня как не бывало, я сел и насторожился. Да, это была она – и шла она сюда! Я замер от волнения, все тело как будто свела судорога. Сердце тревожно колотилось, зубы стучали.
Эту осторожную поступь нарушил неожиданный шум: проходя по хлеву, Топлечка зацепилась за ярмо – оно с грохотом сорвалось, загремев всеми своими ремнями. Собака тявкнула, заскулила, потом залаяла. На миг шаги стихли, затем повернули обратно и стали такими быстрыми, словно она торопилась бог знает куда.
Я вскочил на ноги, накинул впопыхах что-то на себя и кубарем слетел по лестнице, так что чуть не сорвал кожу с ладоней. Я хотел догнать ее, окликнуть, но входная дверь скрипнула, глухо звякнула железная щеколда.
– Зефа! – все-таки вырвалось у меня, и я опустился на порожек, судорожно сглотнув слюну.
Я прислушивался, не звякнет ли опять щеколда, не скрипнет ли дверь, хотя… хотя понимал, что этого не будет.
Ночь была студеная, небо усыпали звезды, тонким серпом висел месяц – возле него не было ни одной звездочки. Меня бил озноб. Я застегнулся и встал, чтобы вернуться к себе, как вдруг в окошке вспыхнула лампа, осветив деревья в саду.
Мне ужасно захотелось увидеть Топлечку, хотя бы на мгновение. На цыпочках, босиком, я подошел к дому и подпрыгнул, чтобы заглянуть в окно. И я увидел ее и подпрыгнул еще раз. Женщина стояла посреди комнаты в кофте и в красной нижней юбке, на плечах шерстяной платок – да ведь она ко мне собралась, озарило меня! – заложив руки на затылок, отчего пышная ее грудь напряглась и стала еще круче, и неподвижно смотрела перед собой, куда-то мимо стола и за лампу. Я отодвинулся и полез на плетень – откуда было лучше видно. По всей вероятности, женщина слушала, что ей говорил Топлек из своей каморки. Я видел, как она поджала губы, и это сразу придало ей суровый вид; видел, как она схватила платок с плеч и накинула его на голову, быстро и с очевидной злобой, но отвечала она неторопливо и беззаботно, что меня поразило:
– О господи помилуй, громыхнуло что-то в хлеву, вот и пошла глянуть, в чем дело!
Ее мне было слышно, что говорил больной – я не различал. Скорее всего, он опять принялся ее пилить, потому что она снова стояла недвижимо, крепко сжав губы, потом с досадой тряхнула головой, косы рассыпались у нее по плечам, подошла к столу, взяла лампу, мимоходом бросив шерстяной платок на свою постель в горнице, и медленно, даже как-то сокрушенно вошла в каморку.
Я слез на землю и кинулся к хлеву, куда выходило оконце из каморки, – чтоб увидеть ее. Ставни были неплотно прикрыты, и сквозь щель мне было хорошо видно все происходившее внутри. Лампа с закопченным стеклом стояла на подоконнике, Топлечка сидела на сундуке, как обычно, положив руки на колени, и широко раскрытые ее глаза были устремлены поверх постели больного куда-то в пустоту, точно она внимала стене.
Теперь мне было хорошо слышно, что говорили оба. Больной стонал и хрипел, несколько раз он взмахнул своей сплющенной, обнаженной по локоть рукой, словно пытаясь что-то поймать, – видеть ее было жутко, – потом рука бессильно упала на одеяло. Очевидно, его что-то очень взволновало, а успокоения себе он не находил.
– Ох… ох… ох… – хрипел он, – хоть бы дождалась, пока ноги протяну… Недолго я тебе мешать буду… Из-за вас… из-за тебя, баба, пропадаю я…
Он повернул голову, глядя на нее воспаленными, вытаращенными глазами, которые только и оставались живыми у него на лице. И все время пытался приподнять голову.
– Ох, проклятая! Помоги хоть…
Она нагнулась к нему, не вставая с сундука, и так, полулежа, стала совать ему под голову какие-то тряпки – и тут я увидел то, что хотел увидеть, – ее грудь, выскользнувшую из выреза кофты.
– Из-за вас пропадаю… из-за хозяйства… из-за тебя, ох ты, проклятая! – и вдруг он умолк, протянул вперед сперва одну, потом другую руку, словно намереваясь коснуться ее грудей; неожиданно он схватил их с такой силой, будто хотел вырвать с корнем, голова и верхняя часть его тела теперь выпрямились, и он свистящим шепотом, задыхаясь, повторял: – Зефа… Зефа… Зефа…
И тут я увидел такое, отчего по сей день у меня обмирает сердце, когда я вспоминаю ту ночь. Я увидел, как женщина вместо того, чтобы отодвинуться и оттолкнуть его руки, пересела к нему на постель и, не убирая груди, левой рукой схватилась поверх тела больного за боковую доску, а правой перебросила назад волосы и равнодушно, как будто ничего особенного не происходило, но все было вполне привычным, устремила взгляд в темное окно. И вдруг глаза ее округлились – или она заметила меня?
Я соскользнул с плетня и упал на колени, словно ноги отказались мне служить. Вспоминаю, что выбрался я из палисадника на четвереньках, а вот как забрался обратно к себе наверх, позабыл. Ни луны, ли звезд не помню, ничего не различал я вокруг – перед глазами стояло только то, что происходило в каморке и что показалось мне таким ужасным, только это заполняло голову до тех пор, пока не одолел меня сон, а сон в ту ночь долго ко мне не приходил. Я не испытывал ревности, скорее, пожалуй, это было похоже на жалость, на сочувствие, но не на ревность. «Зачем он живет?» – спрашивал, я себя, вспоминая о Топлеке. Однако неразрешимой тайной осталось для меня то, Почему она не ударила по этим костям, почему не отодвинулась, почему позволила ему прикасаться к себе?
Близился сбор винограда – подошла осень. Дни стояли солнечные, но по ночам подмораживало, все сулило хороший урожай на виноградниках. Я стал зябнуть в хлеву и перебрался в дом.
Впервые в жизни я спал в комнате один. Дома мне приходилось спать с сестрами, а когда они стали проявлять свой норов и заняли заднюю комнатку, меня переселили к бабке в клетушку, где у каждого был свой угол; в летние месяцы я, как и все парни, перебирался сразу после покоса на сеновал. Впервые ложился я на такую высокую мягкую постель, что прямо тонул в ней, впервые в жизни я заметил, что к моему приходу комнату убрали: пол вымыт, на окнах фуксии и герань, по оконным переплетам вилась зелень, так что с улицы ничего не было видно. Впервые у меня был стол, на который, раздеваясь, я мог положить сигареты; впервые у меня был шкаф, пусть часть шкафа, потому что в левой его половине были устроены полки, на которых лежали книги, календари и альманахи, а ниже хранилась всевозможная рухлядь. Впервые в жизни я почувствовал какой-то порядок.
Когда сейчас, после всех событий, я вспоминаю об этом, то часто думаю, жил бы я себе спокойно в той комнатке, рассматривал картинки и читал по вечерам перед сном календари в постели; а то мог бы снова начать думать о Тунике, об этой остроглазой девчушке, которая уже «на кого-то заглядывается», как говаривала Цафовка, особенно если Туника оказывалась поблизости, отчего девочка заливалась румянцем и отворачивалась.
Но я словно ослеп или вовсе лишился разума: о Тунике я перестал думать, даже не замечал ее в доме. С каждым днем в моей дурьей голове все дольше оставалась сама Топлечка. Несколько ночей я спал крепко, спал, можно сказать, как убитый, а потом опять начал различать – вот она выходит из горницы, во двор и в кухню, сварить для больного целебные зелья. Я ловил себя на том, что напрягаю слух и караулю каждый ее шаг, и уже стал разбираться в ее вздохах, когда она наливала воду, передвигала кастрюльки и разводила огонь. Я как наяву видел – вот она отодвигает заслонку, выгребает золу, колет лучину, раздувает угли, ставит чугунок и замирает перед очагом, сложив на груди руки и вздыхая.
Эти вздохи – сперва мне только казалось, но так было на самом деле – с каждой ночью становились все громче и чаще; она словно соболезновала самой себе – думаю, что я ничуть не преувеличиваю. А потом в одну из ночей – я сидел в кровати навострив уши – мне вдруг стало зябко и меня одолел кашель; я пытался подавить его, но ничего не выходило, тогда я с головой накрылся одеялом, безуспешно – громкий кашель меня не оставлял. Не умею сказать, в чем было дело, но после одного из приступов я задержал дыхание и стал напряженно вслушиваться, словно хотел проникнуть в самую черную тьму. Было тихо, только сердце у меня гулко стучало – как вдруг тишину нарушило слабое покашливание из кухни, ответное. Если перед тем было тихо, то теперь тишина стала еще более густой и еще более осязаемой. Я услыхал, как на очаге звякнул чугунок, потом короткое покашливание, словно у Зефы першило в горле и она хотела его прочистить. Зажурчала вода, в нее упали кусочки сахара – и опять послышалось покашливание, один раз, другой, третий. Раскрыв рот, я затаил дыхание. Ни за что на свете не осмелился бы я сейчас кашлянуть, слишком хорошо все было слышно, а весь дом казался мне одним огромным напряженным ухом. Я слышал, как она пошла с чашкой в руках, потому что поступь была осторожной и замедленной, у самых дверей она поперхнулась и опять закашлялась. Я замер, пуще всего опасаясь потерять над собой власть и подать ей ответный сигнал. Но когда она вышла из каморки больного и оказалась в соседней горнице, где всегда спала, и под тяжестью ее тела заскрипела кровать, я не выдержал – кашель одолел меня, и я зашелся. Долго было тихо, так тихо, что я мог различить через окно, как падают с дерева и катятся по траве яблоки; потом в горнице опять скрипнула кровать, и снова раздался кашель. В тот же миг послышалось бормотанье из каморки – Топлек! Я изо всех сил старался разобрать, что он бормочет, но мне не удалось; и я бросился на подушку, накрыл голову одеялом, ничего больше не желая слышать. «Ты совсем спятил, Южек? – спросил я себя: – Да, спятил, спятил, спятил…» И чувствовал я себя таким усталым, и думать ни о чем не мог.
«Не сходи с ума, Южек, не сходи с ума, Южек…» Я твердил себе и на следующую ночь, корчась под одеялом, только все это ничуть не помогало. Кашель одолевал меня, и пришлось в конце концов сбросить одеяло. Женщина в горнице не кашляла, разве изредка, проходя через сени, подавала знак приглушенно, точно приложив руку ко рту.
В те дни мы почти не смотрели друг на друга. Топлечка натягивала платок на самые глаза, а я, разговаривая с ней о каких-нибудь мелочах в хлеву или во дворе, глядел в сторону, поверх нее. Ни за какие деньги на свете не мог бы я взглянуть ей в глаза.
А больной слабел с каждым днем.
– Господи Иисусе милосердный, кровью харкает! – горевала Топлечка и перед людьми выглядела потрясенной и сломленной.
– В этом году ему уж вина не попробовать, – толковали мужики, когда ее не было поблизости, а это означало, что ему не дождаться мартинова дня.
В разгар уборки винограда Топлек стал задыхаться, мне дважды за один день пришлось запрягать лошадь: утром я привез капеллана, а ближе к вечеру доктора. Капеллан всю дорогу кивал влево и вправо, отвечая на приветствия и одаривая людей своим «во веки веков, аминь!», а когда Топлек причастился и мы тронулись обратно через ущелье и на широкой дороге, что вела к городу, я подхлестнул кобылу, священник сокрушенно вздохнул:
– Тяжко будет, тяжко, одни женщины остаются.
Мне почудилось, будто он говорит это хворому Топлеку, готовящемуся покинуть сей мир; ко мне он не обращался, потому что тогда ему пришлось бы повысить голос – ведь коляска громыхала по камням. Тем не менее я подумал, надо бы сказать ему что-то, ответить; я подхлестнул кобылу и, когда мы, приближаясь к мосту, поехали медленнее, сказал:








