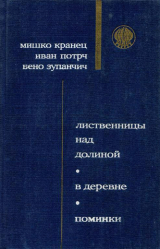
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Говорят, где баба хозяин, там волку раздолье.
И попытался улыбнуться.
Капеллан долго молчал, до самого Сказового моста. И тут громко, чтоб я все расслышал, и таким тоном, что у меня пропала охота вести дальнейшую беседу, пояснил:
– И за хозяйство стоит опасаться – но с хозяйством не так плохо обстоит дело… Старшая свое еще не отгуляла, а молодые, они не так быстро созреют, не сразу; опасаться надо, что с женщинами выйдет не ладно… Она так на меня смотрела, точно по глазам хотела прочесть, вручил ли он господу свою душу или нет… Да не обойдет господь своей милостью его, а ее особенно!
Врача мне пришлось прождать несколько часов; он вышел только около пяти с сумкой в руках и, разместившись в коляске, спросил:
– Это тот самый пожиратель мела? Шутки шутить захотел с природой, вот она с ним и сыграла шутку – сам он в накладе-то и остался! Ну, поехали! Все помрем… Гечев тоже вон лапки протянул…
Всю дорогу от города и обратно я думал об «обызвествлении», о котором доктор говорил тогда весной с корчмаркой, о меле, которым Топлек зацементировал себе кишки и желудок. Еще дома, когда врач только собирался уезжать, а я во дворе подкармливал овсом кобылу, вбежала Топлечка и велела мне дожидаться ее в городе.
– У Белого креста, во дворе жди.
– А чего вам с доктором не поехать? – возразил я.
– Ах! – Она бросилась обратно в дом; кто знает, почему она застеснялась, – или врач показался ей слишком важным господином, или у нее были какие-либо иные серьезные причины.
Я дождался ее, и мы выехали из города, когда уже смеркалось и в домах вспыхнули огни. Теперь я мог сидеть на заднем сиденье, где располагались священник и доктор и где теперь была одна Зефа. Мы сидели близко друг к другу, и я чувствовал тепло ее тела.
Она сидела рядом, чуть наклонившись над корзинкой, которую обеими руками, как ребенка, держала на коленях; в одной руке, в правой, у нее был измятый носовой платок, и она то и дело вытирала им губы и одновременно засовывала волосы под платок; и все время втягивала в себя воздух, отчего мне казалось, будто она плачет или вот-вот заплачет, хотя… хотя я точно знал: причиной тому был литр вина, что мы выпили у Белого креста; оно подействовало на нее, вот она теперь и всхлипывала. «Какого черта, – подумал я, – она заказала литр?», когда корчмарка поставила перед нами кувшин с вином. Топлечка хотела заказать для меня гуляш, но я отбился – и так придется немало платить, и мне невольно вспомнились те два динара, о которых в свое время шла молва по селу. Эх, заполучила она в свои руки денежки и теперь швыряет ими направо и налево, не зная ни счета им, ни цены! Так вот мы сидели и угощались, то и дело наклоняя кувшин, пока он не опустел, а потом, будучи уже крепко навеселе, уселись в свою коляску.
Мы молча ехали сначала по городу, затем по торному тракту, а когда городские предместья остались далеко позади, кобыла пустилась галопом, который затем сменился однообразной рысью.
Топлечка вдруг несколько раз подряд громко вздохнула, вытерла рот и поправила волосы, а потом, глядя куда-то поверх лошадиной гривы, сказала – мне почудилось, это было самое сокровенное, что давно лежало у нее на душе:
– Гечевке, той легко, она с одним ребенком осталась, да и молода еще, скоро другого мужика подберет. А мне что делать, несчастной?
Геча похоронили на прошлой неделе, поговаривали, будто он тоже ел мел, чтобы избежать призыва в немецкую армию.
Я было собрался сокрушенно вздохнуть в ответ, дескать, как-нибудь обойдется, не надо, мол, беспокоиться, подобрал уже вожжи и раскрыл рот, но вдруг почувствовал, что слова не идут из горла, словно спазм его перехватил. Потому что Топлечка громко спросила, да так, что у меня разом оборвалось дыхание, – спросила скорее себя самое:
– Иисусе Христе милостивый, долго ли ему еще мучиться? И придет ли когда конец этому, о господи?
Колеса поскрипывали, кобыла тащилась по каменистой дороге – и не помню, то ли я пожалел женщину, то ли вино оказало свое действие, только я заговорил и выболтал все, что слыхал от доктора, может собираясь ее этим утешить, так мне, во всяком случае, показалось.
– Доктор еще летом говорил корчмарке, что ему конец. Он будто обызвествился…
Она перестала вытираться и поправлять волосы, вроде бы и вздыхать стала меньше – точно желала все узнать. Долго, затихнув, смотрела Топлечка вперед, а потом коснулась меня локтем, словно хотела созорничать, и с каким-то оживлением, едва ли не с радостью, сказала:
– Южек, ты оставайся у нас, чтоб одним нам, бабам, не быть…
– Отчего ж не остаться? – ответил я, отчасти из-за действия винных паров, хотя уже прекрасно понимал, чем объясняются эти ее слова о бабах – ведь думала-то она только о себе. Но мне было грустно, и я еще сам не осознавал отчего – то ли потому, что выболтал о болезни Топлека, то ли потому, что она не сумела скрыть свою радость; сердце стиснула жуть. Я испытывал такое чувство, будто вместе с нею был во всем виноват… Однако я не отставлял свою ногу от ее юбки, одной половиной своего тела ощущая жар ее крови. Я натягивал вожжи и беззвучно твердил: «Горячая, горячая… горячая…», еще теснее прижимая к ней свою ногу, да и она не отодвинулась. Да, баба захмелела… Это мне было неприятно, и всю дорогу, до самого Топлекова дома, я не мог избавиться от какого-то гадкого ощущения. Однако инстинкт или что неведомое во мне уже далеко закинуло свою удочку по мутной воде – и выжидало…
Не помню теперь, почему оставалась гореть лампа, когда Зефа пришла ко мне. Припоминаю только, что я долго возился перед тем, как лечь спать. Лошадь я помыл и накормил еще в корчме, в омуте под вербами искупался сам – вино совсем задурило голову, а тело обжигала едкая пыль, я сбросил одежду и переплыл реку туда и обратно – и долго волынил, пока девушки не ушли к себе и мы с Топлечкой не остались одни. Припоминаю, я взял лампу и, прежде чем выйти из горницы, невольно оглянулся. В кухне послышался вздох. Из дверей кухни я увидел Топлечку – она держала чугунок и смотрела на меня во все глаза, точно собиралась что-то сказать. Она явно подыскивала слова, но так ничего и не произнесла и не отвела от меня глаз.
– Я спать иду, – вырвалось у меня; медленно-медленно я закрыл за собой дверь, а может, только прикрыл. Я разделся, лег и, заложив руки под голову, стал смотреть в потолок. Слышал, как она ходила по дому, а потом веки у меня сомкнулись и я уснул.
Вот так, во сне, я ее и почувствовал, открыл глаза – и увидел ее воочию. Она сидела на моей кровати в красной нижней юбке и белой кофте и улыбалась. Несколько мгновений я смотрел на нее, потом отвернулся к стенке, зажмурил глаза, точно какая-нибудь девчонка, и скорчился так, что чуть не столкнул ее с кровати на пол.
– Ты смотри, каков… – шепнула она, встала, потушила лампу и опять зашептала: – Всеми зельями приворотными я его опоила… он и уснул… Ой, Южек!
Она искала в кромешной тьме мои руки, пыталась оторвать их от лица, вытащить из волос, куда я их совал, потом вдруг повалила меня на постель и всем своим грузным телом и жаркими ногами прижалась ко мне.
Я обезумел, перестал вообще о чем-либо думать. Сперва она меня обнимала, потом, раскинув руки в стороны, начала тихонько постанывать. И так до конца. В первую ночь меня пугали эти ее стоны, но постепенно я стал к ним привыкать. Мы спешили, точно за нами гнались. Она приходила, нащупывала меня в постели, и затем начинались наши скорые игры. Мы почти не разговаривали друг с другом. Однажды посреди ночи она чуть не в голос начала твердить мое имя: «Южек, Южек…», и мне пришлось закрыть ей ладонью рот, чтоб не услышали в доме. И тогда она укусила меня, да с такой силой, что я вскрикнул, со злостью схватил ее за косы, обвил их вокруг кисти и, прошипев: «Дура!», изо всех сил дернул. Она разинула рот, однако не издала ни единого звука, потом встала и, крадучись, как и появилась, ушла. И здесь что-то переломилось – до тех пор поступая словно бы с оглядкой и позволяя ей делать с собой все что угодно, я внезапно почувствовал, что могу теперь сам делать с ней, что хочу, – она словно бы лишилась собственной воли, а о разуме уж и вовсе нет разговора.
Так оно и тянулось всю дождливую осень, несколько долгих недель, пока не ударили первые заморозки. Наши ночи были безумными, хотя постепенно все обращалось в привычку, простую, будничную привычку, – только однажды наступила ночь, которая стала предостережением, да, для нас обоих могла стать предостережением.
Я говорил, что мы оба начисто лишились рассудка, переставали воспринимать окружающее. Только из-за этого в ту ночь мы и не услышали, как Топлек окликал Зефу.
Мы пришли в себя от стремительных шагов Ханы по лестнице, прислушались и отчетливо различили недовольный голос девушки, которая, стукнув в дверь и еще не придя в себя со сна, говорила, обращаясь к матери:
– Вы что, оглохли? Чего не встаете?
Мы оцепенели от страха. Теперь, когда дверь в горницу была открыта, можно было слышать стоны больного.
– Что, нету матери? – спрашивал Топлек, причем так ясно, как будто он не лежал в постели в каморке, а стоял где-то посреди комнаты или даже в сенях.
– Господи! – выдохнула женщина рядом со мной, и, как бы вдруг оплыв, опустилась на пол, силясь понять, что же последует дальше.
Но слышались только шаги Ханы, теперь она прошла по горнице, и ее вопрос шел почти от самой каморки:
– Разве нет ее здесь? Где ж она? – И ее возглас; – Мама!
Ответом на это была тишина. И в этой тишине ко мне, если не к Топлечке, вернулся разум.
– Иди! – прошипел я, подталкивая ее.
Однако Топлечка уцепилась обеими руками за спинку кровати – я понял, мне ее не оторвать, – и чуть ли не в полный голос завела:
– Не пойду… А мне что за дело… Хватит с меня… Сыта я по горло…
– Да ты в своем уме! – выдохнул я, чувствуя, как У меня сжимаются зубы и меня охватывает ярость.
Я вскочил на ноги и, набрасывая на себя одежду, постепенно принимал решение. Я обнял ее за плечи, подхватил, тяжелую и квелую, и вынес чуть ли не на руках в сени, тихо открыл дверь и быстро шепнул:
– Ты будто снаружи была, в хлеву у скота.
Она охнула и обхватила руками голову. Мне врезались в память ее глаза – видно, свежий ночной воздух отрезвил ее, – в которых застыл призыв о помощи, которой она у меня не нашла.
Вернувшись к себе, я не стал ложиться, опасаясь, как бы не выдало шуршанье соломенного тюфяка. Через несколько минут хлопнула дверь – Зефа вошла в сени.
– Где вы были? – спросила Хана, и та громко и отчетливо ответила:
– Где ж мне быть? Скотину поглядеть ходила.
Воцарилось молчание, и она сама нарушила его, стремясь все объяснить, отвести от себя всякие подозрения.
– Не знаю, что с коровой, не лежится ей, да и только, всю ночь стоит в яслях… Боюсь, не захворала бы…
Проворчав что-то, Хана собралась идти к себе, да и Топлек перестал стонать, поэтому в наступившей тишине особенно резко прозвучали слова Ханы:
– А Южека там не было?
Ответа не последовало, шлепали только шаги Топлечки, хлопотавшей в кухне с лекарством.
– Мама! Вы слыхали? – повторила Хана.
– Откуда ж мне знать? – отрезала Топлечка, а из каморки опять понеслись стоны – видно, больной тоже дожидался этого ответа.
Я оцепенел. И если вначале я растерялся и проклял Ханику, то теперь, когда напряжение ослабло и я постепенно убеждался, что никто ничего не заметил – в этом я любой ценой готов был себя убедить, да, – то теперь в мою душу медленно заползал страх, который, собственно, и не покидал меня, усиливая чувство вины перед Топлеком – ведь за последние недели я вовсе перестал думать о нем. Сейчас опомниться мне помогла сама Зефа, ее слова: «А мне что за дело…» и «Сыта я по горло…»; и во мне вдруг родился безумный ужас, даже если мне удавалось избавиться от мыслей о Зефе. А после той ночи мой ужас становился все более и более тяжким – я начал бояться Зефы.
Я начал бояться ее и решил все прекратить, хотя, вроде бы приняв это твердое решение, ничуть сам в него не верил, не верил, что все будет, как я решил, и не знал, как все может прекратиться. И когда на другую ночь она пришла – должно быть, полночь давно миновала, потому что я спал как убитый, – и я, проснувшись, осознал, что она лежит рядом под одеялом и, пощипывая, будит меня, бездумно сунул руку ей под голову, а в памяти вдруг ожила минувшая ночь: страх, с которым я еле смог совладать, и со ненасытность и безудержная неутомимость, и чувство безразличия ко всему, охватившее ее упрямство, и ее жестокие слова, и возникшее у меня ощущение, что она мне докучает, – все это в совокупности заставило меня убрать свою руку; я перевернулся на спину, подложив ладони под голову, и уставился в прокопченный потолок.
– Южек! – сладко шепнула она, не часто она бывала такой умильной. – Ты не бойся!
Я лежал без движения, хотя она всячески заигрывала со мной, потом резко отодвинулся от нее.
– Не бойся, сегодня ночью он не станет меня звать.
– Чего? – Мрачное предчувствие и все тот же страх сжали мне сердце; она, вероятно, почувствовала, как я вздрогнул.
– Тебе чего да чего! – Она пыталась шутить. – Да вовсе ничего. И что быть-то может? – Она шептала оживленно, точно избавившись от забот, вероятно, чтоб ободрить меня: – Чай я ему приготовила на чистой водке… Не бойся, сегодня звать не будет.
Она рассказывала мне это, и я чувствовал, что улыбки у нее на губах нет; все было высказано сухо, холодно и без тени жалости, без призвука милосердия по отношению к нему.
– Ты с ума сошла! – ответил я, отодвигаясь от нее и стараясь избежать ее ласк.
– Ах, вот как? С ума сошла?! – вскрикнула она и, опершись на локти, отодвинулась от меня и села. – Мне живой с мертвым в гроб ложиться? – Умолкла, точно пожалела, что слишком много сказала, спустила ноги с постели и, закрыв лицо ладонями, тихонько, горько заплакала.
– Что у меня было в жизни? Никто меня никогда не спрашивал, чего я хочу, словно телку какую из дома выставили. Мать пыталась защитить, а отец прикрикнул на нее, сказал (в могиле они, а я их как сегодня слышу): «Ребят она ему рожать будет. А что еще нужно? Для чего, она думает, существует на белом свете?» Нет, ну ничегошеньки у меня не было в жизни. Первые годы он меня мучил за то, что пришла к нему не такой, какой невеста должна приходить… и ведь терзал только ради того, чтоб потерзать! Сделал мне двоих, чтоб… чтоб и эти две против меня пошли… эх…
Я чувствовал, как вздрагивало ее тело, словно в ознобе; а когда открыла лицо, оно было залито слезами. Она смотрела на меня своими большими глазами, в них стоял упрек и вопрос, словно это я был виноват в ее несчастьях.
Но жалости к ней у меня сейчас не было; что-то мешало мне, однако тем не менее я крепко обнял ее, прижал к себе, волосы ее закрыли мне лицо, и я мгновенно промок от ее слез, не успев еще поцеловать, хотя… хотя делал это через силу, заставляя себя.
А моя ласка сильнее расслабила ее, ей совсем стало жаль самое себя. Судорожно обнимая меня, она рыдала взахлеб.
– Он ужасный… Ты не знаешь, какой он ужасный… Жалко мне его, да! Он хочет, чтоб я целыми ночами рядом была… чтоб мять меня своими пальцами. Всю-то жизнь он истязал и тиранил меня. Из-за любого мужика проходящего, из-за последнего урода мучил. А последний раз, – она приподнялась, опираясь на мою грудь, – последний раз чуть вовсе не задушил. Я уж думала, его костлявые пальцы совсем шею перехватят: такой ужас в душе поднялся, даже крикнуть не могла. Стиснул пальцами мне шею и стал подниматься, а кости его надо мной громоздятся, и слышно, как все скрипит, хрустит у него внутри, все суставы да косточки. – Она задрожала, а потом я почувствовал, как напряглось, сжалось ее тело. – Ух, так бы и задушила его, своими руками глотку вырвала. Не могу выносить его, не могу, и все тут, не виновата я! В чем же, господи милосердный, так согрешил он, что не может с душой расстаться, высох ведь весь, кожа да кости!
– А меня-то душить не надо, – произнес я, схватив ее за руку, пальцы ее застыли у меня на шее – видимо, утратила над собой власть.
– Тебя? – переспросила она, и ее точно вдруг обожгло или обдало холодом, а потом засмеялась, а может, мне только показалось, потому что в следующую секунду я уже сам дрожал.
Мне послышалось, будто где-то скрипнула дверь и что-то шаркнуло по полу.
Она тоже вслушивалась, всем телом навалившись на меня.
Трудно сказать, как долго мы лежали молча, без движения, даже дышать перестали. Мне казалось, я слышу все, что происходит в доме: вот треснула балка, зашуршало на потолке – наверное, пробежала мышь.
– Тебе боязно? – шепнула она и даже крякнула, как будто это ее несказанно обрадовало. – У тебя бывают прислухи, а? Ты боишься?
Она в самом деле развеселилась. Обхватив руками мою шею, она сжимала ее, бормоча что-то сквозь плотно стиснутые зубы.
– И ты тоже, ты тоже виноват, что так все пошло… И тебя б я придушила, паренек, греховодник…
За несколько секунд она распалила меня, и мы оба провалились в какую-то бездну, где, по крайней мере ей, все стало безразлично; а я никак не мог позабыть о том, где я, в чьем доме. Сев на постели, она сбросила с себя нижнюю юбку и кофту – больше ничего на ней и не было – и сгорала от нетерпения, точно у нее не было времени ждать, как вдруг я заметил, что ее голая рука, отбросившая кофту, подломилась и ослабела; я приподнялся и почувствовал, как у меня захолонуло сердце: в двери стояла высокая белая фигура с раскрытой на груди рубахой и в кальсонах, руки висели вдоль тела, и вся фигура напоминала воскресшего из мертвых Лазаря. Он стоял неподвижно. Я не мог понять, как у Топлека хватило сил дойти сюда. Или Зефа оставила дверь открытой?
Медленно – меня била дрожь – я пополз под одеялом в изголовье кровати, словно отодвигаясь от чего-то, и по сей день не понимаю, почему я так поступил, а Зефа шарила руками по постели и тянула скомканную одежду к шее. И если скрип, услышанный нами, был прислухом, то это было привидение, больше чем привидение: висевшие плетьми руки вдруг ожили и потянулись куда-то кверху, словно намереваясь призвать небо в свидетели… а губы зашевелились, беззвучно, как, наверное, перед господом богом в Судный день.
Женщина застонала и повернулась ко мне, и я увидел большой открытый рот и шевелящиеся губы, потом она обхватила меня, безумно, точно ища у меня спасения; раскрытый рот прижался к моему плечу, чтобы не завопить; она дрожала как осиновый лист.
Стоящая в дверях безмолвная фигура зашевелилась и сделала шаг или несколько шагов вперед, подступая к нам. Меня охватил ужас, настоящий и неподдельный ужас, какого я не испытывал ни разу в жизни. Я стал выбираться из-под одеяла, отталкивая от себя женщину. Она тоже повернулась ко мне спиной, словно по выражению моего лица угадав что-то. Она прижалась спиной к спинке кровати, нижняя челюсть у нее отвисла, и тут я увидел, как белая фигура Топлека с воздетыми руками вдруг потянулась куда-то кверху, он захрипел, руки у него надломились, ноги подогнулись, он мешком повалился на пол и остался лежать недвижимо.
Когда я пришел в себя, увидел, что рука моя по-прежнему закрывает рот Топлечки, однако не могу сказать, успела она крикнуть или нет. Хорошо помню, что потом мы долго прислушивались, не проснулся ли кто в доме, не слышно ли топота босых ног… Но ничего не было слышно, кроме возни мышей и звуков ночи снаружи.
Топлечка отбросила мою руку, натянула юбку с кофтой и спрыгнула с постели. Подошла к белой фигуре, распростертой на полу, сложила на животе руки, потом разняла их, потрогала тело; затем вновь сложила руки и сказала:
– О господи Иисусе Христе, кончился!
Я испугался, однако женщина оставалась на удивление спокойной.
– Погоди! – шепнула она и выскользнула из комнаты; вернулась она уже одетая.
Я тоже оделся. Молча, точно сговорившись, мы подняли тело Топлека, вовсе лишенное тяжести, перенесли его в каморку и положили на постель. Я успел еще заметить, как она начала прибирать покойника, – больше я не выдержал. Выскочил из каморки, лег и с головой накрылся одеялом. Так я и лежал, пока через час или меньше глухую тишину, стоявшую в доме и у меня в голове, не нарушил вопль Зефы, потом раздался плач, послышались шаги Ханы и Туники на лестнице, их вопросы: «Что такое? С отцом плохо? Что с ним?» – и слова Туники:
– О господа, папа наш умер!
И я услышал плач, безутешный, горький плач Туники.
Как Зефа умеет рыдать, удивлялся я воплям Топлечки. Я встал, оделся и вышел – тоже испуганный, мне казалось, что так должно быть, – из своей комнаты. Вошел в горницу и увидел заплаканных девушек и Топлечку, державшую зажженную свечу у постели мужа. И раз уж я обо всем говорю откровенно, то надо сказать, меня больше пугала Топлечка, чем мертвое тело; меня пугало Зефино женское лукавство. И мне было чего пугаться, это выяснилось куда позднее, вот теперь я сполна испытал все на собственной шкуре.
VI
Смерть Топлека случилась в ночь с пятницы на субботу, и хоронили мы его в воскресенье к вечеру. «Хороший денек себе выбрал», – говорили люди. День стоял действительно прекрасный, какие бывают ясной осенью, и народу – конечно, все больше родня! – пришло столько, что и дома, и во дворе, куда ни глянь, все было черным-черно; а мне казалось, будто наползли в сад огромные медведки и ползают, ползают, вытягивая шеи. Откуда взялась эта толпа одетых в черное родственников? Их было столько, что и мне – я все время испытывал это чувство – стало грустно, поначалу сам не знаю отчего; как-никак я ведь был их сосед, батрачил в этом хозяйстве и мне лично беспокоиться было нечего. Но когда наутро после той ночи стали приходить люди, я вдруг поймал себя на том, что стою перед хлевом и как будто таращу глаза в пространство – а взгляд мой не отрывается от крыши родного дома по ту сторону овражка, и вдруг понял, как бы я был счастлив, если б находился там, пусть продолжая вздорить с сестрами или драться со Штрафелой. Да, все было бы хорошо и прекрасно, если б я мог ни одной минуты больше не оставаться у Топлеков. И как бы я был счастлив, если б вообще никогда не переступал порог их дома! О Тунике я почти не думал. Но нечто – я знаю, это был страх, это он удерживал меня у Топлеков, – было сильнее меня, и я не смел уйти отсюда, я должен был остаться и вести себя так, словно, кроме смерти Топлека, в доме ничего не произошло и вся эта история у Топлеков меня ничуть не касалась. Так я и остался у них и даже помогал нести гроб; от этого мне уклониться не удалось, хотя я бы отдал все на свете, чтобы этого избежать: не потому, что мне было трудно физически, – тяжелым, невыносимо тяжелым, угнетавшим меня и с той ночи проследовавшим, отнимая сон, стало для меня все на свете.
Невыносимы были для меня эти два дня, когда, входя в дом или взглядом скользнув в горницу, я видел в гробу высохшее тело и лицо, на котором стал открываться рот, точно покойник хотел закричать, сделать то, чего не успел сделать при жизни, когда упал на пол и все у него обломилось, замерло и он не успел ничего сказать. Ближе к вечеру Цафовка – она пришла на ночь читать молитвы – подвязала ему челюсть, однако Топлек не перестал зевать; сколько я ни убеждал себя, что не стану больше на него смотреть, ничто не помогало – видимо, нечистая совесть притягивала к нему мой взгляд. Невыносимо было мне видеть Топлечку: она натянула платок на самые глаза и ни на кого не смотрела, ни с кем не говорила, а меня словно вовсе перестала замечать, словно… словно ей было нужно, неведомо почему, именно так себя держать сейчас и непрерывно ныть. Мне невыносимо было встречаться с Ханой, а еще больше с Туникой, которая избегала меня, будто чего-то боялась. Хана тоже не желала меня видеть, а может, мне показалось, потому как утром, когда кругом царил хаос, я напомнил ей, что надо подоить коров. Глядя мимо, точно разговаривая с чужим, она отрубила:
– Пусть те и доят, кому все не по нраву!
Я хорошо запомнил эти слова, со мной говорили как с батраком или с кем-то, кто и думать не смеет о том, что ему придется хозяйничать в доме. А Туника явно сторонилась меня, она спешила увернуться, если наши пути сходились.
Да, было невыносимо, временами мне казалось, будто все знают, как умер Топлек, – но тяжелее всего было видеть Тунику. Поэтому у меня и вырвался вздох, сам не ведаю как, когда я заметил, что она на миг остановилась, глядя на деревья в саду.
– Бедная Туника!
В этот момент мне было настолько ее жаль, что я не мог сладить с собой и не сказать ей словечка. Она вздохнула и стремительно, как только могла, пошла прочь; закрыла лицо фартуком, но не заплакала – я знаю, я долго не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду.
А самое невыносимое началось, когда приехал Рудл, старший брат покойного, тот самый, что до женитьбы Топлека взял за себя двоюродную сестру Топлечки. Он явился так, будто и дом и земля принадлежали ему и будто теперь, когда Топлек покинул сию юдоль скорби, нужно было установить в доме порядок. Он появился в субботу вечером, прошел по полям вместе с женой и детьми, сплошь девочками – у него был один парень, да поговаривали, что у того с головой не все в порядке, – ни на кого не поглядев, даже на Топлечку, та затаилась в сенях, направился прямо в горницу, где лежал его брат. Приподнял покров, окропил покойника святой водой и перекрестил, причем так истово и сурово, точно боялся, что брат воскреснет и станет его по ночам преследовать; постоял у гроба, прочел одну или две молитвы, повернулся и вышел в сени, там он надел на голову шапку. Топлечка вытерла руки, она сделала это раньше, а теперь вытерла снова, будто одного раза было недостаточно, а вытерла их для того, чтобы поздороваться с Рудлом. Но Топлеков брат оставался неприступным, возвышаясь над ней, будто вовсе ее не замечая, сунул руки в карманы и угрюмо, словно обращаясь к сеням, не к живому человеку, спросил:
– Чего он у вас так жутко зевает? Могли б подвязать челюсть, а…
Он собирался что-то добавить, но, видно, передумал и, вытащив из кармана правую руку, махнул ею: дескать, нет смысла да и жаль попусту тратить слова, самое разумное помолчать.
– Иисусе Христе, господи наш, – выдохнула Топлечка так громко, как мне еще не доводилось слышать, и опустила передник. – Что поделаешь, если кончина ему вышла такая?
Она явно не собиралась уступать.
Брат Топлека еще выше задрал голову, вытянул шею, посмотрел на закопченный потолок и изрек:
– Ну да, вы, бабы, никогда ничего не можете, а Францл вот мертв.
Топлечка промолчала и не пошевелилась. Я повернулся и ушел в кухню, оставляя их один на один. Но мне было слышно, как мужик опять затянул:
– Жутко зевает! А вы где были, когда он кончался?
Я омертвел, меня обдало жаром. Я услышал, как женщина зашмыгала носом и, вытирая слезы, стала рассказывать историю, которую в тот день с утра до вечера она повторяла бессчетное количество раз и слышать которую становилось все более невыносимо. Это была сплошь выдумка о том, как муж ее позвал, как она встала, оделась и пошла приготовить ему напиток, как принесла ему этот напиток, а он принял все вместе, напиток и лекарства, и будто… будто выглядел он вполне нормально. Потом она вышла в кухню взглянуть на огонь в очаге – когда просыпаешься посреди ночи, голова всегда дурная! – а потом легла, и все это время, пока лежала, ей казалось странным, почему он не стонет – он стонал ночи напролет! – и будто не было у нее покоя; тогда она опять встала, пошла к нему и хотела сунуть под одеяло его руку, которую он высунул наружу, – упокой господи его душеньку! – и увидела, что уже наступил конец и уснул он навеки.
– Ох, Иисусе Христе, – заканчивала она, – тяжелая, лихая болезнь у него была, а умирал он легко, погас как свечка, даже крикнуть не успел.
Это была ловко составленная история, в которой все время подчеркивалось, что она дважды выходила на кухню – один раз приготовить напиток, другой раз взглянуть на огонь.
А пока она рассказывала, из горницы вышла его жена, следом за ней – дочери, и Топлеков брат вовсе неожиданно, почти с нежностью в голосе произнес:
– Ничего не поделаешь! Знать, пробил его час, избавился от мук.
– Несчастная ты, Зефа, несчастная, – заголосила его жена, подходя к Топлечке. – И у Гечевых такая ж беда, только Гечевка с малыми детьми осталась. А твои, Зефа, уже помощницы в доме.
– Ой, господи… – Топлечка с нахлынувшими слезами вдруг кинулась к сестре на грудь и во весь голос безутешно зарыдала. Это были совсем иные слезы, чем те, что я слышал ночью, на рассвете, теперь это был подлинный плач, надрывавший душу. Родственница вытирала глаза платком, который держала в руках, даже когда шла через поля, наконец и она тоже горько зарыдала.
Топлеков брат проглотил слюну и отвернулся, не желая видеть бабские слезы, у его девочек увлажнились глаза, а я поспешил выбраться из кухни мимо всей этой голосящей компании. Не было у меня ни малейшего желания слышать, как старший Топлек обругает меня – побаивался я неведомо по какой причине, как бы Топлечка, пуская слезы перед родней, перед братом покойного и своей двоюродной сестрой, невзначай не проговорилась и не покаялась, как все было на самом деле, ткнув при этом в меня пальцем. Потому что, бывая вне себя от волнения, она не удерживала и капли разума у себя в голове.
Я часто вспоминал потом об этих своих страхах, и мне неизменно становилось жутко, хотя я тут же убеждал себя, будто такое не могло произойти; я утешал и успокаивал себя тем, что, дескать, Топлечка слишком разумная и предусмотрительная баба, что она, в конце концов, опытная и понимает, на что идет. В ту субботу и воскресенье я не спускал с нее глаз; все время, пока родня находилась в доме, страх не оставлял меня, словно взнуздав, – ведь только мы с нею и знали, что случилось на самом деле и как умер Топлек.
Вечером, когда Цафовка завела свои молитвы, которым не было ни конца ни края, я встал под часами, которые остановили, между дверью и печью, и поверх обнаженных мужских голов и льняных женских платков смотрел, как посреди комнаты в гробу покоится Топлек со сложенными на груди руками, зажав костлявыми пальцами четки, а в изголовье у него горят две свечи, толстая восковая и тонкая сальная. Народу, соседей и родственников битком набилось в горнице и в сенях. Цафовка неторопливо и певуче читала молитвы, присутствовавшие вразнобой отвечали ей, так что казалось, будто мы стоим в церкви на вечерней мессе. Я пробрался к стене, чтоб никто меня не видел, и не удержался, разыскал взглядом Топлечку. Она стояла у гроба, позади Ханы и Туники, и то и дело взглядывала поверх покойника и горевших свечей в окно, завешенное красными занавесками. Туника вдруг переламывалась, словно рыдания пригибали ее к земле, а Топлечка часто-часто доставала платок, вытирала глаза и поправляла волосы.








