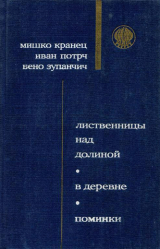
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Высунулась чья-то голова, потом кто-то сообщил:
– Это Хедлека, что ли? Этого, с его «проклятыми бабами», как он там разоряется… В экономию их послали, Они ушли и больше не вернутся, а нам тут дальше догнивать.
Эта мысль о гниении чем-то пришлась не по вкусу другому соузнику, и он, перевернувшись на спину, возразил:
– Догнивать? Ясное дело! Всем божьим тварям на этом свете суждено сгнить. От этого не спасешься, в тюрьме ты или на воле.
Замечание это вызвало смех, кто-то, приподнявшись на локтях, пронзительно хохотнул, кто-то отвернулся в угол, сокрушенно вздохнув. И снова все стихло, словно у лежавших вповалку людей пропал всякий интерес и к собственной судьбе, и к судьбе Хедлека. Короче говоря, ко всему в жизни.
Я долго не мог прийти в себя и долго не мог заснуть. Закрывал глаза, чтоб не мешал мертвенный свет прожекторов, бивший в окна, прижимал веки пальцами – без всякого успеха. Я чувствовал, физически ощущал, что возле меня лежит мой товарищ; картины, сменявшие одна другую у меня в голове, были такими живыми, словно парень не рассказывал, а рисовал их. Внезапно оборвавшееся повествование должно было завершиться, оно словно само собою стремилось к завершению. Я вдруг увидел Хедла у Плоя, пьяного от тоски и вина; мои мысли совпадали с его раздумьями о земле, о Топлечке и о ребенке, которому предстояло родиться; я чувствовал, как эта история с Топлечкой и с будущим ребенком терзала его и мучила; я воочию видел лукаво расспрашивающую его Плоевку и ее дочерей, стороной обходивших его, видел, как он плясал до упаду в безумном угаре – гармоника без устали наигрывала одни и те же вальсы и польки! – и как в конце концов он насмерть рассорился со всеми, а Хрватову сунул нож под самое сердце. Собственная сестра прокляла его, а мать только и нашла для него, что: «О господи, мученик из Назарета, и зачем он зарезал Хрватова, дитя несчастное!», не выронив ни слезинки; Топлечка заголосила и схватилась за сердце, когда он вдруг предстал перед нею глубокой ночью с окровавленным ножом в руках: «Вот и ты получай, чтоб не голосила!», а потом… потом появилась милиция, на него надели наручники, на самые запястья, и увели. Он молчал как обезумевший, а потом, спустя долгие месяцы, увидел женщину – Дору, Дору в тюремном окошке! – в душе у него ожили воспоминания, и он принялся проклинать женщин и заговорил – да, чтоб найти утешение смятенной душе.
Так завершилась – в моем воображении – эта история, и я смог незаметно уснуть, однако покоя она мне не давала ни днем ни ночью – пустой, будничной казалась мне она, уж слишком много тоски я видел в глазах соседа, слишком подолгу они устремлялись в одну точку, чтобы воображаемая мною история Хедла могла удовлетворить меня и дать ответ. Я бродил по тюремному двору и отсутствующим взглядом смотрел на последние кучи почерневшего снега, с которыми внутри тесного четырехугольника расправлялось весеннее солнце, я неотступно думал о парне, которому суждено шагать по казенным полям, готовя под посев землю, неотрывно глядя на далекие холмы, что по ту сторону Дравы. Я чувствовал, как разрывается его душа между Топлековиной и родным хозяйством – ведь из-за них расправился он с женихом сестры. А что теперь у него на душе, чем теперь он заполняет свои дни? Как выдержит срок наказания? И что с ним будет, когда он вернется? К тому времени и у Топлеков и у Хедлов женщины повыходят замуж. Как встретит его Топлечка? Как посмотрит на него собственный ребенок?
Эх, до чего же судьба человека может запасть в память и в сердце другого и надолго лишить покоя!
Но и воспоминания, какими бы жгучими они ни были, со временем блекнут, если старые герои не воскресят их и не призовут к жизни. Так произошло и со мною спустя каких-нибудь три недели – снег на дворе совсем растаял. Однажды вечером я обнаружил, что место рядом со мной занято. Кого-то дали в соседи, подумалось мне, и в тот миг я почувствовал со всей остротой, что утратил с уходом Хедла, – и сердце у меня сжалось! И тут я различил знакомые грустные глаза, в которые столько раз смотрел, большей частью во тьме, когда они начинали сверкать лихорадочным и влажным блеском, – это были глаза Хедла. И сейчас они мне словно бы улыбнулись, а губы зашевелились.
– Это ты, Хедл! – вырвалось у меня, я даже перестал раздеваться – руки меня не слушались. И не знаю отчего, то ли из-за печального, какого-то слишком доверчивого взгляда, то ли еще по какой причине, сказать не сумею, на душе у меня вдруг стало пусто – скорее всего причиной тому был конец его истории, придуманный мною, конец, связанный с ножом и Хрватовым. Я только и спросил парня: – Ну как, напахался?
Хедл тяжело повернулся всем телом, точно полевая работа утомила его вконец, а потом я услышал голос медленный и словно переполненный болью, который скорее прошелестел, чем прозвучал:
– Да, напахался… напахался я… Эх, будь оно все проклято!
Несколько ночей мы ни о чем не разговаривали, видно, пахота эта потрясла его душу, но постепенно, неделю или больше спустя, я узнал о том, каково работается на земле крестьянскому парню, если ему доведется попасть в тюрьму.
– Вышел я в поле, кони, плуг – по спине мурашки забегали! Провел борозду, в ноздри ударил дух влажной раскрывшейся земли, свежего навоза – испугался я: вот-вот коленки подогнутся, ноги вдруг стали ватными. Ухватился покрепче за чапыги, будто воду из них выжать хочу, – и понесло меня по ниве, к повороту, а ладони влажные, нету в руках силы, словно после болезни встал. Так и заковырял я по первой, второй, третьей борозде, немного передохнул на повороте, а потом глянул в поле – уходит оно в бескрай в обе стороны, нет ему ни конца ни предела – и подумал: «Если бы дома у нас такие просторы были, да не затевали б там эту волынку с задругами!» И тут вдруг неведомо откуда появилась у меня сила, сама собой пришла, и счастье переполнило душу – снова я в поле, с плугом и лошадьми, и пашу. Поставил я лемех, приналег и пошел. «Ну, разлюбезные!» Одна за другой ложились борозды, всем своим телом чувствовал я, как лемех режет мягкий чернозем, слышал, как трется и скрипит металл на песчаных проплешинах. Отличная земля! Эх, если б поднять ее и перенести в наши родные края, накрыть ею холмы в Гомиле – наши или Топлековы нивы, где почва всегда была или слишком сухой, или слишком сырой, по склонам лежат камни, а за речушкой и вовсе расплылось сплошное болото, где с приходом весны начиналось черт те что. Сколько сил хватит вози навоз на такую почву – все равно мало, и никогда у нас не рождалось столько хлеба, чтобы в нем не ощущалась нужда. Однако, я чувствовал, не променяю я наши поля на эти просторы! Нет, не по мне эта равнина, и сердце мое сжималось от боли, когда я смотрел на эти поля. Ни конца ни края – черная пахота и зеленые луга! Мы изнемогали, мы мучились на наших кручах и склонах, а тут борозды ложились одна к одной и ты шел свободно, точно на прогулке…
– Хорошо идем, – сказал мне мой погонщик, – а я уж было подумал… н-но, милые!
Погонщику стоило б следить, куда он ведет лошадей, однако они сами шли ровно и разумно – совсем иное дело, не то что наши коровы или Топлечкины бычки. Корова никогда не понимала, куда и как ей ступить, пока не оказывалась вовсе без сил – точь-в-точь молодая, которая и повернуться-то не умеет, а глядь уж кучу детей народила! А бычки жались друг к другу, словно хотели переложить на соседа часть своей ноши или вытолкнуть его из ярма; здесь же кони шли как по нитке – если их не путал бестолковый погонщик!
Вот так и пахали мы землю, борозда за бороздой, и плуг крошил податливую почву, а где-то рядом и вокруг нас занималось утро, начинался день…
…когда на очередном повороте налетели мы на подснежники. Я поднял лемех, быстро, как только мог, и отвернул его в сторону, чтоб не растоптать их – эти цветы. Их было много, привольно раскинулись на траве, тоненькие и светлые, точно в это самое утро они и увидели белый свет. Я посмотрел вокруг – сплошь подснежники…
– О господи, сколько подснежников! – воскликнула Туника и замахнулась на бычков, стараясь удержать их.
И тогда я тоже поднял плуг – не из-за цветов, но для того, чтобы бычки сами, без меня, без моей помощи, вытянули его обратно на поле, – и железная лапа тоски сжала мне сердце, когда я вспомнил, как хотел тогда посмеяться над девочкой и над этими ее никчемушными цветками. До каких же пор она будет оставаться такой глупенькой, такой ребячливой! Да, горько стало на душе при этом воспоминании, ибо всего мне было довольно: утра, которое уже миновало, поля и окружавшей меня ранней весны – все это ждало меня тогда и преследовало, мучило меня, и когда – истинное в том заключалось счастье! – я поднял глаза, то увидел ее взгляд, ее глубокие, как омут, голубые глаза, излучавшие счастье и ожидание, что я как ребенок буду радоваться вместе с ней. Я увидел, как раскрылись руки Туники, в правой она держала кнут, увидел, как ее хрупкая, тоненькая фигурка склонилась над белыми нежными цветочками и она стала их рвать.
– Ну, ну, Туника, – сказал я тогда и прикрикнул на быков.
Теперь нарвет себе букет, точно школьница. Опустив ручку плуга, я выпрямился. Как быстро и незаметно появились эти цветы. Но эту мысль тут же вытеснила другая: а вообще, обратил бы я внимание на эти цветы, если б рядом со мной не было милой Туники? Я растоптал бы их и смял быками, упряжкой и даже не оглянулся б на них, кольнуло в сердце. Ведь для меня все цветы в мире навсегда отцвели! Жаль мне стало девочку, а отчего – не сумею сказать, сердце сжалось в груди, словно изнемогая от счастья, когда я увидел, как она собирает цветы. Проглядел я это счастье, да, навсегда проглядел. Усилием воли я сумел удержать что-то, обжигающее, наплывавшее мне на глаза туманной влажной пеленой, обшлагом рукава провел по глазам и окликнул девочку:
– Эге, Туника, ну-ка подгони, подгони! Все поле еще у нас впереди.
– Ой, – воскликнула она, поднимаясь с колен, – как их тут много! Целая поляна, целое поле…
Я что-то проворчал в ответ и, взявшись за чапыги, посмотрел на бычков и затем на поле – сколько нам еще предстояло поднять. Я заметил, что Туника оглядела себя, посмотрела на свою грудь, которой почти не было приметно под всеми ее толстыми одежками, и я словно увидел ее груди, которые возле черешен коснулись тогда меня, почти лишив рассудка – о господи, каким младенцем я был! – а какие могучие груди, теперь они еще больше набрякли и налились, были у Зефы! Туника поднесла букетик к груди, повозилась-повозилась и каким-то образом его прикрепила. Я смотрел в поле и ждал. Ей легко, думалось мне, никаких-то у нее забот – не мучат ее ни земля, ни будущий ребенок. Где те времена, когда я был таким же счастливым? Всего несколько лет назад я с мальчишками и девчонками собирал цветы по склонам и на полянах и радовался, подобно Тунике, этим первым цветам и весенним травам! Так далеки теперь были от меня те годы, те весны, подснежники и ландыши, далеки и мимолетны, как летучие воспоминания о невозвратимых временах, оставивших по себе слабую память – память, которой я почему-то стыдился.
Туника подхлестнула бычков, и вновь поле раскрывало свое чрево под плугом, а у меня в голове все пошло кувырком: и это утро, которое было во мне, и то время, когда мы выходили из дома в поля и Зефа оставила нас перед хлевом, вся в хлопотах, с выпученными глазами, точно чем-то напуганная, и моя первая пахота с отцом на наших полях…
Зефа то и дело выбегала из кухни и заглядывала в хлев, ее живот уже бросался в глаза, теперь она его вообще не скрывала; она страдала оттого, что не может с нами отправиться в поле. Я грузил на телегу все, что мы брали с собой. Туника выпускала из хлева и поила скотину, и я украдкой наблюдал за Туникой – девочка не обращала внимания на мать, а та все стояла перед хлевом и заметно волновалась – казалось, весь смысл жизни для нее заключался в том, что происходило сейчас перед хлевом! Туника ни разу не посмотрела в сторону матери. Она озиралась по двору, а если что и говорила – это звучало задиристо и вызывающе, она ведь вообще мало говорила, вот и теперь бросала слово-другое, да и то лишь о делах.
– Вы слышите? Телок отсосал!
– Да, да, – кивала Топлечка, но я был тем единственным человеком, к которому она обращалась.
– Поглубже бери… и поуже кромки оставлять надо… В овраге вода собирается… О господи, почему я с вами не могу пойти!
Не знаю, что на меня тогда более подействовало: ее ли приговоры – я с трудом их всегда выносил – или ее живот, который рос будто на глазах. Мне полегчало, когда мы с Туникой наконец собрались, и я подстегнул бычков. Теперь я не видел ее рядом с собой, не нужно было ворчать ей что-то в ответ, не зная, как к ней обращаться. Называть на «ты» я не смел перед дочерью, на «вы» – было совестно из-за самой Топлечки. Того страха и почтения, с каким я прежде относился к старшим, к женщинам, давно не было и в помине.
Мы прокладывали борозды одну за другой, Туника вела бычков. Я был самый несчастный человек – несчастный и злой – на Зефу. У меня отнялся язык, когда она впервые сообщила мне о будущем ребенке. Несколько дней я не знал, что мне делать: я бродил по двору как лунатик и смотрел только в одну сторону, туда, где находился мой родной дом, я был в глубоком отчаянии и на богоявление, впервые показавшись на людях, мертвецки напился. Я даже разнюнился перед корчмаркой. И ничего хуже этого невозможно было придумать. И мне стало невыносимо стыдно, когда я протрезвился. Тогда я решил начистоту поговорить с Зефой. Пусть делает как хочет, но ребенка от меня у нее не будет! Я вбил себе это в голову и однажды в полночь – Туника ушла спать – прямо спросил у Зефы.
– Кто-нибудь об этом уже знает?
Было темно, я не мог видеть ее лица, но почувствовал очень хорошо, как у нее в душе закипело, и она резко ответила:
– Ну и что? Не знают, так будет знать…
У меня перехватило горло, я молчал, и заговорила она:
– От людей не скроешь. – И добавила: – Дорогой Южек!
Только что не засмеялась! Будто все это было ей нипочем.
Я упорно молчал, она тоже ничего больше не сказала. Тогда я решил действовать иначе.
– А ты обязательно должна рожать его?
– Ты думаешь, мне от ребенка надо избавиться? – В голосе было удивление, и, чуточку помедлив, она сказала, как будто ей поп в исповедальне внушил: – О господи, да ведь это грех…
Возможно, это грех. Только как могла она рассуждать о грехе? Именно она! Однако я ничего не мог сделать, разве только возненавидеть ее – так оно и случилось. Я отодвинулся от нее и молча, не проронив ни слова, взбешенный и донельзя жалкий, ушел к себе. В ту ночь она ко мне не приходила, не было ее и в следующую, точно понимала, что теперь я сам стану бегать за ней – так и получилось, хотя… хотя неприязнь к ней и злоба в моей душе с тех пор не угасали. Стояла зима, дел по дому почти не было, ни о чем ином мне думать не оставалось, кроме как о женщине, а единственной для меня в доме женщиной была Зефа. Руками и ногами удерживала она меня, и не было у меня совсем никакой мочи вырваться. Я шагал по полям за плугом, но не мог избавиться от этого ощущения, как не мог избавиться от чувства злобы. Я шагал за плугом, борозды одна за другой уходили вдаль, земля обнажала свое нутро, а внизу, в той стороне, где был город, все сильнее загоралось утро, затем встало солнце, а у меня на душе лежала глыба – нет, никогда не повториться тем дням, когда я заметил Тунику с этими ее подснежниками. Мне казалось, тоска грызет меня только из-за Туники и из-за подснежников у нее на груди – эх, с каждой проложенной бороздой мне становилось тяжелее и тяжелее, с каждой бороздой возвращались воспоминания, точно лемех выворачивал их на поверхность. Всплывало в памяти все, чему никогда нет возврата, все долгие часы, проведенные мною на пашнях, все поля, на которых мы пахали с покойным отцом и где я бегал взапуски с братом и сестрами. Всплывало в памяти все, чему никогда нет возврата, но из-за чего в то утро мне становилось все тяжелее и тяжелее. Приходили воспоминания о первых детских ужасах, которые кошмарами преследовали меня во сне все школьные годы и теперь вот на этой пашне снова стали преследовать и мучить меня…
Это случилось в ту пору, когда на меня впервые надели штанишки. Я упал в борозде и вдруг увидел быков. Они приближались ко мне по пашне, медленно, точно им некуда было спешить – приближались неотвратимо. Я старался выбраться, выползти из борозды, но земля подо мной, под моими пальцами на руках и ногах уползала, осыпалась, и я никак не мог подняться. Быки подходили все ближе. Я с невыразимым ужасом смотрел на увеличивавшиеся черные морды, подступавшие ко мне медленно, уверенно и безжалостно, наверху у них торчали рога, словно накрепко ввинченные в черную плоть. Передние ноги их казались мне жерновами, копыта с силой дробили землю. А я никак не мог выбраться. Я хотел крикнуть, раскрыл рот, но голоса не было, не было больше сил в теле, в ногах, в горле. Повернувшись, на четвереньках я пытался уползти по борозде. Напрасно, и это у меня не получилось, мне не было спасения от быков. Я уже слышал, как поскрипывало ярмо, как все громче и громче сопели животные, как их копыта попирали землю, и вот силы совсем покинули меня, я опрокинулся на спину и только неотрывно смотрел в надвигающийся ужас – в голые и влажные морды, с которых брызгала на меня холодная слюна. И слюне этой не было конца. И вдруг быки встали, а может, еще что-то произошло – больше я ничего не помнил.
Вспоминаю другую пахоту: опять быки, старшая сестра Лизика и подснежники. Я набрал их ворох на склоне, там где быки поворачивали, и ждал пахаря. Я показал ему свой букет и что-то крикнул. А Лизика, пунцовая и растрепанная, хлестнув меня взглядом, ударила по рукам и оттолкнула. Я завыл, мои цветы разлетелись, и, помню, сквозь слезы я видел, как быки вытягивали шеи, стараясь достать их и подхватить языком. Не знаю, по какой причине Лизика ударила меня, не помню, ощутил ли я тогда боль или нет, вспоминаю лишь, что я ужасно обиделся и долго дулся на сестру, а спустя несколько лет мне самому выпало гнать быков – мы уже ходили в школу, но из-за этого пришлось пропустить занятия. Мало того, что труд был такой тяжкий, мука для мальчишки, потому-то я никогда не соглашался быть пастухом – я не желал вообще гонять коров или быков, чтобы потом в школе не стоять на коленях. Палил зной, огнем жгло покрытые ссадинами ноги. Изнемогая, тащился я по неровной почве, по острой стерне. Горело все мое тело, горела вся моя жизнь, полуденная пыль и рассветная роса одинаково обжигали кожу. Жгло глаза, злые слезы сами собой скатывались по щекам, обжигая их. И в довершение ко всему, что бы ни случилось, виновником оказывался я – погонщик! Я был виноват, если плуг выскакивал из борозды, если выносило на поворотах, если приходилось поворачивать посередине, – за все расплачивался «проклятый сопляк!», «проклятый Южек!», «проклятое семя!». «Куда ты полез? Как ты ведешь? Ты что, смеешься надо мной?» Сперва отец проклинал быков, а к полудню, когда животные уже еле держались на ногах и двигались как тени, опираясь друг на друга, и когда погонщику уже не было дела до того, который из них вытолкнул другого из борозды, – вся ярость отца обрушивалась на погонщика. Брань висела в воздухе, в меня летели комья земли, не было конца понуканиям и ругани. «А ради чего мне приходится мучиться на этом свете? Только ради того, чтобы другие потом все сожрали. Проклятые налоги, проклятая Югославия и те, кто ее придумал! Ну, цоб-цобе! Слушай, Южек, если правый еще раз выйдет из борозды, только один разочек, тебе его больше водить не придется». Отец сгибался над плугом и начинал новую борозду, отчаянно бранясь: «Пропади все пропадом! Только было выкормил бычков и фрукты в тот год отлично уродились – душа радовалась. Пришли итальянцы – скотина исчезла, пришли мадьяры – исчезли фрукты, и, чем спелее они были, тем больше их требовали! Расплачивались они золотом и гульденами. Приходилось попотеть, чтоб крону заработать. А теперь вот землю начнем продавать, надо налоги выплатить, а сами голышом ходить станем… Цоб-цобе, Серый! Эй, ты, если не подстегнешь вон того, рядом – не видишь, отстает? – то я тебя подстегну или на тебя самого ярмо надену! Ты глянь на него, глянь! Проклятье, опять из борозды вышел!» Я толкал быка, упираясь всем телом в его горячую тушу, толкал его на место, однако ничего не помогало, животные не слушались меня, плуг на склоне выскакивал из борозды, к тому же бык наступил мне на ногу. Я оглянулся на отца и кинулся прочь. Бычки вскачь помчались от разъяренного пахаря – и это меня спасло. Отцу самому пришлось догонять их и ловить. Он вернул их лаской, а добравшись до места, схватился за кнут и поставил быков обратно в борозду. Я потихоньку, чтоб отец не услышал, всхлипывал, сжимая кулаки. И когда вновь, собравшись с духом, подошел к животным, ручкой кнута отколотил одного из них. И опять я гнал быков, и опять меня обжигало. Я кусал себе губы, пальцы, я проклинал бога – ведь это он меня создал, так нас учили в школе. «Господи проклятый, почему я должен жить на этом свете? Проклятый! Проклятый! Проклятый!..»
Я украдкой пинал быка, шел по острой стерне, спотыкался о комья земли, старался не думать о том, что отец, исходивший бранью за плугом, на самом деле хватит меня палкой по голове, швырнет в борозду и засыплет землей. А земля была такая холодная и так пряно пахла, как раннее беззаботное утро весной или как в тот день, когда мы хоронили отца. Тогда тоже была весна, а ему не нужно было браниться и сердиться из-за земли и детей – мы остались одни с матерью и бабкой и начали пахать без него.
Сейчас я пахал, а в памяти возникли похороны отца, жидкая грязь возле гроба и одетые в черное родственники, женщины с платками в руках, стоявшие в этой грязи. Я пахал и видел Тунику, державшую за узду Серого, она тянула его и что-то бормотала и бурчала. Я пахал, и мне казалось, что я был бы счастлив, окажись я вновь ребенком, босыми потрескавшимися ногами ступающим по земле, я был бы несказанно счастлив, если б стоял тот знойный день, – но теперь стояли другие утра, и все сжимало меня и не позволяло мне радостно ступать по борозде за плугом, точно каменная глыба придавила меня. Топлечка и ее ребенок… Теперь весь свет мог это видеть! Меня мучили мысли о хозяйствах, Топлеков и нашем собственном, теснили мне грудь. Ничего вокруг не оставляло мне ни малейшей надежды. Быки медленно тянули плуг, поскрипывало ярмо, Туника ковыляла в больших для ее ноги башмаках – Топлечки или Ханы, в голове просыпались воспоминания, причем такие, от которых на душе становилось все тяжелее и мучительнее. Совсем недавно мы пахали с покойным Францлом, тогда я был еще школьником и шлепал рядом с быками, как сейчас Туника; совсем недавно я взялся за ручку плуга у Топлеков и Топлечка, подбоченившись, затянула: «О господи, да он уже настоящий пахарь!» – а мне стало неловко, и всего-то я тогда стыдился.
…Было совсем темно, когда Францл потянул меня за ноги. Я встал, взялся за влажные брусья над головой и с трудом открыл веки – должно быть, стояла еще ночь, веки у меня сами собой смыкались, и не было сил их разнять. Быки жадно жевали сено, позвякивая цепями: казалось, все в хлеву поднялось на ноги. Брат – голос его звучал необыкновенно просительно, точно он умолял, – уговаривал меня встать, тихо, как только мог, уговаривал идти пахать на нижние нивы. Мне вовсе этого не хотелось, я хотел спать и даже не слышал, что так распорядилась мать – спозаранку выйти нам в поле. Пусть Францл сам пашет, если ему охота, пусть пашет до утра, пока не встанут мать и сестры. В конце концов брату удалось поднять меня с постели, он пообещал, что даст несколько борозд самому пройти, сошлись мы на целом загоне. Так мы и начали пахать, а на рассвете, когда стало светать, я впервые взялся за ручки плуга. Вначале меня уводило в сторону, но уже третья, четвертая борозда вышли ровными, как и полагалось. Наступило утро, пришла мать, пришли сестры, мать плакала от счастья: мы вдруг стали самыми усердными ребятами во всем соседстве. Мать повсюду хвасталась, а мы еще ревностнее занялись делами по хозяйству, любая работа мне нравилась, и чем тяжелее она была, тем с большей охотой я за нее принимался. Бывало, по воскресеньям или в перерывах между делом, на пахоте или на косовице, мы с Францлом, засучив рукава дрались. Руки у нас были черные от солнца, а мускулы твердые как камень; сестры вопили, мать отворачивалась, не в силах глядеть, как мы лупим друг друга.
– Бычки! Настоящие бычки! – повторяла она. – Неужто не устаете от работы?
А мы поддавали жару – нет, мы не уставали.
Иногда я проверял свои мускулы, ощупывал их или щипал – помню, я проверял их после первой пахоты у Топлеков, когда ночью у меня появилось такое чувство, будто я могу перепахать весь мир. Едва год минул – один год с тех пор, как я начал думать о Топлековине, а когда мы пахали с Туникой, мне уже все было дьявольски безразлично, и пахота и все поля на свете.
Утро наступило, солнце начало припекать, я сбросил пиджак и засучил рукава. Не только Топлековы поля были мне не нужны, ненужным стало все на свете, все меня окружавшее: Туника и ее подснежники вызывали у меня дурное настроение, раздражала меня ее болтовня, ее постоянно вопрошающие глаза, которые она не сводила с меня, точно хотела по выражению лица угадать мои мысли. Я понимал это, а вел себя как деревянная статуя святого перед алтарем. Туника все примечала, все знала, но никогда не произнесла ни слова, она для того и существовала в доме, чтоб каждому услуживать.
…Это произошло вечером, зимой. Мы были в хлеву, Топлечка доила коров, я менял подстилку. Точнее говоря, я возил граблями по полу, стискивая зубы, чтоб не ляпнуть что-нибудь. Топлечка всхлипывала, а струйки молока вонзались в пенящуюся белую жидкость в подойнике, время от времени Топлечка прекращала доить и всхлипывать и рукавом вытирала глаза. Не помню уж теперь, из-за чего все вышло, было это день спустя после Нового года, когда всем вокруг стало известно, что творится у Топлеков. Может быть, она ревела потому, что мне нужно возвращаться домой, – а она боялась, что я уйду. Я знал, она хотела, чтоб Марица вышла замуж и привела мужа к нам в хозяйство – однако я-то не мог это так запросто проглотить. Я упрямо стоял на своем, когда она пыталась выяснить мои планы и расспрашивала о положении дома.
– Но Южек, отчего не позволить Марице выйти замуж?
Она спрашивала меня с таким невинным видом, будто до пяти сосчитать не умела, а на самом-то деле куда как хорошо знала, что ей нужно. Где-то в глубине души я поставил крест на нашем хозяйстве, но ни за какие деньги никому на свете не признался б в этом, я молчал на сей раз уже из упрямства и только постукивал по перегородке, отделявшей быков от коров. Я боялся будущего и понимал, что наше хозяйство от меня уплывет, а как помочь себе, не знал. Зефа принялась всхлипывать еще громче, что-то даже крикнула, вроде: «Южек, жуткий ты!» Мне все чаще и чаще доводилось от нее такое слышать.
И вот, когда она это крикнула, назвав меня «Южеком», я заметил, как открылась входная дверь. Вздрогнув, я замер, а потом кинулся к двери. Женщина всхлипывала, что-то кричала, и я не мог сразу отворить дверь. А когда наконец открыл, успел заметить Тунику, которая стремглав убегала в дом.
Вечером, за ужином, да и в последние дни мне было ужасно неловко перед Туникой, а она все покорнее слушалась меня, точно я приходился ей отцом или она вовсе не смела словечко молвить в доме.
Я наблюдал за ней во время пахоты, вспоминал о черешнях, о твердых персиках, которые столь сладостно коснулись моей груди и которых больше мне уже не довелось видеть, они навсегда исчезли для меня под туго затянутым крест-накрест платком. Эти воспоминания казались мне прекрасным, орошенным росой весенним цветком, который чуть припалил мороз, – потом все пошло вперекос, а мои помыслы были связаны с этими канувшими в прошлое минутами. Хотя эти воспоминания портили мне настроение. Случалось, мы с Туникой проходили целые загоны, и я ни разу не поворачивал голову в сторону Топлековины. Я боялся увидеть Топлечку, ее раздавшееся тело, услышать ее голос, встретить ее тревожный взгляд.
– Южек! Туника! – окликала она нас, а мне казалось, будто ее слышит вся окрестность, понимая, отчего она так спешит.
– Южек! Туника! Кончать не собираетесь? Обед вам принести?
Я все слышал, но делал вид, будто ничего не слышу.
– Мать зовет! – говорила мне Туника, не зная, надо ли останавливать упряжку.
– Пусть зовет! – бурчал я, продолжая идти за плугом, и мне вовсе не было дела ни до дома, ни до Топлечки с ее заботами.
Туника, глядя на меня, ждала, как я поступлю, потом крикнула матери:
– Ну приносите!
Мы прошли еще несколько борозд, когда я заметил спешившую по пашне Топлечку – я не особенно смотрел по сторонам, однако знал, что она спешит, больно суетливой она стала. Я не взглянул на нее даже, когда мы с Туникой остановились, и повернул быков в поле, на дерн, чтоб они не ушли по пашне. Туника присела к бороне, опершись подбородком на обе руки и кнут. Топлечка расставляла посуду на телеге. Нет, не хотел и не мог я на нее смотреть. Вино она держала в руках, обед – хлеб с мясом, жестким, точно только что из погреба, – прямо в переднике. Не мог я видеть этот ее передник, а она словно дразнила меня. Конечно, еду-то она несла в нижнем чистом переднике, но мне чудилось, будто она намеренно тащит ее на своем брюхе, чтобы лишний раз напомнить мне о нем.
Она налила нам вина, сперва мне, потом Тунике, потом присела – застонала, опускаясь на борону рядом с Туникой – и себе тоже налила в стакан. Она пила, угощала нас и причитала о том, каково-то будет в нынешнем году с мясом.
– О господи, всего-то нас лишат! Господи милосердный!
Мы с Туникой не очень отвечали. Были это знакомые причитания, потому как ничего нового у нас на деревне не было, и отвечать на них можно было разве что или руганью, или утешениями – дескать, как-нибудь образуется. Что всем нам конец придет – мне и в голову не приходило.
И вот эта самая мудрость – как-нибудь образуется – теперь гвоздем засела у меня в голове и утверждалась тем крепче, чем больше я пил. Я отдохнул, выпил, а выпив, принялся качаться на дышле. Телега равномерно поскрипывала под тяжестью моего тела, я просто физически чувствовал, как вместе со зноем наполняет меня леность, расползаясь по всему телу и застревая в голове. Зефа сетовала, а я уже не видел и не слышал ее, хотя она сидела прямо передо мной, в каких-нибудь двух шагах. Я сел к ним спиной и устремил взгляд на овраг, на родной дом по ту его сторону и на большую дорогу. Стояла ранняя весна, деревья еще были голыми, дома до самой корчмы тоже казались голыми. В иное время, не выпей я столько и не будь я так измучен душою, я бы, конечно, не стал смотреть по сторонам, и особенно на свой дом, в присутствии обеих Топлечек. Только я уж рассказывал, что мне все стало безразлично – как-нибудь образуется! Я смотрел на кизиловое дерево в глубине поля, на лужи и рощу за речкой, на сережки на вербах, а чувствовал только одно: если я когда-либо радовался первым цветам и проснувшимся почкам, то теперь, после вина, все словно окутал туман и нет больше во мне никакой радости, как прежде, когда я был мальчишкой, школьником. Через неделю деревья оденутся цветами, потом лепестки опадут, и Топлечка родит ребенка. Эх, черт возьми, тогда я женюсь на ней. И я стал пить и пил, нагибая все круче кувшин, – ибо, в конце концов, что мне до людей! И мать мне вон говорила: «Держись земли!»








