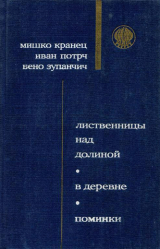
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Эх, что там! – забывшись, воскликнул я вдруг и поспешил добавить: – Пошли, вон ту полоску еще надо поднять!
Я с грохотом соскочил с дышла, поднялась и Туника.
– Верно, о господи! – согласилась Топлечка, тоже собираясь вставать. По голосу, по спокойно сложенным на животе рукам, по всему виду ее заметно было, что она довольна: да, добилась своего, уволокла парня в постель! И вдруг мы все разом, и Туника тоже, посмотрели на дорогу. Думается мне, однако, теперь, что первой, поднимаясь на ноги, глянула туда Топлечка.
По дороге, держа на голове корзинку, к нам подходила Хана. Ее мы и увидели.
Туника замахнулась кнутом, но не опустила его, я поставил плуг, не выпуская из рук чапыги, и видел: Топлечка смотрит на дорогу, по которой приближается беглянка, словно зачарованная, не имея сил отвести взор и не веря своим глазам; рукой она ухватилась за борт телеги. А Хана подходила ближе и ближе, оглядывая то нас, то поле, вновь переводя взгляд на нас троих, на свою мать, на Тунику, на меня, задерживая его на матери и на ее животе. Она вспотела, видно, ее утомил подъем в гору к полю, а может, тряпки, видневшиеся из корзины, были тяжелы. Она остановилась перед телегой, еще раз по очереди обвела нас взглядом, и я услышал ее голос:
– Так, значит, пашете?
Точно ничего не произошло и все оставалось буднично и привычно! Точно она поутру ушла в город, а теперь возвращается мимо поля!
Поначалу ей никто ничего не ответил, потом Топлечка сказала:
– Да, пашем!
Сказала и вздохнула. Мы с Туникой молчали. Молчание затянулось, и мы чувствовали себя как на раскаленных угольях. Так мы и стояли, а Хана стала снимать с головы корзину. Я заметил, как напряглись у нее груди под белой блузкой – она была нарядно одета, – и опустил взгляд в землю, к бороне, что лежала у ее ног; девушка поставила корзину на телегу и опять нарушила молчание.
– Ну вот, я и пришла, – сообщила она, обернулась к матери: – Вам это не по душе? – а затем в мою сторону: – А ты как? Жениться не думаешь? Говорят, Плои ждут не дождутся…
Она взглянула на меня исподлобья, и тут выдержка ей изменила. Она рывком подняла свою корзину и выпалила:
– Не бойтесь, не проглочу я вашего хозяйства!
Повернулась и пошла по склону в сторону дома.
IX
В ту ночь Хедл долго не мог уснуть. Ворочался, крутился, а следующей ночью сам начал, точно ему не терпелось эту историю с Ханой рассказать мне до конца. Однако одно обстоятельство я должен отметить: не было у него на языке теперь ругательств и брани в адрес «проклятых баб». Жизнь держала его руками и ногами, как он сам выразился, и слова заливали его, как вешние воды заливают кротовые норы.
– Хана вернулась, – начал он, – вернулась, чтобы нас допекать, в этом я скоро убедился. Она цеплялась к матери из-за того, что теперь всему свету было очевидно, из-за Топлечкиного все более и более увеличивавшегося живота. Задевала она и меня; несколько дней я проглатывал ее язвительные замечания, проглатывал и молчал. Я стискивал зубы, потому что мне казалось недостойным спорить с женщинами, но должен сказать, после Ханиных шпилек мне с трудом удавалось совладать с собой. Однако в тот день, когда Хана столь неожиданно вернулась с корзиной на голове, я не знал и не мог знать, куда приведут нас эти ее колкости, – слишком одолевали меня собственные заботы, мою голову заполняли раздумья о земле, о Топлековине, и опасался я, не держала ли эта шалопутка камня за пазухой: она была старшей и имела право на землю – во всяком случае, таков был обычай.
Началось в тот же вечер. Топлечки не было в горнице, она хлопотала в кухне. Я пришел к ужину и застал Тунику, которая устраивалась за столом, я провозился в горнице, и тут вошла Хана. Не видя, вовсе не замечая меня, она прошла мимо и уселась на то место, где со времени болезни Топлека и после его смерти сидела Зефа. Я заметил, как Туника посмотрела на нее и, отложив ложку, которую вытирала, негромко, но строго сказала сестре:
– Там мать сидит.
– Что? – откликнулась Хана, невинным взором посмотрела на сестру и громко спросила: – А разве не он сидит во главе стола?
Она так и сказала «он», а он стоял у нее за спиной, посреди комнаты, и это был я. Помнится, я шагнул к столу, чтобы сесть, но ноги у меня приросли к месту.
– Ох, – вздохнула Туника и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Видимо, ей это не понравилось.
Хана засмеялась и пересела как ни в чем не бывало на другое место – вернее, подвинулась на ту скамью, где сидел я с самого начала, как появился у Топлеков. Туника оглянулась, стегнула сестру недобрым взглядом и опять перевела глаза в окно – и это ей явно было не по душе.
Тут вошла Топлечка и села на свое место. Она ни о чем не имела понятия и ни о чем не догадывалась. Но, складывая руки к молитве, заметила, что я еще стою, и увидела Хану, сидящую на моем месте.
– В чем дело? – спросила она, обращаясь ко всем: – Как это вы расселись?
А Хана и ухом не повела. Перекрестилась и начала молиться. Таким образом, пока она молилась, я стоял. Топлечка оглянулась, ища меня взглядом, Туника не выдержала:
– Ты что, Хана, позабыла, где твое место? – и, поскольку та не ответила, добавила: – Это его место.
И тут Хана показала себя.
– А-а, это место нашего батрака, – проникновенно сказала она, – в самом деле, из головы вон.
И, встав, перешла на другую сторону стола, где сидела обычно. И принялась хлебать яичный суп, будто ничего не произошло.
В груди у меня кипело. Стиснув зубы, я сел за стол, и это было самое правильное, что я мог сделать. Туника, а затем и Зефа взялись за ложки и приступили к еде.
Я сидел напротив Ханы, но ни разу не посмотрел на нее, да и на Топлечку с Туникой я тоже не глядел. Нам троим еда не шла в горло, только Хана как ни в чем не бывало оживленно и непрерывно расспрашивала – все-то ей хотелось знать, – словно не замечала тревожной обстановки за трапезой; ей это как будто нравилось, и она всласть расспрашивала и язвила. Господи милосердный, чего только не желала она выяснить у проглотивших язык молчальников, сидевших за столом, – все до малейших пустяков, точно и не убегала она из дому и не мы ее должны были расспрашивать.
Чего она только не выкидывала!
А мы молчали, и стояла такая тишина, что можно было слушать звуки ночи, окружавшей дом.
– А что, вас здесь еще не загоняют? – вдруг спросила Хана.
Сперва ее никто не услышал, однако потом все посмотрели на нее – сперва Зефа, потом я и Туника.
– Ну да, в задруги, я хотела сказать.
Это была правда – то, о чем она сказала: кругом об этом чего только ни говорили! – но мы не знали, по какой причине Хана затеяла этот разговор. Поэтому мы молчали, а она осматривала нас каждого по очереди и делала вид, будто ждет ответа. Мы с Туникой повернули головы к Зефе, и той ничего не оставалось, как ответить.
– Загоняют? – переспросила она и сама себе ответила: – Да, загоняют.
Однако Хана этим не удовлетворилась, она не сводила с матери глаз, и та вынуждена была продолжить:
– А и кому охота по своей воле идти в задругу? Я и не подумаю, да!
Таким образом, Топлечка намеревалась закончить разговор и у себя в доме положить конец всякой болтовне о задругах. Хотя то, чем полнились умы, сейчас можно было ухватить руками. Неужто Хана вернулась в родной дом потому, что кто-то убедил ее вступить в задругу? Она была достаточно упряма, дьявольски упряма, и на все способна. Поэтому меня обрадовала твердая решимость Топлечки возражать ей, если та упрется и станет уговаривать. Хана и в самом деле начала именно так.
– Дядя говорит, что он вступит. – Она гнула свое, а мы молча жевали и переглядывались между собой. – В задругу – – Хана пояснила, будто мы не знали, о чем она стрекочет.
Теперь уж Топлечке приходилось отвечать, и она ответила:
– Пусть твой дядя хоть на голову встанет, мне что за дело. – И, проглотив кусок, отрубила: – Мы здесь живем, как знаем и умеем, а они там, как знают и умеют. У меня нужды нет в подсказках Рудла, да и сестры тоже.
Это означало, что Хане со своим дядей надо прикусить язычок. Однако та молчать не пожелала и, засмеявшись, сообщила, что именно думает дядя:
– Ну да, дядя говорит, что вступит только ради того, чтоб избавиться от забот по хозяйству. Почему другим их на себя не принять? Разве не так?
И она засмеялась громко и весело, хотела, чтобы вся эта затея с задругами нам тоже показалась забавной. Однако ее слова, ее смех не вызвали отклика ни у кого из сидевших за столом.
– А тетенька говорит, – опять начала Хана, – будто на Топлековине все созрело для задруги. Так-то.
Зефа не отвечала, мы знали, что созревает на Топлековине.
Мы кончали с первым блюдом – Топлечка встала и вышла в кухню. Вернулась она с сушеными фруктами, и горшок с ними держала перед животом, как бы его прикрывая. До сих пор она так не делала. «Созревает, созревает…» – стучало у меня в мозгу, когда взгляд попадал на живот Топлечки. И я осознавал, что с радостью бы утопил Хану в ложке воды – так она стала мне ненавистна; завела она этот разговор за столом, и теперь фрукты мы жевали, точно стружки. А Хана разошлась пуще, ей хотелось высказать все, что вертелось на кончике языка.
– А знаете, – не снижая голоса, заверещала она, – у Веловлешковой Древенщицы тоже ребенок родился. Господи, подумать только, такая баба старая! Чего ж она раньше-то не спохватилась.
Древенщицу мы знали – знали, как знал и весь приход, сколько она с мужем обегала докторов. В конце концов женщину отправили на какой-то курорт, а теперь весь приход скалил зубы: дескать, по новым временам и курорт помогает там, где от мужа толку нету. Люди всячески потешались – но у нас этой темы не касались, и Хане бы не следовало. Но она-то знала, что она мелет. И когда опять завела: «А Древенщица…» – Зефа встала и, опустив платок на глаза, точно пряча лицо, оттолкнула стул и вышла из горницы.
– Господи, Хана, ну что ты за человек? – вмешалась Туника.
– А что такое? Что я сказала такого? В чем дело? И что вы за люди?
И, вздохнув с притворным сочувствием, оглянулась на хлопнувшую дверь, потом посмотрела на нас, я не поднимал на нее глаза.
– Хватит! – ответила Туника и, опять стегнув ее взглядом, принялась за еду.
Мне хотелось выйти из-за стола, я предчувствовал, что наступит и мой черед, однако не мог двинуться с места, не находилось во мне сил видеть Топлечку, которая уже вышла из дому. Но прежде чем я успел до конца все обдумать, Хана заговорила на сей раз о нашем, Хедловом хозяйстве, о земле – она принималась за меня.
Разыскав в горшке грушу с черенком, она аккуратно объела ее, откинулась на спинку стула и принялась раскачиваться на задних ножках, вращая черенок груши между пальцами и глядя через стол – как раз на меня.
– А ваши, Южек, – она говорила покачиваясь, говорила спокойно, точно ровным счетом ничего не произошло, – а ваши, Южек, – (Опять этот Южек, никогда до сих пор она так часто не называла меня по имени!), – наверное, будут первыми там, – (это означало в задруге), – вас заставлять не придется!
Я мельком глянул на нее и коротко ответил:
– Конечно!
– Разве не Штрафела обещал, что вы будете там первыми?
Тут я не мог удержаться.
– Ясное дело, Штрафела!
– Вовсе не ясное. Он еще председателем будет. Сам увидишь, миленький мой Южек!
Кровь хлынула мне в голову, я вспыхнул и из-за этих ее басен и из-за «миленького Южека». Туника, я успел заметить краем глаза, исподлобья смотрела на сестру, но ей и дела до этого было мало, а я на сей раз ничего не ответил.
Хана продолжала покачиваться на стуле.
– Ей-богу, мне говорили, будто председателем поставят Штрафелу. А разве у вас ничего об этом не слыхать?
Мы ничего такого не слышали, но, даже если б и слышали, отвечать на эту чушь я не собирался. Однако у Ханы было что-то на уме.
– Тебе ведь, Южек, так ли эдак ли – все одно в отношении землицы-то?
Тут я невольно посмотрел на нее, словно пытаясь прочитать ее мысли, но она и сама ими поделилась.
– У вас ведь все Марица возьмет, а ты и без того уже сам себе голова.
Я опять посмотрел на нее, да и Туника кинула взгляд.
– Голова, миленький Южек, голова! Говорят – неужто правда? – будто ты Плоевых обхаживаешь. Да, Южек, все всем про всех известно в нашем приходе. Что ты на меня смотришь?
Я только рот разинул, как это у нее все гладко выходит, так бы пронзил ее взглядом насквозь, если б мог.
– Хана! Да ты что? – удивился я.
– А что, разве не хороши? Плоевки-то? Такие шикарные девочки…
Меня так и подбросило. Мы не сводили взгляда друг с друга. И тут она улыбнулась.
– А ты бы спутался, если б у тебя не запуталось?
Она захохотала и опять стала раскачиваться. Я пожелал про себя ей перевернуться со стула, но она была ловкая. И все смеялась.
Я озирался по сторонам, ища шляпу, и как назло нигде ее не находил: так я и выскочил из горницы с непокрытой головой, как только сестры заспорили между собой.
– Хана! Господи, что ты творишь! – воскликнула Туника. Она встала, собираясь выйти из-за стола.
– Брось ты этого своего господа! Как будто он виноват в том, что нас благодать осенила.
Хана явно стремилась к ссоре.
– Какая благодать? Ханика?
– Какая? – Она словно изумилась: – Наверное, вы не станете мне говорить, будто то, что случилось с матерью, произошло по воле господа!
– Ханика! – донесся до меня крик Туники и ее слова, прерываемые рыданиями: – Такой мир был в доме, пока тебя не было. Если тебе дома не нравится, оставалась бы там, где жила.
– А вам бы этого хотелось, да? – спросила сквозь смех Хана и добавила: – Или он тебя тоже сбил с толку?
Плюнув на свою шляпу, я выскочил из дому. А вслед мне несся приглушенный смех, будто кто-то смеялся в передник. Я шел сперва вдоль забора, потом перебрался через овраг и оказался у леса, и только тогда в ушах у меня перестал звучать ее смех. Вечер был холодный, мглистый, насыщенный влагой, и меня всего трясло; однако больше, чем от холода, дрожал я от злобы: я ругался, чертыхался и сыпал проклятиями, а что делать – не знал. В одном я был твердо уверен – у Топлеков для меня теперь начнется ад. И еще одно обстоятельство смущало меня, тогда я еще этого не осознавал: мне было жалко Тунику. Почему Хана и в нее вцепилась, почему она ее обижает? Я был уверен, что она понимает, какую наносит сестре обиду, но ничего не мог сделать ни для Топлечки, ни для Туники; да и домой, к Хедлам, вот так, с бухты-барахты я не мог явиться. Я уселся на поваленных деревьях и начал обдирать с них кору. И занимался этим до тех пор, пока чуть успокоился и пока не увидел, что наверху в доме погас свет, – теперь мне можно было идти обратно.
Едва я вошел в сени, как распахнулась дверь в кухню и в ней встала Хана в ночной рубашке с высоко поднятой лампой в руке.
– Кто тут?
Стиснув зубы, я затворил за собой дверь и стремительно повернул в свою каморку. Но Хана оказалась проворнее меня.
– Ты там спишь? В каморке?
У меня сами собой остановились ноги, я пробурчал:
– Там… – не знаю почему, вопреки своему разуму, я невольно посмотрел на нее. Я был зол на нее, но, увидев ее сейчас, мгновенно обо всем позабыл. Хана держала лампу, далеко выставив ее вперед. Я хорошо видел ее открытый рот, белые, как кипень, зубы, голую шею и совсем, до юбки распахнутую рубашку. Тела ее я не видел, но под белой расстегнутой рубашкой я почувствовал тяжесть ее грудей.
– А матери уже не страшно?
Засмеявшись, она собрала на груди рубашку, отвернулась и стукнула пяткой в дверь.
Не помню, как я разделся и лег, припоминаю только, что я сразу понял, с какими намерениями выкидывает свои фокусы Хана. Видимо, она знала обо всем, что происходило между мной и Топлечкой, как все началось. И эта ее фраза: «А матери уже не страшно?» – не шла у меня из головы, равно как и эта ее незастегнутая, нарочно не застегнутая рубашка. Топлечка могла нас слышать, но девка никого больше не стеснялась, даже своей родной матери.
Топлечка все слышала и, придя ко мне, села на постель, подавленная и огорченная. Был уже довольно поздний час, но я лежал без сна, не имея сил сомкнуть веки. Зефа осматривала комнатку, несколько раз залезала руками под платок, словно оправляя волосы, и не знала что сказать, только негромко всхлипнула:
– О господи, и что ее принесло?
– А, это ты?
Мне ничего не хотелось, даже шевельнуться, даже подвинуться к стенке, чтоб она могла удобнее сесть; я лежал на спине, заложив руки под голову, и глядел на закопченный потолок.
Прежде, бывало, я дрожал, ожидая ее, и, ведь года не прошло с той поры, а теперь вдруг почувствовал, как она скучна мне, все в ней: ее живот, ее заботы, ее страхи, – все вызывало у меня скуку, и чувство это росло.
– О господи, как ее накачали! Прямо что собака бешеная! А чего ей нужно?
Но в ту ночь, да и дальше, Топлечка и ее напасти меня весьма мало заботили. Слишком тягостно было мне в своей собственной шкуре, и, куда б я ни кидался, сколько ни метался, выхода не было. Случались минуты, когда, казалось, плюнул бы на все и ушел, собрал ночью котомку и сгинул. Но уж больно близко находился родной дом. Думать о бегстве было одно, а совсем иное – глядеть с Топлековины на крышу родного дома между деревьями. Я вспоминал о матери, о Марице – обе они живо вставали у меня перед глазами, – и все проходило. «Как-нибудь обойдется», – утешал я себя, рассуждая наподобие сосунка испугавшегося женщины; мне нравилось, что она теряла разум со мной, теряла понятие, но мне становилось скучно с ней, все в ней было мне скучным. И когда она заговорила о том, что Хану накачали, я представил себе – вот теперь ее родня и родня покойного вместе с Рудлом набросятся на меня; судя по всему, Хану нарочно послали вперед.
– И чего ей только нужно? Чего ей нужно?
Она задавала вопросы, а я отмалчивался.
– Скажи что-нибудь, помоги мне! Именем господа молю тебя, скажи, что делать?
Положив руку мне на ногу, она толкала меня, словно будила.
– Ну что? – недовольно наконец откликнулся я. – Что я могу сделать?
– О господи милосердный, – закатилась она, – что-нибудь-то можешь придумать!
Я отодвинул ногу, на которой лежала ее рука, не думая при этом ничего особенного, просто лишней показалась мне эта ладонь – но она и сама ее убрала. Поправила волосы и вздохнула:
– Ох, знаю я, – голос ее звучал спокойно, – смотрю я за тобой. Не сердись, что разбудила. Не могу я одна разобраться, Южек!
Она назвала меня по имени, а ее рука отыскала мою руку и сжала ее. Она навалилась на меня всей тяжестью своих налитых грудей, еще крепче стиснула мою ладонь и положила ее себе на грудь.
– Растут у меня груди. Чувствуешь, как растут!
Я не знал, что отвечать, как поступить.
Перед глазами у меня встала Хана, ее голая шея.
– О господи, да ты никак озлился на меня? – и стала ластиться. – Ведь ты не уйдешь от нас?
– Почему?
Я долго ждал, пока она ответит.
– Из-за Ханы. – И, подумав, добавила: – О господи, как мне быть теперь без тебя, Южек? Помру! Эта жаба живьем бы меня сожрала!
Я освободил свою руку, пожалуй вопреки своему желанию, вроде бы никакой причины не было; нет, не хотелось мне ее убирать – просто слишком уж много всего свалилось сразу на мою голову. Позже я пожалел об этом слоем поступке, но в тот миг все произошло инстинктивно, и было поздно что-либо исправлять.
– Знаю я, знаю, – пустила она слезу, – не выносишь ты меня больше. Ты такой, как все. Но ведь… ведь сама я виновата!
Она встала, задыхаясь от плача.
– Зефа!
Она обернулась уже от самой двери, и до меня донесся ее свистящий шепот:
– Только вот что тебе скажу – берегись этой собаки бешеной! Обходи ее стороной, если добра хочешь себе и ребенку.
– Зефа!
– А меня ты в покое оставь! Оставь…
Она ушла, не вернулась – и я за ней не пошел, я уснул, чуть мне удалось справиться со своим страхом, а вдруг попадется мне в сенях Хана, Хана с лампой и в расстегнутой рубашке.
Вот что произошло у нас в первый день, в первый же вечер, как Хана вернулась, а все остальное происходило позже, сперва во время сбора листьев, потом при заготовке кормов да на покосе и еще когда Топлечка родила.
У Ханы язычок был дай бог, верно, но уже на следующее утро она впряглась в работу: она боронила на коровах, дробя вывороченные плугом комья, и вскоре не было уже такого дела по дому, куда бы она не вмешалась своим языком и где бы не чувствовались ее руки. Топлечка – а она тяжелела с каждым днем – все больше оставалась дома и приговаривала:
– Хана есть Хана, что поделаешь, пора у нее такая, за двоих все исполняет. А я уж, о господи, ни на что не гожусь!
И в самом деле на нее смотреть было тяжко. Живот уже ничем нельзя было скрыть, а в лице она становилась все более полной и красной, точно раздувало ее. И постоянно у нее в голове была Хана, и постоянно она в чем-то себя утешала.
– Молодая она, да, но вот найдется парень покрепче, скрутит ее! Иного и быть не может! Своей спиной почувствует, своей шкурой заплатит за язычок свой. Жизнь ее укротит.
Она улыбалась мне, когда мы были одни, в каморке ли, в хлеву ли, но улыбка у нее была страшной. Казалось, она все время боялась за дочь и радовалась, что и на нее найдется управа. Боялась ее и то и дело поминала в разговоре, а я слушал себе да помалкивал. И молчание мое очень ей не нравилось.
– Почему ты ей не ответишь? Почему ты ей все спускаешь? – подбивала она меня, но я молчал. И только однажды ответил:
– С бабами я спорить не буду.
Она подумала-подумала и согласилась:
– Да, прав ты! Оставь ее! Оставь ее, словно вовсе и не примечаешь!
Вот так она мне внушала, предостерегала, боялась она за дочь – «оставь ее, словно вовсе и не примечаешь», – но я-то Хану видел, все чаще и чаще попадалась она мне на глаза, хоть я и не любил ее дерзкий язык. Лучше и не говорить о том, как она себя вела. Она старалась любой ценой разозлить меня, вывести из себя. Целый божий день язвила по моему адресу, особенно сладко, если кто из соседей проходил мимо, а то по воскресеньям после мессы. Нет, об этом рассказать невозможно! Одно по сей день и сегодня живет во мне, не позабылось – жуткая ненависть к ней, которая стала тлеть у меня в груди той весной, год назад. Я искал случая ее отдубасить, и по сей день, стоит мне об этом вспомнить, так и чувствую свои пальцы в ее лохматых космах, чувствую прикосновение ладоней к ее щекам, к лицу, которое все время смеялось, щерилось и показывало мне зубы, эти ее проклятые зубы. Лучше б было и сейчас не вспоминать об этом…
Не помню уж, то ли осенью листья поздно осыпались, то ли снег рано выпал, в общем, не успели мы набрать листьев, и к весне нечего нам стало стелить скотине.
– Нету больше листьев, стелить нечего! – коротко сообщил я за ужином.
– О господи, верно! – озабоченно и сокрушенно вздохнула Топлечка.
И до конца ужина никто не раскрыл рта. Поэтому, когда мы встали из-за стола, я, зная, что назавтра никаких дел особых нет, спросил:
– А что, может договоримся сходить в Дрстелиняк? – Дрстелиняк – это была такая местность под Гомилой, ближе к Драве, где у Топлеков был лес. – Собирать-то придется!
– О господи, верно, – опять завздыхала Топлечка и посмотрела на дочерей. – Туника! Хана! Вы слыхали?
– Я и сама знаю, что я только для работы в доме, – отрезала Хана и вышла.
Топлечка заныла, как бы ей самой хотелось пойти в Дрстелиняк и как жаль, что приходится просить об этом детей. Ну и, ясное дело, кончилось все Ханой.
– Ладно, девонька, погоди, все тебе отольется! Я-то тебя хорошо знаю, так просто тебе по жизни не погулять.
Мы с Туникой оставили ее причитать, а на другое утро я с обеими девчонками на телеге отправился в лес.
Хана и Туника расположились на сене, и, забираясь через борт в телегу, Хана не утерпела, чтоб не высказаться:
– Ух, как графини какие поедем!
– Только б, Южек, с вами чего не случилось, – беспокоилась Топлечка, она стояла на пороге и смотрела, как мы усаживались.
– Только, миленький Южек, не переверни нас, – в тон ей ответила Хана, – жалко таких невест!
– О господи, господи! – захныкала Топлечка, а я хлестнул быков.
Больше я не оглядывался – ни на двери дома, где, сложив руки на животе и вытаращив несчастные глаза, стояла Топлечка, ни на телегу, где сидели девушки: Туника, обеими руками обнимавшая корзину с обедом, и Хана, которая все ворочалась в сене и чему-то смеялась. С радостью хлестнул бы я ее кнутом за такое ее отношение к людям, к матери, но, как я уж сказал, я не оглядывался и кнутом ее не стегнул, хотя… хотя это ее «миленький Южек» ужасно меня злило. Злило это меня, и я думал, как это может вот такая девчонка издеваться над матерью и никто ей за это не даст щелчка – точно бога над ней не было. Тем временем мы ехали, я сидел впереди, над колесами, и с трудом удерживался, чтоб не хлестнуть Хану разок-другой, а Хана все болтала и кривлялась. Свой пестрый платок она завязала узлом сзади – она бросала нам вызов! – и голова у нее как бы торчала прямо над животом из бордовой кофты. Туника притулилась рядом, обняв корзину, и изредка улыбалась, но и то как-то кисло, скорей для того, чтоб сестра не устроила представление еще похлеще. Жалко мне было Тунику, сердце сжималось у меня в груди, глядя на нее.
Телегу и быков мы оставили в овражке, у опушки леса, а сами тронулись вверх по склону, где было много листвы, – сестры собирали ее граблями, а я относил. Поначалу пришлось далеко ходить, а они спешили набрать кучу. Нагружали на меня полные корзины, так что я пошатывался под их тяжестью.
– Ну что, парень, аль нет у тебя больше силы? – посмеивалась Хана. – Всю ты ее у матери оставил?
Я уходил с корзинами, склонившись почти до земли, и в душе осыпал Хану отборными проклятиями. Время близилось к полудню, весеннее солнышко пробивалось сквозь ветки деревьев, освещая лес, и особенно овражки, где было еще сыро и пахло гнилью. Я покрылся потом и все острее чувствовал на теле лиственную труху, которая жгла кожу. Когда мы поели – Хана выпила почти полбутылки вина и, не переставая, скалила зубы, – и я понес первые корзины, она незаметно подставила мне грабли, и я во весь рост растянулся со своими корзинами на земле. Встав, я увидел грабли, услышал смех Ханы и сообразил, что она нарочно мне подсунула грабли под ноги, и тут я почувствовал, как все у меня внутри задрожало – позже Туника мне рассказывала, что лицо у меня стало серовато-зеленым, настолько я разъярился.
– Хана! – только и прошипел я.
– Что, что? – напуганная, она поскорей подобрала грабли.
Девушки хотели помочь мне поднять свою ношу, но я турнул их обеих, и Хану и Тунику.
– Господи Иисусе, да ты вытрись! На кого ты похож! – крикнула Туника.
Я бросил на нее бешеный взгляд – в глазах у нее был испуг – и рывком забросил корзинку за спину. Пот лил с меня потоком.
Я обругал их, обеих сразу, потому что их испуг привел меня в еще большую ярость и мне понравилось, что они меня боятся. Но когда я высыпал в телегу листья и провел рукой по лицу, я почувствовал, что ладонь у меня слипается, рука была в крови. Я еще раз провел ладонью по лицу и почувствовал острую боль. Вот, значит, почему они с таким испугом на меня смотрели!
И внезапно мне захотелось заплакать. Я присел на дышло телеги и сперва было решил умыться в ручье, а потом передумал. «Пусть, стерва, видит, что сделала, пусть боится!» – подумал я и оставил все, как было. Я исходил злобой.
А потом произошло то, после чего, я думал, сойду с ума от ярости: Хана швырнула с телеги мне в голову пустую корзину и та задела меня прямо по свежей ссадине. Хана стояла в телеге, утаптывая листву, а Туника оставалась на склоне, в том месте, откуда я таскал листья. Я опять приложил ладонь к лицу, не увидел, а почувствовал на пальцах кровь и вконец лишился рассудка. Телега была уже с верхом нагружена листьями, я схватился за борт и, опершись на ось заднего колеса, вспрыгнул. Хана увидела меня – должно быть, я был страшный – и перепугалась. Выпучила глаза, разинула рот, только я успев издать вопль, как я уже схватил ее – деваться ей с воза было некуда, – и в одно мгновенье она полетела на листву, точно у нее не было ни капли силы, чтоб оказать сопротивление. И я начал ее бить – эх, я хлестал ее по щекам всласть, отводя душу. Она пыталась защищаться, закрывалась руками, пинала меня ногами, но только поначалу, и очень скоро утихла. Потом всхлипнула, стала вздыхать и втягивать носом воздух, как будто ей это нравилось, а затем вдруг, ухватив меня за рубаху, даже за кожу, потянула на себя. Я отрывал ее от себя, но она обхватила меня ногами, и я уже не мог вырваться, я лежал на ней и слышал свой собственный голос, который изрытая проклятия, но все тише и тише, пока вовсе не стих и пока я не почувствовал, как ее руки, только что терзавшие мне рубаху и кожу, обняли меня и крепко прижали к себе. Тело у нее было невыносимо горячее, и мне показалось, будто она улыбалась. Почему она улыбалась, в то время как я ее бил, мне было непонятно – я рванулся, стремясь освободиться от нее, дальше, во имя всего святого на свете дальше, но в теле у меня не было больше сил, и вырваться мне не удавалось.
– Отпусти меня!.. Туника ведь!.. Ты с ума сошла! – шипел я, отталкивая ее и чувствуя, что у меня обрывается дыхание.
Она ослабила объятия, разжала ноги – я почти лежал на ней – и спросила:
– Ух, ты и с ней спутался?
И словно окатила меня ледяной водой, я мгновенно отрезвел. Соскочив с воза, я подхватил свои корзинки и пустился вверх по склону, еле держась на заплетающихся ногах. Туника стояла на месте, поджидая меня. Я заметил, что она выглядывала меня в овраге, однако так никогда и не узнал, видела ли она, как мы сцепились с Ханой, – в тот день она словечка не проронила, ни на обратном пути, ни дома. А Хана, та полыхала, лицо у нее было пунцовым, но и она притихла, что редко бывало. Скорее всего, ей было безразлично, видела нас Туника или нет.
Я стал побаиваться ее, вспоминая, как она вдруг всем телом прижалась ко мне, и меня чаще одолевали мысли о том, как податливо она лежала под моими кулаками, каким влекущим был ее устремленный на меня взгляд, как она улыбалась. Да, ей было безразлично, даже если б подошла Туника! Сладостная дрожь, охватившая меня тогда, возникала снова и снова, и снова и снова я трепетал, полный страсти, подчинившей меня, когда я с ней боролся.
Кажется, Хана и сама испугалась. В доме воцарилось блаженное спокойствие, или по крайней мере так казалось, и очевидно было – я убеждался в этом тысячу раз на день, – что она меня избегала, проходила мимо, не замечая, прекратила свои насмешки и шуточки.
А Топлечка с каждым днем становилась все более неуклюжей, неповоротливой и дремливой. Она бродила по дому, по полям, присаживаясь где попало, но покоя не находила. Я чувствовал, как она искала меня, взгляд ее шел за мной, и она старалась задержаться рядом или посидеть, насколько это было возможно. Я не мог бы сказать, что ее влекло ко мне, вряд ли она узнала о Хане и о нашей схватке в лесу – Туника держалась тише воды, ниже травы и не стала б болтать, если и видела. На меня Топлечка навевала лень и дремоту – вся она: и ее певучий говор, и ее мозги.








