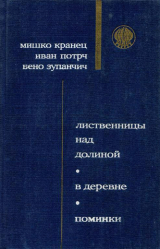
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Опять послышались крики, казалось, на той стороне нарочно нас поддразнивали.
– Закрой! Простудишься! – сказал я. А она в ответ:
– Это Палек! Палек, он сватом вместе с Туникой!
– Пропади ты пропадом, да затвори! Какое мне дело до Палека!
Она закрыла окно и ушла – спать, а мне уснуть не удавалось: я вертелся, крутился на постели, с головой укрываясь одеялом, но сон ко мне не шел.
Потом, было уже довольно поздно, мне захотелось пить, из-за этой проклятой жажды я оделся, собираясь пойти в погреб за вином. У Хедлов пьют, Топлечка вот напилась, почему бы и мне не причаститься! Оделся я, значит, и натянул не будничный, а праздничный костюм. А в погреб не пошел, потому что, выйдя в сени, заметил свет у Топлечки в каморке. «Проклятая, – бурчал я про себя, – подавись ты и вином и землей своей! Чтоб ты раз и навсегда ею подавилась!» Тихонько отворил я входную дверь, быстро прикрыл ее за собой и по скрипевшей при каждом шаге снежной целине направился к ярко освещенному дому, где пир шел горой.
Идти было недалеко, но холод пробрал меня до костей. По дороге я раза два-три оглянулся, в окне у Топлечки виделся свет, и я снова и снова принимался ее проклинать. Это из-за нее я поклялся не ходить на свадьбу – и она же виновата в том, что свое слово я нарушил.
Подойдя к нашему дому, я подождал, пока музыканты заиграют и начнется танец, а потом вошел – зубы у меня стучали, как на морозе, – сперва в сени, потом в горницу. Первой мне попалась Ольга.
– Господи, Марица, мама, Южек пришел!
Она крутилась со своим кавалером и поворачивала голову то в мою сторону, то в сторону стола, где уже поднималась навстречу мне Марица с завитой головой и венцом в волосах, приглашая к столу. А я оставался столбом стоять, все пялили на меня глаза, и даже музыка, как мне показалось, зазвучала громче и озорнее. Марица вдруг вскочила на стол, я заметил, как Хрватов, жених, поддерживал ее, и, спрыгнув на пол – танцующие расступились перед ней, – стала пробираться ко мне. Она обняла меня, поцеловала сперва в одну, потом в другую щеку, такого еще не бывало у нас, на Хедловине.
– Господи Иисусе Христе, пресвятая дева Мария милостивая, Южек пришел! Господи, пришел! Мне так было плохо…
И она залилась слезами и ничего больше не смогла сказать. Обнимая, она потащила меня к столу между танцующими, потом вдруг передумала и положила руку на пояс, приглашая к танцу. Мы плясали с ней, танцу не было ни конца ни края, музыканты наяривали так, что, когда я наконец очухался и пришел в себя, все поплыло у меня перед глазами. Я видел мать: она стояла заломив руки с того самого момента, как меня увидела; я видел гармониста Чрнкова, он растягивал меха своего инструмента и подмигивал мне, по крайней мере мне так казалось; я видел Хрватова, поджидавшего меня за столом со стаканом вина; только Туники, Туники я нигде не увидел, правда, я не искал ее, вообще не думал о ней, когда танцевал, а позже, роясь в воспоминаниях, тщетно разыскивал среди гостей ее образ и не помню, нашел ли, осталась ли она у меня в памяти.
Музыкант отложил гармонику, и Марица повела меня к столам. Всем было хорошо, все шумно, как у Плоя, веселились. Я осушил стакан, который протянул мне Хрватов, и мне снова налили, и я вынужден был смеяться ради всех этих людей.
– Три ипостаси у господа бога, пей, Южек! – крикнул мне через стол дядька Юг, какой-то родственник по матери, которого сделали старшим сватом.
Никакие отговорки не помогали, я должен был пить, должен был смеяться. Потом Дядька Юг вспомнил о водочке, вылез со своего места, подошел ко мне, и снова я пил, за каждую ипостась господа бога в отдельности. Старший сват стоял рядом со мной, он обнял меня, заплакал и, тычась носом в ухо, стал внушать, как хорошо я сделал, что пришел.
– Южек, Южек, – сетовал он, точно кому-то угрожал, и тряс головой, – Южек, Южек, я-то знаю каково… мне не надо, слов говорить. Сегодня бы и тебе надо с Топлековой, с Топлековой… как ее там зовут? – я сказал ему, – сидеть здесь, рядом с Хрватовым и Марицей. А ты не тяни, все хорошо пойдет, по-другому, все на свете меняется! Пей, Южек!
Я отмахивался – дескать, мне все нипочем, потому я и пришел, а Юг меня утешал и хлопал по плечам. Подошла его жена, Юговка, невысокая, плотная женщина, и потянула своего старика танцевать. Я смотрел, как они двигались: он длинный, точно гвоздь, она круглая вроде лепешки, и ее обширные юбки кружились у него между тощих ног, и на душе у меня становилось веселее, я смеялся, и мне в самом деле казалось, что я хорошо поступил, придя на свадьбу.
Со всех сторон мне совали вино, супы, мясо, словно повариха только меня и видела за столом. Потом подошла сватья, пришлось идти танцевать. Она была из Хрватовых, сестра жениха или что-то вроде того, так мне думается, родню жениха я знал плохо – они были другого прихода, от Врбана. Сватья непременно желала выяснить у меня, люблю ли я танцевать, потому что она готова плясать до самой смерти.
– А где ж ты до сих пор был? – любопытствовала она и, не дожидаясь ответа, сама мне что-то втолковывала. – Свата я вконец уходила, не пара он мне, другие ведь его для меня подобрали!
Я спрашивал, кто с ней в сватах. Она назвала чье-то имя, а потом сказала:
– Я б такого дурня ни за что не выбрала. Не поймешь, что он делает, о чем толкует! – Засмеялась и зашептала: – Взял он меня за руку да как сожмет, вот так, – она сжала мою руку, – и спрашивает, ты, говорит, меня любить хочешь? Я уж так над ним посмеялась, в животе закололо. А он знай мелет: дескать, не только о любви думает, но и об угощении. Досыта я посмеялась! А он мне все исповедуется, все исповедуется, а потом почему-то осерчал. И вот теперь мне приходится себе пару искать. Сватья-то старшая на меня уж косится, тетенька за своего дядьку держится, со смеху помрешь. Ты сам на них глянь! Ай нет?
Я соглашался с нею и должен был пообещать, что буду с ней танцевать и никому не скажу, что́ она мне доверила, а особенно тайну о ее горемычном свате, а тверже всего пришлось мне пообещать, что, когда вновь грянет музыка, я ее приглашу. Потому что, как сам могу сообразить, негоже ей навязываться, и вообще «мущинское» это дело. А Звать ее Тила, или Тилчка, как мне приятней.
И всякому своему слову она так сладко, от чистого сердца смеялась, что радостный смех ее передался мне. Потом она заметила, что нет у меня букетика в петлице и, отцепив со своей кофты розмарин, приколола мне. А я при этом заметил, какие у нее маленькие пальцы, и, охватив ее всю взглядом, нечаянно убедился, что все у нее маленькое: и головка, и сережки в ушах, светлевшие между белокурыми убранными волосами.
Так мы и танцевали с этой жениховой сватьей. А потом дядька Юг, старший сват, пригласил повариху. Она вышла, а я, оглянувшись, увидел сестру, Лизу Штрафелову. Мы поздоровались, хотя разговаривать мне с ней не хотелось, и, пока повариха наливала мне в тарелку суп, я невольно оглянулся, нет ли поблизости Штрафелы. Однако его нигде не оказалось, и я почувствовал облегчение.
Но Штрафела здесь был. Когда мы с Тилчкой в очередной раз пошли танцевать, я увидел его в настежь распахнутых дверях: раскачиваясь, он вступил в горницу, готовый на все, и неожиданно раскрыл свою пасть и, громко взвизгивая, запел:
Охо, охо-хо! Все кругом весело́,
все кипит, все бурлит – уйя,
только сердце молчит…
Он пел, точно кидаясь на кого-то, не обращал внимания на музыку, и вглядывался в пары танцующих. И не успела Тилчка мне до конца поведать свои тайны – все-то в ней мне уже приглянулось, – как Штрафела, растолкав всех, кинулся к нам и подхватил ее.
– Да здравствует женихова сватья! Музыканты! Польку!
Он кричал, хотя не было никакой нужды кричать, а я почувствовал себя так, будто меня долбанули мордой об лед, и мне подумалось, что нечего мне, видно, искать под родной крышей. Я уселся за стол, где Марица и Хрватов подносили мне вина, и стал пить, и усилием воли заставлял себя не оглядываться, туда, где вопил Штрафела и где раздавался громкий и звонкий смех Тилчки.
«Черт с ней, – думал я, хотя мне вовсе не было безразлично, – может, она ему жалуется на своего свата, а может, и на меня».
Пары кружились снова и снова, а меня не оставляла печаль, она давила меня – я так давно не был дома; я пытался сопротивляться, но она все глубже проникала в душу. Я сам подливал себе, Марица меня угощала, кто-то подкладывал еду на тарелку, но кусок не шел в горло. «Они здесь, эта Марица и этот Хрватов, и они веселятся, – вертелось в голове, – а меня без всяких оставили с носом, а ведь здесь мне надо было свадьбу играть, мне надо было принимать хозяйство».
Эти мысли одолевали меня, и заглушить их было невозможно никаким вином, они застревали где-то в груди, от них спирало дыхание. А к чему тут Штрафела, этот бродяга, зачем пришел он?
Я встал и начал озираться по сторонам, как будто выглядывая себе пару, чтобы старший сват или Марица не приметили, что со мной творится неладное. Никому не было никакого дела до моих настроений, и менее всего тем, кому предстояло жить под этой крышей, – мне теперь здесь не жить. И Тилчка, запыхавшаяся, разгоряченная – Штрафела не выпускал ее из рук! – и улыбающаяся своему кавалеру, вдруг стала интересовать меня как прошлогодний снег.
И тут среди пар, топтавшихся в тесноте на ногах друг у друга, я заметил Тунику и ее свата – Палека. Они кружились совсем рядом со мной, но меня не видели. Туника была серьезной и даже печальной, да и Палек держался степенно и торжественно. Спокойно и равномерно, в такт танцу, он поднимал руку Туники, и когда они глядели друг на друга, то прямо в глаза. И вспомнилось мне, как совсем недавно Палек сказал: «Мне Тунику жалко…» – в тот самый раз, когда я поджидал их с колом у дороги.
Я смотрел на них, и сердце у меня сжимала тревога. Надо скорей уходить. Я пробирался вдоль стенки, и до моих ушей донеслись слова пожилой женщины, кажется старшей сватьи, она громко сетовала:
– Во, во, самое разумное – им пожениться, девка б и ушла из дома…
– Ты только глянь на них…
– О господи милосердный, несчастные дети, у которых такая мать!
– О господи, и верно! Бедная Туника…
Видно, бабы не очень хорошо знали меня в лицо или не разглядели, да я и не стал оборачиваться. Я вглядывался в мелькавшие пары – в самом деле Палек и Туника походили на жениха и невесту. «Вот, значит, почему она согласилась стать подружкой, – осенило меня, – вот почему она не отказалась». И больше я не глядел в их сторону. Однако Туника заметила меня:
– Южек, Южек!
И подошла ко мне вместе с Далеком: она держала его за руку и тянула за собой, словно ни за что на свете не хотела его отпускать. Они стояли передо мной, не успев отдышаться после танца, – казалось, Туника переведет дыхание и скажет мне что-нибудь.
Но тут музыка оборвалась, все остановились, и вдруг Штрафела пронзительно завопил:
Уйя, гоп-ца-ца, Хедлица!
Уйя!
Подскочившая Лиза принялась выталкивать его из горницы, но он, не глядя, отшвырнул ее. Однако Лизика опять кинулась к нему, стала уговаривать по-хорошему. Она хотела вывести его наружу. Но он опять отшвырнул ее, да так, что та едва устояла на ногах, а я почувствовал, как у меня по спине поднимается холодок. Такое я не мог равнодушно видеть. Туника в страхе закрыла лицо руками, из кухни вышла мать и схватилась за голову – мне почудилось, вот-вот она начнет рвать на себе волосы или биться головой об печь, сокрушаясь о своих несчастных чадах. А Штрафела куражился, он явно не собирался уступать жене и лез на рожон. Его урезонивали, однако без успеха, все равно что говорили с глухим.
У меня все плясало перед глазами. Я подскочил к Штрафеле, схватил его за лацканы пиджака и сказал, глядя прямо в глаза:
– Убирайся вон!
Только и сказал, с превеликим трудом сдерживая себя, чтобы не наговорить чего похлеще, а он стоял, раскорячив ноги, и словно врос в пол. Размахивал руками и кричал:
– Так, значит, вы меня из дома вышвырнуть желаете, да? Ну погодите, погодите, вот вернется весной Штрафела! Все вы у меня в задругу полезете, как цыплята под курицу. Кого вы тогда будете выбрасывать на улицу, а? Ха-ха-ха…
И сверкающим взглядом он обводил гостей, а те, окружив его кольцом, смотрели точно в предчувствии урагана.
А он прикинулся, будто только сейчас увидел меня. Жутко осклабился и расхохотался, так что у меня кровь оледенела в жилах. Поднимая руки, дважды крикнул:
– Ха-ха, и ты со своим гаремом, со своей бабьей компанией созрел для задруги!
И опять раздался его безумный смех.
Я плохо помню дальнейшее. Кажется, я легонько отпихнул его от себя, а он вдруг, как колода, рухнул на пол возле печи. Меня обуяло желание растоптать его – не знаю, не знаю, почему я этого не сделал, надо было его придушить! – и тут я опять увидел Тунику: в глазах у нее стоял страх, наверное, это меня и удержало.
Я оглянулся, все взгляды были устремлены на меня, люди ждали, что же дальше. Гости перепугались, как только могут перепугаться на свадьбе, когда вспыхивает драка, а потом помню, что я оказался под грабом: снег скрипел у меня под ногами и зуб на зуб не попадал от холода. Слышались окрики: «Южек, Южек! Куда ты? Не валяй дурака… Иди сюда, танцевать будем!..» Это был голос Туники, но я не остановился. Музыканты взялись за инструменты, стремясь поскорее загладить досадное происшествие. Свадьба Марицы продолжалась, мне там места не было.
Я побрел – снег поскрипывал, все кругом словно окутано дымкой, ветки деревьев под тяжестью снега склонились к земле. Вдруг я обнаружил, что стою и приплясываю на одном месте. А стоял я под белыми черешнями. Я узнал это дерево по раздвоенному стволу, и мне стало так горько, что я готов был выть волком.
Я пошел дальше по снежной целине. И уже не отдавал себе отчета, куда я иду – прочь, прочь от этой свадьбы, от этого дома. Я миновал поле и овражек, прокладывая в снегу тропу, поднялся в лес – безмятежная тишина стояла вокруг, деревья точно уснули; наконец я вступил на дорогу. Так я и брел, вслушиваясь в звуки собственных шагов, печальный скрип снега, потрескивание веток… прочь, прочь… пока звуки гармоники не замерли в отдалении. И посреди этого безмолвия я вновь увидел белые черешни, точно кругом не было зимы, не было ночи и точно я не стоял один в лесу. Солнце клонилось к закату, белые ягоды были сочными и зрелыми, где-то постукивали плотничьи топоры, Груди Туники, твердые и маленькие, совсем как белые черешни, скользнули по моему телу, и в сердце у меня навсегда осталась печаль. Вновь, как в юности, стоял я на наших полях, под ореховым деревом, в ивняке у речушки и глядел на противоположный склон, на дом Топлеков, и думал о Тунике, своей невесте, и об отцовском хозяйстве, где мы с Туникой будем жить. Я сел и почувствовал, что у меня становится тепло на душе, и сладкая грусть заполнила меня… но внезапно я понял, что сижу на покрытом снегом бревне у дороги и дрожу от холода. Белых черешен не было, их опалило ледяное дыханье мороза, и они погибли. Меня окружал заснеженный лес, от стужи хрустели ветки. Штрафела, Топлечка, Хана, мать, каждый со своими расчетами и надеждами, возникли перед моим взором, на сердце становилось все безысходнее и глуше, казалось, вот-вот оборвется дыхание. Почудилось, будто кровь останавливается, сперва в ногах, потом по всему телу, и я принялся скакать, на миг я пришел в себя и понял, что куда-то стремглав бегу – под ногами будто шипело жаркое пламя. Я не знал, куда я бегу, и думал только об одном – как бы не замерзнуть и поскорее выбраться из леса.
В этом безумном беге, гонимый единственным желанием добраться до жилья, увидеть живую душу – мне показалось, будто я убегаю от жутких ночных кошмаров, – высунув нос из воротника и напрягши зрение, я заметил огонек. Остановился и стал вглядываться в этот огонек, пока не сообразил, что нахожусь у избушки Затлара. Я не мог понять, как я здесь оказался – ведь избушка стояла в Лисичьяке, на противоположной опушке леса. И пока я соображал, повернуть ли мне обратно или вызвать кого-нибудь из дома, дверь отворилась и выглянула жена Затлара. Дверь она приоткрывала нерешительно, опасливо, точно боялась, что ее огреют по спине.
– Тина? – негромко и робко позвала она. – Тина? Господи, куда ты? Мне страшно…
– Это я, Затларица.
Женщина вздрогнула и умолкла! Потом, вытянув шею, спросила:
– Кто это?
– Я, Хедл! Южек…
– О господи, и в самом деле! – воскликнула она. – Господи, а ты разве не на свадьбе? Или с нашим что случилось? О господи, погоди, не рассказывай мне дурных новостей…
– С Затларом? – переспросил я. – Я его там не видел.
– О господи, значит, у Плоя загулял! Господи, господи!
Я прискрипел поближе, встал в полосе света, падавшей из двери, и женщина вдруг воскликнула:
– На кого ж ты похож, господи милостивый? В одном пиджаке? Ты же замерзнешь! Ступай в дом, ради бога!
И вот так – тоже на свою беду! – я вошел в дом и дрожал возле чуть теплой печи, прежде чем отогрелся. У стола, под лампой, сидела дочка Затлара и шила. Она была немая, поэтому я не поздоровался с ней. Затларица села за ножную машинку – она зарабатывала шитьем – и пустила ее. Я согревался и разглядывал горницу, обеих женщин и их шитье – оно грудами было разбросано по всей комнате; наконец взгляд остановился на немой девушке. Меня била дрожь, и трудно дышалось, но, чем больше смотрел я на ее занятия, на ее пальцы, вдевавшие нитку в иголку, тем скорее забывались мои собственные беды, и горькая судьба этой девочки-подростка стала волновать меня, как будто она была моим собственным ребенком. И непереносимая тоска сжала сердце, когда я подумал о Затларе, ее отце, жалком пьянчуге, который когда-то напоил малютку водкой, чтобы она не кричала, – и ребенок навеки умолк, навсегда остался немым.
– Ей сколько лет?
– Лет? – Женщина закончила шов и ответила: – В апреле пойдет тринадцатый годок.
– Вот беда-то, такая девочка пригожая! – искренне огорчился я.
– Господи помилуй!
Мы помолчали.
– А сколько ей было, когда это случилось? – Женщина посмотрела на меня. – Когда он ей водки дал?
– О господи, – она вскинулась, как будто только сейчас сообразила, в чем дело, – она ходить начинала, а потом, после этого-то, и отставать во всем стала… – Ей показалось, что она сказала мало, – Но теперь почти хорошо, вроде поправилась и выросла для своих-то лет… – И снова умолкла. – Только вот говорить не может…
Думая о судьбе девочки, я ушел, хотя хозяйка удерживала меня, хотела напоить чаем. И уже после полуночи пришел я к Топлекову дому.
Со свадебного пиршества по-прежнему доносилась музыка, но я больше не думал о свадьбе Марицы, я чувствовал себя обиженным всеми. И мне хотелось только одного – спать, утопить все во сне: свадьбу Марицы, Штрафелу, немую дочку Затлара и свою тоску.
В горнице горел свет. То ли Туника вернулась, то ли Зефа возилась с ребенком – девочка надрывалась в крике. Я толкнул дверь, она не отворялась, была заложена изнутри. Я подождал, открывать никто не торопился. Тогда я добрался к окну и стукнул в стекло. Оно замерзло, и сквозь него ничего не было видно.
Потом раздалось бормотанье, шла Зефа, в сенях зашлепали ее шаги – и дверь открылась.
Топлечка была в кофте и красной нижней юбке, и, когда я вошел, меня обдало запахом водки, точно я попал в корчму. Меня как обухом по голове хватило, и я почему-то подумал о своей девочке.
– Опять! Опять напилась! – начал я, и, наверное, говорил я грубо и жестоко, но по-другому я не мог.
Зефа бессмысленным взглядом смерила меня с ног до головы, повернулась и пошла в горницу, и я увидел ее тяжелые длинные косы, ниспадавшие по спине вниз, – те самые косы, что когда-то сводили меня с ума. Войдя в горницу и остановившись посредине, она обернулась ко мне и хриплым, пропитым голосом ответила:
– Свое пила, кому какое дело!
Растерявшись, я не знал, что сказать, что сделать, – наружная дверь оставалась открытой.
– Закрой дверь! – крикнул я.
Не трогаясь с места, женщина какую-то секунду глядела на меня, а потом, подойдя к двери, еще шире ее распахнула.
– Ты с ума сошла? – Я волком смотрел на нее. – Ребенка простудишь.
Но она упрямо стояла на месте и глядела мне в лицо.
Хлопнув дверью, я бросился в горницу, думая только о том, что сейчас ей все выскажу.
– Ты с ума сошла? – повторил я. – И напилась! Могла бы и о ребенке подумать!
– А ты? Ты о нем часто думаешь? На вот, держи!
Подскочив к кровати, она подняла девочку и поднесла ее ко мне.
И по сей день не знаю, что случилось, то ли от ребенка несло водкой, то ли она сама обдала меня перегаром? – но тогда мне подумалось, что она опоила девочку водкой…
Я положил ребенка на постель, изо всех сил стараясь быть осторожным, и спокойно, хотя меня трясло, подошел к Зефе.
Она улыбнулась, потом засмеялась, наверное, черт возьми, подумала, что я обниму ее или еще что-нибудь, но я схватил ее за косы – она захихикала, обмотал ими ее руки, потом шею – она смеялась все громче и громче, как будто ей было щекотно, и неожиданно навзничь повалилась на постель, увлекая меня за собой, и по-прежнему неудержимо хохотала, настолько громко, что я ударил ее. Да, так вот случилось, она даже обняла меня; но потом… потом, когда она уже давно не смеялась и только цеплялась за меня, я с трудом освободился от ее судорожно сведенных рук. Я удавил ее собственными косами…
Хедл молчал несколько долгих мгновений, потом заговорил опять, медленно и отрывисто, так что каждое произнесенное им слово запало мне в душу.
– И больше ничего не было. Только ребенок пищал на постели. Я не смотрел в ту сторону, не смотрел и на мертвое тело. Обхватив голову руками, я сидел на скамье у стола.
Вернулась Туника. Не берусь передать, как она зарыдала.
Сверху сбежала Ханика. Она твердила только одно:
– Куда ж мне теперь деваться, бедной? Ведь ребенок у меня будет, несчастный ты человек! Что ты наделал?..
Я ждал, что она кинется на меня, вцепится ногтями в лицо, ее пальцы мелькали перед самыми моими глазами, но она этого не сделала. Я смотрел, как она бесновалась, но жалости к Хане у меня в душе не было.
Потом пришли люди, гости со свадьбы…
И меня увели…
XII
Вот так однажды ночью Хедл неожиданно оборвал свою повесть, как будто разом поставил точку. В течение нескольких последующих вечеров мы ни о чем не говорили – мне не хотелось навязываться, а Хедл больше не поднимал головы со своего тюфяка.
Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он бродил по камере, словно исполняя некий странный танец, и смотрел сквозь решетку: может, размышлял, о чем бы еще поведать.
В воскресенье утром – мне рассказали об этом уже вечером, когда я вернулся из канцелярии, – к нему пришли посетители. Это была Хана.
После ее посещения он потерял сон, и как-то среди ночи, когда кругом все храпели, вдруг задал мне вопрос:
– А то, что говорят о задругах, правда? Будто все туда пойдут? И какая жизнь там будет?
Эти его слова о жизни меня поразили. Неужели опять его что-то встревожило? Конечно, тех страшных мук, что прежде его терзали, скорее всего, он уже не испытывал, хотя как-то пытался выяснить у меня, можно ли ему жениться на Хане, когда он выйдет на волю.
И еще одно обстоятельство в его истории осталось для меня невыясненным – это судьба Туники; видно, так уж тому суждено, полагал я, после того, как в одно прекрасное утро его вызвали из камеры. Его отвели в канцелярию, переодели, а вечером арестант из портняжной мастерской сунул мне какие-то смятые бумажки. Он нашел их в тюремной одежде Хедла. Это было письмо, четыре страницы, густо исписанные мелким почерком.
«Дорогой Южек!
Это письмо передаст Тебе Хана. Будь с ней добр. Такой славный ребенок у вас с ней родился и очень на Тебя похожий. И материна дочка оправилась.
На меня не обижайся, я вышла за Палека. Мы уже не дома: ни у нас, ни у них жизни нам не было бы – вступили в задругу. Палек не хотел спорить со своими, да и разницы ведь теперь нету. Если хочешь выжить, надо работать не покладая рук и у себя, и здесь.
Должна я Тебе еще сказать, теперь можно. Я любила Тебя. Начиная с тех белых черешен – ведь Ты помнишь эти ваши черешни на склоне – я Тебя полюбила. Но Тебя в другую сторону понесло. Я Тебе поперек пути становиться не хотела, не смогла. Я знаю, что Тебе временами было очень худо из-за меня. Я боялась, как бы Ты не стал еще несчастливее из-за меня, и потому мы сговорились с Палеком. Я думаю, и для Тебя лучше, что так вышло. Тебя ждет Хана, она очень переменилась, с утра до ночи хлопочет по хозяйству – двое ребят у нее на шее. Что ей еще, горемычной, остается. И Тебя поджидает. Любит она Тебя. Когда Ты вернешься домой, на Топлековину, крепко вам приналечь придется, если устоять хотите, вы и ребята. И повернется еще к Тебе жизнь лицом. Да и как иначе – трое Тебя дожидаются.
В ту ночь, когда мама скончались, больше всего мне Тебя было жаль, – а только Ты больше не думай о том, что случилось, ни Ты, ни я. И о черешнях забудь. Хана все знает, я ей рассказала. Она промолчала, а сам знаешь, какой она бывает, но теперь я могу Тебе написать, что она не сердится из-за меня. И Ты тоже думай о ней и люби ее. Ты должен любить ее и своих детей.
Привет Тебе шлет через горы и долины Туника».
Это было последнее, что я узнал о Хедле, – больше мне не довелось ни увидеть его, ни что-либо о нем услышать. Может, перевели его куда в иное место, а может, и вовсе выпустили; если выпустили – каково-то ему пришлось в новой рукопашной схватке с жизнью? Ждала его Хана, ждали его двое детей – Зефы и Ханы…
notes
Примечания
1
M. Mejak. Književna kronika. Ljubljana, 1961, s. 42.
2
И. Броз Тито. Избранные статьи и речи. М., Политиздат, 1973, с. 180—181.
3
R. Golouh. Pol stoletja spominov. Ljubljana, 1966, s. 344.
4
И. Броз Тито. Избранные статьи и речи. М., Политиздат, 1973, с. 183.
5
И. Броз Тито. Там же, с. 185.
6
M. Mejak. Književna kronika. Ljubljana, 1961, s. 46.
7
Все слишком поздно, слишком поздно… Весь организм у него зацементирован (нем.).
8
Староста, председатель общины.








