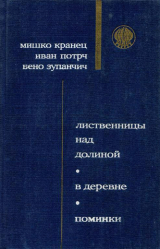
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
И, высказав это, она через всю горницу прошла к печи и уселась возле нее, чтобы смотреть на всех нас. Сложила на груди руки и теперь – это было очевидно – ожидала, что родственники поймут ее как надо: ей нет нужды никуда уходить на ночь глядя, она у себя дома, может быть впервые с тех пор, как сюда пришла, она осознала это полностью. И родня, похоже, правильно ее поняла.
Однако на этом не кончилось, Зефа вдруг спросила:
– А что Гечевка? Во второй раз замуж не выйдет?
Воцарилось молчание, требовавшее ответа. Топлечка глядела на всех по очереди и ждала.
– Да, выйдет, – процедил сквозь зубы Рудл, – ради детей…
– А мне в могилу ложиться? Да?
И опять она переводила свой взгляд с одного на другого и ждала.
Первой не выдержала двоюродная сестра.
– Так, выходит, правда, – вскочила она, – мы не ошиблись! Вот ты какая, только ты можешь быть такой бесстыдной! Рудл, чего ты сидишь и ждешь? Пошли!
В чем заключалась правда и почему они не ошиблись – здесь было что-то свое, родственное, – этого она не сказала. В горницу разом вошли обе ее дочери, и она замолчала. Рудл встал, и вид у него был такой, словно Топлечка лишила его последней радости в жизни. Он не стал ни о чем спрашивать, схватил шляпу, выругался и сказал:
– И такое услышать под родной крышей… Мы еще потолкуем, Зефа! Спокойной ночи.
Топлечка ничего не ответила на это. Но зато где-то на улице закричала Хана. Она завопила, будто сошла с ума, умоляя тетку подождать ее, Хану, христа ради, потому что ей нечего делать дома и она пойдет с ними.
– Ух, и это наша мать! Вот чего нам, убогим сиротам, довелось дождаться…
Она вбежала в дом за Туникой, но та никуда не хотела уходить и только рыдала.
– Уходите, все уходите! – выгоняла нас Топлечка, сама не двигаясь с места.
Я выкатился из горницы; уже в сенях я услышал последние проклятия Ханы, поспешавшей за семейством Рудла, и вдруг почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Оглянувшись, я увидел Тунику.
– А ты нас не бросишь, Южек? – спросила она, вытирая глаза. – Пожалуйста, не уходи! Мне так страшно…
Она стояла передо мной, жалкая и беспомощная, какой я никогда не видел ее, и по сей день не могу сказать, что помешало мне обнять ее и прижать к себе. Тогда бы, наверное, все иначе обернулось. Но что-то помешало. Она дрожала, глаза ее тревожно блестели, и вся она была воплощенные страх и мольба. Или я боялся Топлечки, сидевшей в горнице у печи, или думал, что в такой день нехорошо ее трогать. И поэтому единственное, что я сделал, – это скорее простонал, нежели сказал:
– Ты иди спать, Туника, не уйду я, сегодня наверняка не уйду. Не бойся ничего, Туника.
Ее обрадовали эти мои слова, она вдруг схватила меня я а руку, сжала ее и, повернувшись, стремглав бросилась в кухню и дальше по ступенькам к себе.
Я ушел в заднюю комнату и только начал раздеваться, только сбросил фартук, как раздался громкий, слышный во всем доме, и, наверное, у Туники тоже, голос Зефы:
– Южек, поди сюда, поешь, ты ничего не ел, да и не выпил ни капли!
Я откликнулся, потому что меня в самом деле томила жажда, и вышел к ней. Выпил стакан, а когда Зефа велела мне сесть, я и присел. Я принялся доедать то, что оставалось на столе, потому что голод пришел сам собой. И хотя я сидел спиной к печи и к двери, я словно видел каждое ее движение, каждый ее жест, все, что она делала. Она вышла в сени, потом вернулась, закрыла и заперла дверь, заглянула в кухню, кликнула Тунику – хотела выяснить, уснула ли та, и, вновь вернувшись в горницу, опустилась на скамью у стола, налила стакан вина, выпила, предложила мне и отошла к печи. Я понял, что она начала раздеваться. Я слышал, как она снимала обувь. Развязала на голове черный шелковый платок, аккуратно сложила его, сняла черную юбку, переступая с ноги на ногу, расстегнула кофту, потом подошла к кровати, раскрыла ее, сложила одежду и со вздохом легла.
Я поднялся и пошел к двери, не взглянув на нее.
– Южек, Южек, мне страшно, – раздалось у меня за спиной.
Я остановился, на миг вспомнилась Туника, но тут же мысль о ней исчезла, подхваченная быстриной. Зефа громко спросила:
– Тебе постелить в горнице – у печки?
Я вышел, проглотив слюну.
Уже у себя в комнатке я услышал, как она встала и принялась устраивать мне постель возле печи.
Долго сидел я на своей кровати, потом встал – Туника теперь наверняка спала – и вышел в сени. В горнице горел свет. Я потушил его и, когда направился к печи, к своей постели, услышал, как зашуршал соломенный тюфяк, услышал громкий вздох и призыв Топлечки:
– Южек!
Голос звучал нетерпеливо, властно и, я бы сказал, повелительно.
И опять наступили ночи, в которых не было времени ни для воспоминаний об усопшем, ни для раздумий о Тунике.
VII
Вот так и получилось, что не ушел я домой, на хозяйство Хедлов, а остался на земле Топлеков, у Топлечек, а точнее – у Топлечки, у старой Зефы. Хана, столь неожиданно покинувшая дом, судя по всему, не собиралась скоро возвращаться; неделю спустя после своего побега, когда еще было время одуматься и прийти в себя, она прислала одну из дочерей Рудла за какими-то своими гребенками и передниками, теплыми шалями, платьями и обувью. Со слезами Туника собрала ее вещички, а Топлечка, вернувшись из церкви, выбранила Тунику и отвесила ей пощечину, а через день-другой, видно приняв решение, заявила:
– Чтоб ноги ее в доме больше не было, вот мой сказ.
Это было сказано для меня и для Туники, а также для всех, кто приходил к нам и затевал разговор либо о Хане, либо о домашних делах.
– Сама справлюсь, пусть не беспокоятся! Если до сих пор управлялась, когда с ним забот было по горло, управлюсь и дальше. Это счастье, что нам Южек помогает, о господи!
– Ну и держи его при себе! – отвечал кто-нибудь, не имевший понятия о том, что происходит на самом деле, а она подхватывала:
– Я б и держала, если б могла. Молодые ребята что молодые бычки…
– Ну еще чего! – возражали люди. – У тебя две дочки, какая-нибудь да приглянется.
– Эх, – вздыхала Топлечка, давая понять, как нелегко ей говорить о дочерях, и поясняла: – Слишком уж они молодые.
А кум или кто иной ответствовал:
– Подрастут, за одну ночь поднимутся выше твоей головы, сама не увидишь как, ха-ха-ха!
И кум или кто иной не мог удержаться, чтобы не подмигнуть или не засмеяться во весь голос.
– Ну, поглядим, поглядим!
Топлечка на это старалась отвечать кратко, как только могла.
Очевидно было, что она без особой охоты слушала о том, что дочерей скоро выдавать замуж. И люди стали обращать на это внимание, я сам слышал однажды, как Муркец у Плоя скалил зубы, рассуждая о Топлечке.
– Святое причастие, а не баба, погляди, когда от мессы идет! Так и пышет румянцем. Хана ее дурака сваляла, что из дому ушла, старая мужика себе найдет, тогда девка увидит, почем фунт лиха. Эх, до чего же глупа девка, и это ей отольется. – И Мурко, или, как его окрестили, Муркец, потому что ростом он вышел нормальному человеку по пояс, отыскал меня своими мышиными глазками, ткнул пальцем, словно хотел что-то показать в окне, и воскликнул, как будто предостерегая:
– Ты, Хедл, берегись, пока у тебя с ней чисто. Потом, парень, каяться будет поздно! Никакие слезы тут не помогут. Отца у тебя нет, чтоб научить, потому не обижайся на меня, я видишь ли… хи… хи.
Он умолк, провел раскрытой ладонью по лицу, будто вытирая его, и тем оборвал самого себя, подавленный нахлынувшими воспоминаниями или печалью.
В корчме народу сидело немного, только мужики, однако скоро появилась хозяйка, в дверях встала одна из ее дочерей. Я хотел показать, мол, меня все это ничуть не касается, попытался даже улыбнуться, потому что люди на меня уже поглядывали, и вдруг почувствовал, что не могу сладить с собой и кровь приливает к голове. Я испытывал такое чувство, будто меня привязали к пушке, и длилось это несколько долгих мгновений, пока Муркец не завел свое «видишь ли», это означало, что он вспомнил собственную судьбу и взялся оплакивать самого себя – теперь уж мужики над ним стали посмеиваться. Подождали, пока он утрется, и начали наперебой уговаривать, чтоб рассказал, если не им, то молодому парню, как у него с бабами вышло. Муркец еще несколько раз вытер ладонью щеки, как будто тем самым вызывая в памяти воспоминания, и принялся рассказывать старую историю о том, как охмурила его дочка хозяина, у которого он служил в батраках.
– Вот так и было, увлекла меня к себе в постель, высокую, мягкую, – Муркец показал рукой, чуть приподнявшись со скамьи, – к себе в постель, значит, разделась догола и меня раздела. Так мы потом и лежали нагие, и я, господом богом клянусь, не знал от страха, что делать! Но девка сама сообразила. Обняла меня, а я как столб, право говорю, как столб…
Мужики заржали, дочка корчмарки громко захихикала, никому уже не было дела до меня, даже хозяин не обратил внимания, когда я встал и заплатил за свою четвертинку. И пока корчмарь собирал мне сдачу, я услышал, как Матьяшичев артельщик спросил у Муркеца:
– А чего ж ты на ней не женился? Стал бы богачом.
Муркец опять провел ладонью по лицу и ответил:
– Куда, мне, бедняку, половинке человека! А какая она была, когда венчаться ехала! Я спрятался в хлеву, пока они в церковь собирались, а потом допьяна напился. Хозяйская дочка она была, богатая, поиграла со мной, поиграла всласть… С бедняком легко шутки шутить! Мне в пору тогда вешаться было, да вот не повесился…
– Вешаться – это последнее дело.
Эти мудрствования, смех и хихиканье я слышал, уже выходя на дорогу и радуясь, что мне удалось улизнуть, не привлекая ничьего внимания. «Из-за баб, еще чего, из-за баб я б не стал вешаться», – рассуждал я про себя, пожимая плечами. Да, я тогда совсем зеленым петушком был, вовсе понятия о жизни не имел! «Поиграла она со мною, поиграла…» – бормотал я и представлял себе дородную обнаженную женщину в постели, слышал, как она раскатисто смеется и играет с бесконечно несчастным Муркецом. Мне стало жалко его, а впору было самого себя пожалеть. Та хозяйская дочка словно была Топлечкой, а я сам – Муркецом, и это Топлечка стонала, в изнеможении приказывая: «Щекочи меня! Ну, щекочи!..» Мне казалось, будто я схожу с ума, и я боялся, боялся всего на свете, а больше всего боялся Топлечки, и в то же время не мог поверить, что она играет со мной. Нет, это не была игра, то, что происходило между нами, это с самого начала было нечто иное, совсем иное. Женщина подчинила меня, и постепенно я все более и более чувствовал – она знает, что я у нее в руках, привязывает меня к себе и ни за что на свете не уступит меня другой. Ей хотелось бы со временем превратить меня в хозяина – а я был таким мальчишкой, совсем зеленым петушком. Я не всегда знал, как поступить, а если она принималась ворчать, мне было легче оттого, что Ханы нет в доме. Хана не смолчала бы, у нее совсем другой характер, чем у Туники, она бы зло посмеялась над матерью.
Каких-нибудь полгода я чувствовал себя здесь батраком, и порой это доставляло мне немало огорчений – ни за что на свете не ушел бы я из родного дома, если б там не было Штрафелы, этих бабских капризов и мелких дрязг! К тому же теперь мне было тягостно видеть, как Топлечка увивается вокруг меня, она становилась назойливой, и я уже с трудом выносил ее.
Прежде по воскресеньям, когда я возвращался к полудню от поздней мессы, у меня было полно дел по дому и со скотиной, а потом приходилось целую вечность ждать, пока часам к двум – и это было счастье, если к двум! – выйдет кто-нибудь на порог и крикнет: «Обедать!» Теперь же, по возвращении из церкви, заглянув в хлев к скотине, я видел, что все уже сделано и коровы лежат на своих местах; в сенях, когда я проходил, направляясь в горницу, чтобы переодеться, меня не встречала Хана, которая ворчала, что я вечно где-то шляюсь и не управляюсь со скотиной. Теперь, едва раздавались мои шаги, передо мной распахивалась дверь в кухню и на пороге появлялась нарядная Топлечка и спешила обласкать меня:
– Хорошо, что ты пришел, теперь можно и обед на стол подавать. Иди скорей, садись, мы сейчас с Туникой сами управимся! – Она выходила в кухню, к своим чугунам, и появлялась снова, уже держа в руках блюдо.
– Господи, Южек, ты бы заглянул к скотине. Туника там была, я ей говорила, но глянь ты сам, я не успеваю, на ребенка – это говорилось о Тунике! – ведь нельзя положиться.
К счастью, в это время Туники не было в кухне или в горнице и она не могла слышать слова матери. Хана, услыхав такое, мгновенно бы взорвалась, а потом завела свое, не думая вовсе о том, слышит ее кто, нет ли, только нотой выше, чем мать, и словно бы нетерпеливее: «О господи, Южек, золотой Южек, что делать в доме без мужчины?»
На этот раз я не стал переодеваться – было воскресенье, и, как обычно, готовили праздничный обед, – и пиджак не снял: стояла осень и днем было прохладно; подвязал фартук и, хотя перед тем уже побывал в хлеву и убедился, что там все в порядке, отправился туда еще раз. По пути я столкнулся с Туникой, которая с пустыми ушатами возвращалась из свинарника.
– Тебе помочь, Туника?
– Не надо, – коротко ответила она и добавила, словно оправдываясь: – Я сама все отнесла.
Меня не особенно волновало ее настроение. «Дуется!» – рассудил я и, миновав хлев – не заглянув в него, – пошел в тележный сарай. Взявшись за высокие борта телеги, встал на ступицу и припал к большой щели между досками, которыми он был обшит снаружи. В эту щель можно было увидеть на той стороне овражка пожелтевшие деревья, а между ними дом – мой родной дом, – листья опадали и с каждым днем все отчетливее различались новые крыши пристроек. Они смотрели на белый свет, сюда, в мою сторону, на Топлековину, и, глядя на них, я думал обо всем на свете, но в основном мысли мои вертелись вокруг того, что я, Йожеф Хедл, начинал чувствовать себя все более твердо на собственных ногах. О Штрафеле уже в открытую говорили, что он уедет, а Лизика так подурнела, что на нее страшно смотреть. И не только дома, все наше хозяйство, казалось мне, плывет в мои руки – оставалось только перейти на противоположный склон овражка и установить свой порядок. Так бы оно и произошло, если б не эта нетерпеливая ярость вдовы Топлечки. Сейчас еще я мог бы уйти, если б захотел, однако не ушел, и даже если б вместо кроткой Туники была язвительная Хана, и то, скорей всего, не ушел бы. Все, что было у нас с Топлечкой, нравилось мне, хотя случались минуты, когда я остро чувствовал, как вместо страха у меня в душе рождается что-то незнакомое прежде – пресыщенность.
– Южек!..
Это был голос Топлечки, и, хотя звала она нетерпеливо и ласково, голос ее уже не манил меня с такой силой, как прежде. Вздрогнув, я отскочил от стены. Не хотелось, чтобы Зефа заметила или угадала, куда я смотрю, – тогда бы все осложнилось, и мне бы стало еще труднее.
Туника сидела в горнице за столом, а Топлечка вошла следом за мною. Я встал посреди комнаты, а женщина, едва переступив порог, сказала:
– Садись, Южек, садись! Бери стул и садись!
И вот она уже поставила миску с салатом на печь, сама схватила стул и подвинула его к столу; теперь она сидела во главе стола, где прежде было место покойного Топлека. Мне предназначалось место с наружной стороны стола, как куму или родственнику, пришедшему в гости.
Хана наверняка б не упустила случая съязвить: «Почему бы тебе теперь во главу стола не пересесть?»
Мы прочли молитву, каждый про себя, перекрестились и принялись за еду. И пластинка вновь завертелась.
– Господи, за подстилкой надо будет сходить, – произнесла Топлечка, глядя на меня, только на меня. – В лес. Сегодня после обеда б самое время. Кому только идти со мной, одной неохота. Далеко больно одной-то.
«Ну пойдите вдвоем!» – посоветовала бы Хана, и ни один мускул не дрогнул бы у нее на лице, чтоб не дать повода Топлечке или мне прицепиться, а ведь она издевалась над нами.
– А ты бы, Южек, не пошел со мной? А Туника попасет, – и, видя, что я упрямо молчу, продолжала: – Я бы тебе межи показала. Пойдем, пойдем вместе!
Я сидел как на угольях. Иное дело, когда мы с ней пахали и она вела лошадь, а я удерживал плуг, но сейчас идти с ней в лес, через все село, мимо всех окон – такое мне ничуть не улыбалось.
– Да сухо ведь, чего волноваться, – выдавил наконец я. – И ветки вон голые уже. – Я надеялся внушить ей, что нет особой надобности идти в лес.
Однако она не позволила себя переубедить, да и я не сумел настоять на своем, нечем было отговариваться. И мы продолжали обедать – после супа на стол Топлечка подала картофель, мясо и салат и все полоскала язык своим «господом» и «Южеком».
– Господи, Южек, как ты считаешь, Краснуху можно запрячь?
– Отчего ж нет, – ответил я и принялся объяснять Тунике: – Бычки еще молодые, чтоб их в горы таскать. У них раз пять коленки подогнутся, пока до дому дойдут.
– Господи, правду ты говоришь.
«Господи, золотую правду ты говоришь!» – пропела бы Хана, а Туника не произнесла ни слова, только положила ложку. Зато продолжала Топлечка:
– Господи, Южек, о выпивке-то мы совсем позабыли! Ступай-ка, принеси вина! Того, что в углу стоит. Ключ у меня, на вот тебе, остальное сам знаешь где, висит снаружи, на двери. Налей целый кувшин! Господи, как пить хочется! Тебе тоже, Южек? Господи, господи!
«Господь вас благослови!» – сказала бы Хана, вставая из-за стола и выходя, как это сделала Туника без единого слова.
Это и привело к тому, что перестал я на людях показываться, даже домой больше не ходил. На людях, в селе, я избегал Топлечку, а дома было иначе. Я помогал ей вести хозяйство – она ведь нуждалась в моей помощи.
А в те времена, сразу после, войны, трудно было усидеть дома. И если прежде я любил ходить на разные собрания, где и на девчат можно поглядеть, да и о доме своем позабыть, то теперь, со смертью Топлека, носа никуда не показывал; да и времена стояли такие, будто кругом поганых грибов наелись, никогда в точности не угадать, на чем стоишь. Люди всякое толковали: будто скот забирать будут и землю, а «у тех, кто кое-что имеет, кое-что подкопил», все отнимут, а народ ушлют в Сербию. До того, что монастырские виноградники заберут или баронские земли делить станут, людям особого дела не было. Баронские поля и луга и так испокон веку у бедняков в пользовании находились, а что монахи оскудеют и вовсе опасаться не приходилось – в мире достаточно найдется глупых баб! Иное дело, когда речь шла о твоей земле и о тебе. Штрафела после недавнего скандала рот уже не раскрывал, только лукаво посмеивался, когда его угощали, и намекал, что он-то, дескать, знает, как ему поступать, а люди на своей шкуре скоро почувствуют, что и как – это означало, что не будет так, как бы следовало быть. А все это еще потому говорили, чтоб человека не оставлять в покое, чтоб не сидел он у себя дома, а ходил бы на всякие разные собрания; только там можно было разузнать, как обстоят дела. И вот в ту зиму и состоялось то собрание, на котором Штрафела получил свое – получил сполна и навсегда.
Собрание это устроили в корчме, у Плоя, как повелось в Гомиле с давних, еще мирных пор. Топлечка собралась заранее, до ужина, и, когда я вошел в горницу, спросила:
– Ты пойдешь?
А я столбом стоял посреди комнаты, вздыхал и глядел больше в потолок, чем на часы возле печи.
– К Плою, на собрание… – добавила она, видя, что я онемел.
– Не знаю, – наконец выдавил я, хотя уже знал, как поступлю – скорее всего, пойду: не было мне безразлично, что собираются с нами делать, особенно с нашей землей.
– Я пойду, – сообщила Топлечка и сперва поправила чулок, а потом и вовсе подняла ногу на стул, задрала юбку и принялась – ничуть не стесняясь меня, – подвязывать чулок под коленом. И, только услышав шаги Туники, которая входила в дом, опустила юбку и отвернулась.
– Эх, – вздохнула она с досадой, видимо из-за Туники, а потом, вспомнив о земле, добавила: – Ох, господи, что они там еще придумают с землей-то?
Таким образом, Топлечка пошла первой, а я отправился много позже и даже не стал переодеваться. Когда я пришел к корчме, она была битком набита людьми, и все двери были настежь, хотя вечером похолодало. Я не захотел пробираться вперед и остался с мужиками, вернее, с парнями, сперва на веранде, а потом, когда началась кутерьма со Штрафелой, оказался в сенях, откуда, поднявшись на цыпочки, мог видеть все заполненное клубами дыма и людьми – яблоку было негде упасть – помещение. Сперва, насколько я мог понять и насколько передавали люди, добавляя ко всему свои замечания, речь шла о баронских землях, кто их сможет получить и кому они необходимее, а также кто более всего заслуживает. Затем наступил черед монастырских виноградников, и тут-то впервые упомянули имя Штрафелы – это уже добра не сулило.
– Штрафела, эге, Штрафела, – доносилось отовсюду, но пока все оставалось спокойно: и сзади, на веранде, и в сенях, где было посвободнее, ничего не переменилось. И тут какая-то тетка, не могу сказать, кто точно, визгливым и рыдающим, полным обиды и лютого гнева голосом выкрикнула:
– Да ведь Штрафела – строитель!
Словно этой тетке все было безразлично – будь что будет.
Теперь люди уже не только загомонили, теперь – я встал на цыпочки – в корчме зашевелились. Потом вновь все стихло, правда тишину нарушали отдельные выкрики, все больше о Штрафеле, о его строительстве, о его комиссарствовании – люди еще называли его комиссаром. Страха перед ним уже не испытывали.
– Он вам мастерком станет гвозди забивать…
– Где ему забивать… он штукатурить будет…
– Камыш он штукатурить будет, ха-ха-ха, – засмеялся кто-то.
Однако другим было не до смеха.
– А разве не говорили, что землю должны получать те, кто сам ее обрабатывает?
– А он что ж, еще не накомиссарил?
– О господи Иисусе, – раздался женский голос. – Или Хедлов он уже не довел до беды? Нам проповеди о коммунизме произносил, а теперь первым у нас землю проглотить захотел.
Вот как отзывались люди о Штрафеле; нехорошо было то, что-он сразу не ответил, а куда хуже, что после всего продолжал на что-то надеяться. Но Штрафела оставался Штрафелой, и не было ему спасения. Жизнь должна была трахнуть его по башке. Однако и промолчать он не мог: слишком сильно его зацепили.
– Я, товарищи, – начал он по своему обычаю. Мне было видно, как он встал, взъерошенный, со своего места – он сидел перед самым столом, в первом ряду, – и еще раз повторил: – Я, товарищи, если и строитель, то кому до этого дело! А что касается монастырских виноградников, то получу я их или нет, это мое дело, Штрафелы, значит, дело партизанское. Кто боролся на Гомиле? Гомиляне или Штрафела?
Люди поначалу, когда он заговорил, заворчали, но речь его становилась все более и более желчной, каждую свою мысль он высказывал основательно и четко, пена выступала у него на губах, и он словно исходил злобой. Он уже не владел собой, слишком многое услышал. Ничуть, видно, не пошло ему впрок то, что летом лишили его слова, и с такого вот собрания он должен был убраться. На сей раз речь шла уже не о выступлении или авторитете, дело шло о виноградниках – и тут Штрафела ухватился за свое партизанствование.
– Вы, гомиляне, упрекаете меня за виноградники? Вы… вы… вы, – он не мог подобрать подходящее слово, – вы, которые по домам зады грели, когда Штрафела за вас дрался? Вы… вы…
Однако кончить он не успел – кто-то из женщин выкрикнул:
– А ты свой у Хедловок отогревал!
Другой этого показалось явно недостаточно, и, пока Штрафела приходил в себя, она поторопилась добавить:
– Если б только у них!
– Вот я и говорю, пусть убирается, откуда пришел. Жили мы, гомиляне, без него, без него и проживем. Не знаю, куда эти Хедловки глядели?
Штрафела оборвал свои «вы, вы, вы» и попытался было пару раз попробовать «я, товарищи», но его со всех сторон так одолевали, что он сбивался с воплей «вы, вы, вы» на «я, товарищи». Напряжение, сковавшее было всех в корчме, теперь прошло, стало веселее и оживленнее, и люди – от стола, перед которым вертелся Штрафела, до самой веранды, – не таясь, в голос хохотали. А тут от двери, что ближе к печи, раздался голос Муркеца:
Возьму я ее за пупочек,
положу я ее на лужочек
и скажу: доброе утро, господи, дай!
Он запел, в корчме на миг воцарилась тишина, Муркец перевел дыхание и залился еще пуще:
Во-о-озьму я ее за пупочек,
положу я ее на лужочек…
Окончить песню ему не удалось. Этому поспособствовал безземельный Пихлар, который громко, отчетливо произнося каждое слово, сказал, вовсе не обращая внимания на Муркеца:
– Ты, товарищ Штрафела, что касается виноградника, умойся! Довольно мы тебя боялись…
Очевидно было, что такого Штрафела уже не вынесет, особенно насмешек из-за виноградника, но пуще прочего его беспокоило, что Гомила теперь его не боялась и бояться впредь не собирается. И не столько эти бабские наскоки сразили его, сколько слова Пихлара. Я видел, что он, красный, как индюк, даже подпрыгнул на месте, точно его ударило током, поднял кулак, будто хотел пригрозить Пихлару, и, казалось, уже нашел нужное слово.
– Вы, трусы, – закричал он, – вы не будете меня больше бояться? И это болтаешь ты, ты, Пихлар, ты гитлеровский прихвостень? Ну погоди у меня! Вы все у меня скоро увидите…
Он задохнулся, потом что-то опять закричал срывающимся голосом. И то, что мир должен был увидеть, он увидел – в руке у Штрафелы блеснул пистолет, и раздалось два выстрела, пули вонзились в потолок.
В корчме наступила тьма, женщины жутко заголосили, а меня – я стоял возле самой двери и собрался было протолкнуться внутрь – толпа отмела, отбросила так, что я сперва запутался в бесконечных женских юбках, а потом осел где-то в углу – все рвались наружу с воплями и визгом.
Когда первый испуг миновал и я все-таки проник в корчму, то увидел, что мужики кого-то от души волтузят. У двоих или троих в руках были фонарики, корчмарь с бранью чиркал спичками и никак не мог зажечь керосиновую лампу, у него тряслись руки, и от этого он ругался еще пуще. А лежавший на полу человек, растерзанный, волосатый, с кровавой пеной на губах, был Штрафелой. Он лягался, и, если попадал в кого-нибудь, тут же получал ответный удар – державшие его люди не оставались в долгу. Не знаю почему, я вдруг испугался, как бы кто не выхватил нож, однако ничего похожего не случилось, только сын Плоя Палек размахивал пистолетом и яростно – ему тоже досталось – выкрикивал:
– Погоди, Штрафела, это тебе дорого обойдется! Так, Штрафела, мы не договаривались! Так партизаны не поступают!
Я отвернулся – какое мне до всего этого дело, да и с судами неохота было вязаться! – готовый скрыться прежде, чем Плой своими неловкими трясущимися пальцами зажжет лампу и меня заметят. Я уже выскочил на веранду, когда появилась Лизика – из дома, наверное, прибежала; она замахала руками у меня перед глазами и закричала:
– Господи, Южек, где ты? Помоги, убьют мне его! Южек, помоги! Господом богом молю!
Я остановился – и если быть откровенным, то должен сказать, страх сестры за Штрафелу передался и мне, по крайней мере в первый момент, мне ее стало жаль. Но придумать я ничего не мог. Поэтому я столбом стоял перед ней, а она вопила и тянула за рукава, ломала пальцы, пытаясь затащить меня в корчму, а там Штрафеле не давали подняться с полу, пинали его ногами. Лизика закрывала глаза ладонями, она вообще боялась смотреть на драку и опасалась увидеть самое худшее, то, что могло произойти со Штрафелой. Мимо проходили люди, они возвращались обратно со двора и, не стесняясь, говорили все, что думали о Штрафеле и о Хедловках.
– Брось ты их, Южек!
– Пусть его удушат, аспида гнусного!
– Проклятые Хедловки, чего слюни распустили?
Так полагали и так рассуждали все женщины. Так думал и я. Сунув руки в карманы штанов, я словно не слышал воплей сестры, все острее ощущая, что сестра чужая мне – ее крики, она сама, а вместе с нею Штрафела – и люди правы в своих рассуждениях. И вышло так, что я стряхнул ее руку, когда она опять схватила меня за локоть, – оттолкнул от себя, не желая, впрочем, этого, и в свою очередь завопил:
– Да отпусти ты меня, мне что за дело! Прикончат его, и все тут!
Я собирался захохотать ей в лицо, однако у меня не хватило храбрости. Сестра мгновенно перестала рыдать, отскочила от меня и согнула пальцы, точно выпуская когти; я было испугался, что она бросится на меня и раздерет лицо, но она замерла, не убирая когтей от моих глаз.
– Скотина! – взвизгнула она, стремглав кинулась в корчму, а со двора уже доносились насмешливые возгласы.
Меня точно вымело с веранды. И хотя было темно, люди во дворе расступались передо мной. И вслед мне неслись слова одобрения. За овражком, когда я уже перешел дорогу, рядом со мной вдруг оказалась Топлечка.
– Ушел я, дерутся там… – пробормотал я, проходя мимо нее.
Однако она тоже повернула обратно и молча пошла за мной. Когда мы вышли в поле, она спросила:
– Чего она хотела от тебя, Лиза-то?
Мы далеко отошли, прежде чем я ответил:
– Чего? Чтоб я ей Штрафелу от беды спасал…
И засмеялся, словно сам себе не верил, что это возможно. Топлечка обрадовалась:
– Значит, он раз и навсегда исчезнет?
Но я промолчал. Она спрашивала то одно, то другое, пока не остановила перед самым домом, запыхавшись – она почти бежала за мной – и всхлипывая:
– Южек, подожди! А ты, что ты думаешь? Ты не уйдешь? Если Штрафелы не будет…
Я таращил на нее глаза, не понимая, чего она хочет.
– Домой, я имею в виду – на ваше хозяйство, я имею в виду, если Штрафела уйдет!
– Эх! – Я махнул рукой, точно мне не было больше дела ни до Штрафелы, ни до нашего хозяйства, однако на сердце у меня было тяжело – оттого, что я на глазах у всех отрекся от Лизики. Но помочь себе я ничем не мог, и какого черта она уцепилась за своего Штрафелу!
Топлечка подошла ко мне вплотную – то ли собираясь поправить волосы, выбившиеся у меня из-под шляпы, то ли погладить, – но лишь тихо спросила:
– Кто тогда, Южек, будет хозяйничать на Топлековине?
Я посмотрел на нее, а она крепко обняла меня за шею. Совсем близко я увидел ее блестящие глаза, услышал голос, в котором одновременно звучали вопрос и утверждение:
– Ты? Ты!
Сквозь зубы у меня вырвалось нечто похожее на согласие – ужасно неумной, ужасно вздорной показалась мне эта женщина! А потом я следом за ней вошел в горницу; последнее время я почти не заходил к себе в каморку, разве только вечером или утром, разобрать или застелить постель, чтоб не заметила чего Туника.
И хотя мое «эх», сказанное Топлечке, было достаточно красноречивым, так она одолела меня, на самом же деле я все чаще и чаще воочию видел себя хозяином на своей земле, на земле Хедлов. Самыми большими препятствиями на этом пути были мои двадцать лет и нежелание матери выпустить землю из своих рук. И опять-таки я менее всего думал о Топлечке, и, коль скоро речь шла о нашей земле, в Топлечке я не видел препятствия.








