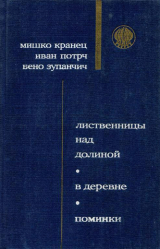
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Наблюдая за ней, я скорее чувствовал, чем видел, что испытывает эта женщина сейчас, стоя возле покойного мужа, с которым она жила и которому рожала детей и который умер вот так – у нее на глазах. Меня пугало, когда она в эти дни заходила в хлев – а приходила она чуть ли не больше, чем у меня на руках пальцев, – и вертелась вокруг меня, словно желая что-то сказать, а потом уходила, так и не произнеся ни слова. И еще потом, когда они бросились с сестрой друг другу на грудь, я испугался, что она не удержится и все разболтает, но теперь-то я начинал понимать, что эти ее постоянно мокрые глаза, вопли и всхлипы необходимы ей, именно так должны себя вести женщины на похоронах. Откуда-то, не знаю откуда, мне пришла в голову мысль, что вдовы ведут себя так, как нужно окружающим и как велит обычай, а все остальное, что́ бы где ни происходило, остается навсегда скрытым от чужих глаз, так же как Топлечка скрывает сейчас свои истинные чувства за личиной горя и скорби. И хотя в последние перед теми событиями ночи мне очень хотелось, чтоб она приходила ко мне, и даже после всего происшедшего это желание не исчезло и не ослабело, я чувствовал, вернее, понимал рассудком, что до добра это не доведет и что наступит конец тому, что столь дико началось. Такие мысли мелькали у меня в голове, и я понимал, что, вероятнее всего, не смогу с ней порвать, хотя и чувствовал, что как женщина она все менее меня привлекает, – а как я стану без нее жить, тоже не укладывалось у меня в голове.
Такие раздумья одолевали меня, когда я вспомнил, что надо принести вина для гостей, потому как Цафовка, похоже, скоро кончит свои молитвы. Я пробрался из горницы в кухню, взял приготовленный кувшин, спустился в погреб и открыл кран. Из наклоненной бочки полегоньку натекало вино, я приложил ухо к бочке, стараясь по звуку определить, когда кувшин наполнится, и почувствовал, что мне приятна подземная прохлада, она отрезвляла меня и очищала мои мысли. И вдруг я ужаснулся самому себе и сперва мысленно, а потом и вслух произнес:
– Южек, Южек, добром это не кончится!
При звуках собственного голоса я вздрогнул и оглянулся. Я был один, и никто меня не слышал, дверь в погреб была закрыта, кругом стояли бочки, и по стенам плясали их громадные закругленные тени. Мне захотелось закричать во весь голос, завыть, но не успел я прийти в себя, как падающая винная струя запела громче, кувшин наполнился. Я закрыл кран, поднял кувшин и, поскольку он был чересчур полон, сделал несколько глотков. Вино успокоило меня, и я опять припал к кувшину, одновременно прислушиваясь, нет ли кого на лестнице; и вдруг мне почудился такой же, как минувшей ночью, шум, будто дверь беззвучно отворяется и, стоит мне оглянуться, я увижу фигуру в белом. Я опять подставил кувшин под кран и медленно, холодея от страха, оглянулся – никого не было, дверь оставалась закрытой, только тени плясали по стенам, потревоженные беспокойным огоньком лампы.
– Дьявол, так ты меня еще преследовать будешь? – выругался я, уселся между бочками на решетку, завернул кран и опять приложился к кувшину.
Меня отрезвил шум, раздавшийся наверху. Молитвы кончились, и люди собирались уходить, а Топлечка откуда-то крикнула:
– Южек, куда ж ты делся с вином?
– Ха-ха! – Я засмеялся над самим собой, вскочил на ноги, схватил лампу и кувшин и кинулся вверх по лестнице. В сенях я столкнулся с людьми, выходившими из горницы, и постарался придать себе самый будничный и беспечный вид – на лице у меня не осталось никаких следов только что пережитого страха.
– Подождите, люди, вот вино! – выкрикнул я несколько раз, приглашая гостей промочить горло.
Некоторые уходили, не обращая на меня внимания, другие, большей частью мужчины, задерживались и осушали стакан-другой. Я вторично побежал наполнить кувшин, затем в третий раз, как вдруг чей-то голос, напомнивший мне голос матери, окликнул меня из темных сеней. Меня кольнуло в самое сердце, и скорее, пожалуй, от страха, чем из любопытства, я спросил:
– Кто там? Господи помилуй!
– Покойник ожил! – загоготал кто-то из гостей, не помню уж кто, а у меня по спине побежали мурашки, когда я переступил порог.
Я увидел мать в черном шерстяном платке. Она спустилась по ступенькам во двор и пошла между деревьями, так что мне пришлось последовать за ней. Возле забора, когда мы достаточно отошли от дома и никто не мог нас услышать, мать остановилась.
– Домой не думаешь возвращаться?
Я пробормотал что-то невразумительное, ведь мать все-таки оставалась матерью, а у меня со вчерашнего дня голова шла кругом; но в тот же миг вспомнил, как она поступила со мной, когда я уходил из дому; вспомнил, почему я ушел и как мать оставалась глухой к моим расспросам о земле, вспомнил, что она не захотела переписать ее на меня и обо всем остальном, и пробурчал:
– Домой? Сейчас мне самое время идти домой! Только зачем?
– Южек! – укоризненно возразила она, а я гнул свое:
– Разве нет у вас под боком Лизики и Штрафелы?
Я знал, что Штрафеле со всеми его подвигами день ото дня приходится туже, и поэтому не боялся говорить именно в таком тоне.
– Смотри же! – ответила мать, словно предостерегая, к моему удивлению ничуть не рассердившись, и вздохнула.
– Смотрю, смотрю! – повторил я.
– Да, смотри! – сказала мать. – Ты и понятия не имеешь, каковы женщины. – Она на миг умолкла и продолжала: – Старик помер, в доме никого. Южек, я не буду тебя уговаривать, скажу последний раз: возвращайся домой! Послушай меня, в один прекрасный день станет поздно!
Я хотел возразить, хотел ответить, чтоб она не поминала о делах, которые ее не касаются, однако сказанное ею о женщинах меня огорошило. И хотя было темно, я испугался, как бы по выражению моего лица она не догадалась. Я молчал, а она продолжала:
– Я тебе свое сказала. Спокойной ночи! – и ушла.
Я стоял столбом, глядя, как она идет по полю, мне хотелось позвать ее, крикнуть ей вслед, кинуться за ней, все внутри у меня задрожало; дрожь эта началась сама собою, внезапно, грозя прорваться наружу судорожным рыданием, если б я заранее не знал, что услышу от матери резкий, суровый, бесчувственный ответ, – а черная фигурка меж тем словно призрак, справедливый и холодный, исчезла в ивняке за оврагом. Беспомощно я стоял на месте как вкопанный, не имея сил пошевельнуться; у меня за спиной разговаривали люди, прощались друг с другом и расходились, слышался высокий напевный голос Топлечки, и я почувствовал, что дрожу. Вздохнул и, поскольку мне не оставалось ничего иного, повернулся и пошел в дом. И тут стоящая у двери темная человеческая фигура, это была Топлечка, окликнула меня – негромко, точно не была уверена, услышу ли я:
– Южек!
Я замер и притаился за деревом.
Она еще раз позвала меня, постояла на пороге, потом прикрыла дверь, но не наложила щеколду. Прислонившись к стволу, я смотрел на окна, где за красными занавесками трепетали огоньки свечей. Подумал было пойти в хлев, но стоял октябрь, было холодно, поэтому, выждав, пока вокруг все утихнет – возле гроба оставалась только старая Цафовка, она скрючилась за печью с четками в руках и, наверное, даже во сне молилась, – я открыл дверь, потихоньку, как можно тише, и через сени пробрался к себе. Я лежал на кровати и думал о том, как чуть было не уступил уговорам матери, и готов был разрыдаться, совсем как Топлечка сегодня утром – ужас охватывал меня, а помощи ждать неоткуда, – однако стало легче, когда я подумал, что все-таки сумел устоять, выходит, я мужчина, не баба.
События, которые ночью казались безысходными, ранним утром, когда я проснулся и, потянувшись, поднялся, предстали в несколько ином свете. Я вспомнил о том, что происходит в доме – другими словами, вспомнил о мертвом Топлеке, – и вдруг сказал самому себе: «Какое мне дело до всех них! Я к ним не привязан». И, словно начисто позабыв о том, как вчера расстался с матерью, уже думал только о возвращении домой. Это осознание того, что я могу уйти и мне вовсе необязательно оставаться здесь, стало для меня целебным бальзамом, который вселил в меня надежду – так утопающий хватается за соломинку, «Вот только сегодня побуду, пока не похороним его, а господь даст мне силу пережить этот день», – убеждал я себя и словно физически чувствовал, как у меня с души сваливается камень.
Пасти стадо должна была Туника, но я в то утро споро покончил со своими делами в хлеву и выпустил скот, не сказав ничего ни Тунике, ни Зефе. Через поле я погнал коров дальше к лесочку, что начинался поодаль от дома, да и от дороги лежал сравнительно не близко. Топлечки, все три, ушли к ранней, поминальной мессе; дома осталась Цафовка и несколько закутанных в черное старух, которые пришли помогать обряжать покойника: они шли одна за другой, кто из долины, кто с окрестных гор, как будто Цафовка нарочно посылала за ними, и были похожи на ведьм, кружившихся при свете свечей вокруг мертвого. Одна из ник, Югла, безземельная старуха из Дестелы, так меня напугала, что я не сразу пришел в себя. Дело было так. Я пас скотину, отгоняя воспоминания той ночи – о разевающей рот фигуре в дверях, о Топлечках и о Топлековине, – и старался переключиться на своих, на свой дом, повторял слова матери: «Ты и понятия не имеешь 6 том, каковы женщины». Они врезались мне в память и сами собой лезли на язык. Мать думала, будто я ничего не знаю, а у меня перед глазами стояла Топлечка: Топлечка, какой она была в хлеву, на сеновале, в моей комнате, ее нижняя юбка неотступно стояла перед моим мысленным взором – о, я имел понятие о женщинах!
Эх, понятие-то я имел, как говорится, да только невелико оно было! «Откуда тебе знать, каковы женщины? Конечно, что ты знаешь?» – твердил я и не сводил глаз о крыши родного дома, как вдруг услышал за спиной шаги. Втянув голову в плечи, точно меня хлестнули кнутом, я оглянулся. И увидел старую Юглу, которая остановилась передохнуть. Она совсем не изменилась с тех пор, как лет десять или пятнадцать назад я впервые увидел ее в приходской церкви, куда мы с матерью ходили к ранней мессе, разве только скрючилась больше и усохла. Я почувствовал, что бледнею. Много лет я не видал ее, и сейчас она как будто явилась с того света. Кто знает, почему именно это пришло мне в голову. Я отступил в сторону, освобождая ей путь, хотя на пастбище не было никакой дороги, а Югла, отдышавшись, посмотрела на меня.
– Трудно идти-то, – произнесла она, – я мимо прудов шла, – будто я ее об этом спрашивал. Она сложила руки, раздался легкий треск – в одной руке у нее были четки, в другой – большой молитвенник со вложенной веточкой чабреца, – и спросила:
– О господи, разве я еще не пришла на Топлековину?
– Пришли, – ответил я.
Югла оглядела скотину.
– Значит, это Топлека скот. Смотри-ка ты. – Она удивленно замотала головой и, словно отгоняя какую-то тревогу, что лежала на душе, спросила: – А ты, ты сам-то не Топлеков будешь?
– Нет, – коротко ответил я.
– Да ниспошлет господь мир душе Топлека, теперь он предстал перед вечным судией. Ну да, у Топлека не было сыновей. Две дочки, да? Две девочки?
– Да.
– Я это знала, думается мне, знала. Детей-то я почти ужи не помню, да и молодого, покойника, значит, тоже едва припоминаю. Отца я его знавала – в колыбельке качала. Мать моя повитухой была, и так случилось, что мне его тоже понянчить довелось. Вот видишь, вот видишь, а теперь он умер, так рано, молодой, ушел на тот свет. А нелегко умирал, наверное, убогий – жену и детей, дочек, оставлял, а они-то все еще молодые, не легко это, да. Над домом этим судьба злая, бабка еще мне говорила, будто отец покойного не просто сей мир покинул – сам себя убил. Что было, не знаю верно, не помню, бабка мне сказывала… Что поделаешь, все мы люди, жалкие и убогие в сей юдоли печали, нету нам ниоткуда помощи, такова воля господа – рок, значит, над этим домом, а где рок вмешается, так просто не бывает. Говорят, такой дом лучше стороной огибать, а я все одно пришла, мне, старой, никакая беда не страшна, я уж наполовину на том свете живу.
Мне показалось, будто она засмеялась, и я невольно поднял на нее глаза. Тонкие, вытянутые в нитку губы, как сухие фиги, шевелились, хотя никаких звуков не было слышно, и глаза моргали шустро – словно вместе с языком только они и оставались живыми у этой старухи – и наблюдали за мной. Я не мог бы сказать, что она смеялась.
– Так, выходит, сам ты не Топлеков, выходит, родня им какая…
– Нет, я им никто.
– Значит, батрак? – скорее утвердительно, чем вопросительно сказала она. – А чей ты?
– Соседский, Хедлов, – пробурчал я, обидевшись, что она назвала меня батраком, к этому я еще не привык, и добавил: – Я им по дому помогаю. Не батрак я.
– Да, нынче-то тяжело с батраками. Надо помогать друг другу, как можется и умеется.
Буркнув что-то, я отвернулся и закричал на коров, которые норовили вернуться домой, а мне туда не хотелось, здесь я чувствовал себя свободно. Я двинулся по склону, поворачивая скотину, следом тащилась старая Югла. И язык у нее работал без устали.
– Ох, тяжкая беда у них случилась. Старшей-то нелегко будет мужа найти, а и с дочками пока ничего не выйдет, молоды обе. Я вот и говорю, сказала уж, такой это дом, все беды на него сваливаются. Горемыка Топлек!..
Она балабонила, а я кинулся вдогонку за ушедшей в поле коровой. Повернул ее и остановился. По-прежнему долетал до меня голос Юглы, но слов я уже не различал. Я вздрогнул и вспомнил – бог ведает отчего – ведьм, которых в давние времена сжигали на Грмаде. «Эта бы сгорела без всяких дров», – рассудил я. И такая неприязнь к ней меня одолела, а почему – и сейчас сказать не сумею.
Солнце стояло высоко, а я все пас коров и не думал идти домой, как вдруг заметил своих сестер, Марицу и Ольгу, которые шли от Топлекова дома, – видно, возвращаясь от мессы, завернули по пути окропить покойника святой водой. Они прошли мимо, совсем близко, говорили они громко, и я все слышал.
– Теперь и наш дурень сможет себе какую-нибудь подобрать, – сказала Марица.
– Южек-то? – рассеянно спросила Ольга.
– Кто ж еще? Разве у нас еще есть кто?
Они переглянулись и прыснули в свои платки. Меня точно и не заметили.
– Ты думаешь из молодых кого? – продолжала Ольга.
– А зачем ему эти телочки? Старую пусть охмуряет. Я бы так поступила, будь я на его месте. Старая – бабенка что надо, вот уж точно стоялая кобыла.
– Что до меня, так пусть лезет на какую хочет, хоть на трех сразу, только б у нас землю не увели.
Они опять расхохотались – их счастье, что они уже порядком отошли. Впрочем, я и сам не знал, что меня удержало на них броситься. Я заставил себя сдержаться и услышал, как Ольга, на сей раз со злобой, сказала:
– Проклятая баба, видела, как она вырядилась! Хоть бы дождалась, пока старик остынет. Шею свою всем напоказ выставила, будто она и есть у нее одной.
Наверняка, они встретились с Топлечкой в церкви, и у меня перед глазами предстала картина: храм, утренняя месса, Топлечка, а мои сестры наперебой вытягивают шеи – черт его знает, отчего они ненавидели Топлечку? Чем она им не угодила?
Я пригнал скотину и, уже привязывая ее в хлеву, почувствовал, что в доме все накалилось. Женщины были не в себе, Топлечка ни с одной из дочерей слова не сказала, а Хана, которая оставалась еще на позднюю мессу и пришла около полудня, кричала, забыв о приличиях – как-никак в доме лежал покойник.
Люди, из тех, кому не приходилось делать большой крюк, заходили по пути из церкви окропить мертвеца; а после полудня в доме остались только Цафовка и несколько старух ведьм, которые верещали писклявыми голосами – проходя мимо распахнутой двери в горницу, казалось, будто идешь мимо часовни. Не только дверь, но и окна по фасаду были настежь открыты, отчего по всему дому сквозняк разносил запах воска, елок, осенних цветов и барвинка, и ведьмы, спасаясь от сквозняков, жались к печи, пустыми глазами глядя перед собой, точно их ничто посюстороннее не касалось, и без устали бормотали молитвы и перебирали зернышки четок.
– Южек, обедать! – крикнула Топлечка.
Я вышел из хлева и нашел всех троих в кухне, каждая молча ела.
Я принес себе стул из клети и остановился посреди кухни. Стол, точнее говоря, лавка стояла вдоль стены, а они сидели, каждая отдельно, с трех ее сторон, и я не знал, между кем мне устроиться. Наконец решил присесть между Ханой и Топлечкой и стоял ждал, пока они раздвинутся.
– Хана!
– Чего тебе? – огрызнулась та и злобно посмотрела на сестру.
– Подвинься. Надо и другим сесть.
Теперь Хана оглянулась и, привстав вместе со стулом, передвинулась ближе к Тунике, освободив место между собой и матерью.
– Ох господи, ну что за девки! – всхлипнула Топлечка и вытерла глаза фартуком, из чего я заключил, что она плачет, – взглянуть на нее у меня не хватало решимости.
В безмолвии мы съели суп. Затем Топлечка встала – готовила она – и подала на стол две миски: картошку с крошеной говядиной и салат. И тут Хана громко, с каким-то даже вызовом в голосе спросила:
– Дядя Рудл еще не приходил?
Она знала, что дяди не было, однако спросила. Взглядом обвела всех сидевших за столом и, остановив взор на матери, словно именно та должна была ей ответить, все так же нетерпеливо сказала:
– Он говорил, что к обеду придет, как месса кончится.
Все молчали и только Топлечка откликнулась на слова дочери.
– Что ты на меня глаза выпучила? – вздохнула она. – Хоть сегодня отстаньте от меня – дайте похоронить.
Она подняла фартук, но, прежде чем поднести его к глазам, встала, вышла из кухни и горько, безутешно зарыдала.
– Оставь мать в покое! – сказала сестре Туника.
– В покое… Ты помалкивай! – возразила Хана.
Тогда поднялась и младшая, Туника. Мы остались с Ханой вдвоем, она продолжала есть. Я не поднимал глаз от стола, чтоб не смотреть на Хану, и испытывал острейшее чувство отвращения ко всему, что она делала; как накладывала еду на тарелку, как подносила ложку ко рту, точно молодуха, которой в доме ни до чего нет дела, как помогала себе при этом пальцами. «Слава богу, – думал я, – последний раз с вами обедаю, последний раз вас вижу». И мне стало легче при мысли, что я могу уйти от них – и уйду.
Ясное дело, между ними произошло что-то до моего прихода: между ними, это между Топлечкой, Ханой и Рудлом. Откуда мне было знать, что гром грянет и молнии сверкнут в тот же день – в день похорон, едва покойника опустят в землю.
Похороны назначили на четыре, но поскольку до Рогозницы было часа полтора ходу, а дороги были разбиты, то пришлось выносить покойника из дому уже в два – иными словами, начались похороны сразу же после злосчастного обеда, и едва я успел покончить с едой, как стали подходить соседи и родственники – проститься с хозяином на его земле, проститься с последним Топлеком.
Должен сказать, мне повезло, что на похороны пришел плотник Шеруг, который заколотил гроб, так что я не понадобился. Однако уклониться от того, чтобы его нести, мне не удалось. Меняясь, гроб несли четверо, и, когда проходили монастырскую рощу, Рудл оглянулся, разыскал меня и взглядом указал на гроб – деваться некуда, пришлось и мне подставить плечо. Левой рукой я нес шляпу, далеко вытянув ее в сторону, а правой держал ручку носилок, подпрыгивавших на плечах, порой мне казалось, будто эта тряска проникала до самых моих костей, поскольку дорога была ухабистая. И по сей день, три года спустя, чувствую я эти носилки, их удары по плечам, слышу молитвы у гроба и бормотанье женщин, шедших следом; в памяти у меня осталась каждая выбоина, каждый камень, на который мне пришлось наступить или обойти; в памяти осталась длинная вереница провожавших, хотя я не смел оглядываться; в памяти остались Топлечка и ее дочери, Хана и Туника, которые шли сразу за гробом, их слезы, долговязая фигура Рудла, шагавшего рядом с Топлечкой и державшего голову прямо и неподвижно, его стеклянный, холодный взгляд неумолимого судьи; и где-то сзади я видел мать и других соседей… Все это по сей день осталось у меня в памяти. До кладбища мне трижды или четырежды пришлось нести гроб, но всякий раз мне казалось, будто я несу его целую вечность и удерживаю тяжелейший груз, а ведь всего два дня назад, в ту ночь, мы вдвоем без труда отнесли Топлека в кровать. Сейчас я не мог бы уже сказать, как мы пришли на кладбище. Только я успел отдышаться, как послышался плач: сперва совсем детский – это Туника, затем громкие всхлипывания Топлечки и Ханы. Голоса у них были почти одинаковые, как у двух сестер, как у двух пожилых теток, которые шмыгают носами, потому что им полагается плакать, – во всяком случае, так мне подумалось про Топлечку. Рудл провел платком по глазам и быстро спрятал его в карман. А я вспомнил о своих размышлениях, когда накануне стоял у гроба, – страшная мысль гвоздем сидела в мозгу: какая огромная разница между тем, как люди живут на самом деле и как они представляют себя другим. Опьяненный запахом свежеразрытой земли и сладковатым ароматом кипарисов, я вдруг ощутил слабость во всем теле, у меня закружилась голова; а может, причиной тому послужил сидр, которого я как следует хлебнул перед уходом из дома, может, слишком устал от носилок, сказать не сумею.
– Что было – было, – неожиданно произнес Рудл, обращаясь к Топлечке, – он свое прожил. Всем нам уготован свой черед.
Это было высказано как бы в утешение, как несомненная истина, которую никому не дано опровергнуть. Однако в ответ Топлечка зарыдала еще горше.
Я старался избегать ее взгляда или взглядов ее дочерей, точно так же как взгляда Рудла и священника – молодого, тщательно выбритого капеллана, откуда-то взявшегося на кладбище; он исполнил все, что от него требовалось, окропил всех подряд святой водой, еще раз прочел молитву и столь же стремительно, как возник, исчез, видно куда-то торопился.
Возвращался я с матерью. Я догнал ее, и почти до дома мы шли рядом. Я поклялся ей, что вернусь, и у меня сразу стало легче на душе. Мать жаловалась на Штрафелу и Лизаню, как теперь называла Лизу. Уже при одной мысли о том, что я уйду от Топлеков, мне легче дышалось – и тем не менее я снова думал о Топлечке, снова вспоминал ее, хотя и гнал подобные мысли. А с матерью я произносил только слова, слова, и в этом участвовал один мой язык. В тот же вечер, в ту же самую ночь все обернулось иначе.
Дома, то есть у Топлеков, меня ожидала работа; уже совсем стемнело, когда, сменив подстилку скотине, я снял с гвоздя фонарь, запер дверь в хлев и, убедившись, что она надежно закрыта, пошел в дом. Все чужие, кроме Цафовки и ее мужа, пришедшего выпить на дармовщинку, разошлись, да и эти толковали уже о том, как они пойдут домой, прощались.
– Ты, отец, без того не можешь, чтоб не набраться, – укоряла Цафа своего благоверного, а я, как всегда, недоумевал, почему она называет его отцом, ведь у безземельных Цафов не было детей.
Прежде, в минувшие времена, да и в войну еще, поминки у нас были долгие, поминавшие напивались и засиживались глубоко за полночь, словно дожидаясь, пока родня между собой не перессорится насмерть. В том, что на поминках начинались споры о жизни и хозяйстве без покойника, не было ничего особенного; для раздоров всегда находилось довольно причин, да и повод для распри был самым подходящим. Смутно помнится мне – тогда я совсем был мальцом, – что так произошло и у нас, когда мы похоронили отца, и мать на многие годы рассорилась с родней. Но теперь, после войны, поминки, эти пиршества после похорон, во всяком случае у нас, в наших краях, упростились – но все прочее осталось: у Топлеков осталась молодая хозяйка, остались дочери, у старшей Ханы могли возникнуть разного рода опасения, и потому она глядела за матерью в оба. О себе могу лишь сказать, что до поминок я ничего не замечал, и в тот вечер у меня словно впервые открылись глаза.
Притулившись возле печи, я дождался пока Цафовы, нагруженные выпивкой и остатками пиршества, ушли. У Цафа из кармана выглядывала бутылка, и от него за версту разило сидром. Сидевшие за столом по очереди пожелали им счастливого пути, и после этого воцарилась тишина – мне казалось, все умолкли из-за меня, точно не зная, что и как сказать. Топлечка сидела по одну сторону стола, Рудл – прямо напротив нее у окна, с ним рядом располагалась его жена, двоюродная сестра Топлечки.
– Пора уж и нам, чего ждать-то? – произнесла жена Рудла. – Поднимайтесь, девочки!
И рукой, сжимавшей платок, сделала жест в сторону сидевшей возле нее дочери, точно намереваясь подтолкнуть ее, в то время как сама смотрела на мужа, и во взгляде этом было нечто похожее на упрек.
– Чего ты еще ждешь, господи боже мой?
– О господи Иисусе, подождите, не уходите, рано еще. Куда вам торопиться? – сказала Топлечка и усадила поднявшуюся было девочку на скамейку. А сама, словно пробудившись ото сна, вдруг ожила и встряхнулась: – Ну-ка, Хана, ступай за вином!
Туника встала – я хорошо видел ее красные от слез глаза и осунувшееся личико – и вышла из-за стола. Хана даже не поднялась с места. Она сидела за столом прочно, видимо готовая уйти только после ухода последнего гостя.
– О господи, господи, – посетовала Топлечка и, обернувшись ко мне – я стоял у печи, – сказала: – Ну-ка, Южек, ты с фонарем, сбегай-ка за вином, вот тебе кувшин!
И если Хана до сих пор как будто на слышала слов матери, то тут она вдруг сорвалась с места, выхватила у нее из рук посуду и, точно подхваченная вихрем, вылетела из горницы.
– Вот такая она у меня, упрямая как баран! – с горечью сказала Топлечка и вздохнула. – Южек, о господи, да ты не поел еще! Садись поешь! – И без всякого перерыва опять запричитала: – Горе мне, сироте бедной, несчастной, с таким дитем!
И она вцепилась себе в волосы, словно намереваясь выдернуть клок, но обошлось тем, что спрятала лицо в ладонях и в отчаянии замотала головой. Дочери Рудла встали и удалились друг за дружкой на кухню. Я подсел к столу и принялся за картошку и мясо, на столе стояли тарелки, лежали ножи и вилки, как в праздник. Опять установилась тишина, в которой можно было осязать, насколько все в доме напряжено, и я услышал, именно услышал, что стенные часы еще стоят, только мой нож скрипел по старой фарфоровой тарелке и слышно было, как прикасалась к ней вилка. Жена Рудла толкнула мужа локтем и искоса глянула на него – Топлечка не могла видеть ее взгляда, она сидела, словно согнувшись пополам, – а Рудл вдруг опустил ладонь на стол, как ударил, и сказал:
– Да, Зефа, девицы у тебя подрастают.
Топлечка вздохнула, согбенные плечи ее дрогнули, и она еще глубже зарыла лицо в ладонях.
Рудл молча осушил стакан. Жена снова на него посмотрела. Почувствовав ее взгляд, он заерзал, поднял руку и опять опустил ее на стол.
– Ничего не поделаешь, – продолжал он, – через несколько лет придет к вам в дом мужчина.
Топлечка задрожала всем телом.
– Ты приглядывай, как дочки себя вести будут!
Топлечка опустила руки, подняла голову и взглянула на него.
– Так вот, Зефа, – говорил он, – так я полагаю. Ты привыкнешь. Франц тоже был молодой, а вот помер.
– Ты что? – Топлечка вспыхнула, и глаза у нее сверкнули. И в ту же секунду все вместе с нею словно грохнуло оземь, точно она только теперь поняла, что он имел в виду ее покойного мужа, – она зарыдала, сотрясаясь всем телом.
– Ну что ты, Зефа! – пыталась унять ее сестра, но ее голос как будто еще сильнее раздражал Топлечку.
– Живой мне в землю ложиться, так? Да не могу я, и в том вся моя беда!
Она встала и кричала уже стоя – прежде мне не доводилось видеть ее в таком гневе: лицо ее раздулось, побагровело, стало каким-то иссиня-багровым.
– И не пойду в могилу, – хрипела она, как пьяная, – запомните, все запомните, всей родней запомните – не пойду, не пойду, не пойду! – И затряслась в рыданиях.
Вернулась Хана с кувшином вина. Поставила его на стол, обвела всех взглядом и спросила:
– Что у вас тут вышло?
– Вышло? – переспросила Топлечка, враждебно глядя на дочь. – Ты помалкивай. Вы что, сговорились, что ли? – Взгляд ее переходил с лица Ханы на Рудла и на сестру. – Как хотите уговаривайтесь, но ты, девчонка, не думай, что я из-за тебя в гроб лягу, не думай!
Я попытался налить себе вина в стакан, но рука у меня дрожала, и вино расплескалось.
– Господи, да что я сделала? – слишком уж невинным тоном осведомилась Хана.
– Ух! – захрипела Топлечка. – Сделала? Ух… – Для нее это было последней каплей, она не могла найти нужных слов и бессильно зарыдала.
– Если я вам на дороге стою, могу и уйти из дому, – сказала, стараясь сохранить спокойствие, Ханика.
– Еще чего! – разинула рот жена Рудла, которая до этого держала язык за зубами.
Топлечка смерила ее взглядом. Я вылил в себя вино, ожидая, когда гроза обрушится на меня. Тут же это и произошло. Словно сквозь пелену видел я Рудла и всех остальных в горнице и слышал его повелительный тон, хотя обращался он ко мне с вопросом:
– А ты как думаешь, Хедл?
Я был слишком растерян, чтобы сразу ему отвечать. Поэтому Рудл мог досыта задавать свои вопросы и одновременно высказывать свое собственное мнение.
– Ты им помогал, да? Тебя покойный брат, господи помилуй его душу, просил, да? А что теперь ты думаешь делать, а? Ваш Штрафела, говорят, уйдет от вас, да? Бабам вашим, дома у вас, потребуется мужик в доме, ведь да? Придется тебе домой возвращаться, да? Да, Хедл?
В иной обстановке, не будь ссоры, и женских слез, и этого Рудла, который откуда-то вдруг появился и теперь все хотел по-своему перевернуть, в иной обстановке, не будь подобных вопросов и повелительного тона Рудла, я бы спокойно ответил, что я уйду, что мы с матерью обо всем уже договорились, и, наконец, я сказал бы, что уйду отсюда и из-за Штрафелы, – короче говоря, поступил бы так, как считал подходящим и сам Рудл, – Топлечка для меня теперь являла дело десятое. Однако после – я ощущал это все отчетливее, – после его расспросов наш разговор не мог состояться. Я крепче утверждался на своем стуле, в душе у меня росло какое-то упрямое чувство: ни за что на свете не двигаться с места, и, уж во всяком случае, сейчас. Я чувствовал на своем лице пристальный взгляд крестьянина, он не сводил с меня глаз, он ждал, что я скажу, кивну, соглашаясь с ним, и тогда осуществится то, что он замышлял; подняв глаза, я в дверях горницы увидел Тунику и позади нее головы дочерей Рудла.
Я протянул руку к кувшину и снова налил себе вина, но не успел осушить стакан и произнести слова, как колесо вновь повернулось – теперь его повернула Топлечка. Она встала – я никогда прежде не видел ее такой, не видел такого разъяренного и безумного ее взгляда, – вытянулась в струну, только живот у нее задрожал, и высказала все, что думала.
– Значит, так теперь? – начала она. – Погоди, дай я вам скажу, что я считаю. Ты думай себе что хочешь, можешь думать, будто я для того на свете и живу, чтоб мной помыкал всякий, как кому охота. Я знаю, вы меня чокнутой считаете, дурой – да я и в самом деле была такой, иначе б не позволила привести себя на эту проклятую гору, – но больше я дурой не буду. Поэтому теперь я буду жить так, как мне хочется, и дома у меня будут жить те, кто мне помогать станет по хозяйству. – Она говорила обо мне, меня облил холодный пот – теперь даже захоти, я не смог бы подняться со стула, слишком большая тяжесть на меня навалилась. – А кому такое не по душе, тому скатертью дорожка. – Она захлебнулась и закончила: – Я у вас не просила совета. – Это относилось к Рудлу и к его жене. – Не бойтесь, я сумею расхлебать то, что сама заварила.








