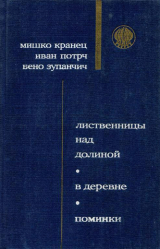
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Я сунул руки в карман, посмотрел на пол, потом уставился в окно и переступил с ноги на ногу. Большие белые глаза смотрели то на Топлечку, то на меня, то снова на Топлечку; я чувствовал, он понял мой взгляд, который остановился на ее кофте и небрежно раскрытой рубахе.
– Вы одни дома? – неуверенно спросил я.
– Одни, – процедила она и вздохнула; шпильки задрожали между плотно сжатыми губами, она вытащила их и добавила: – Девочки куда-то ушли, а куда не знаю. Присаживайся, Южек!
Она опять собрала шпильки в рот, сжала их губами, показывая мне взглядом, куда можно присесть. Рассыпала, распустила по плечам и по спине волосы, а потом, взяв со стола гребень, перебросила расплетенные косы через плечо на грудь, на расстегнутую рубаху и стала их расчесывать: от низкого лба – я впервые так близко видел его – к темени, по плечам, по груди, вниз, к кромке юбки, где густые пряди путались и переплетались, так что ей пришлось подхватить их левой рукой, чтоб было удобней вести гребень.
Закрыв глаза, она наслаждалась своими богатствами, в самом деле напоминая ленивую и сытую кобылу, – эх, она вела себя так, будто меня не было в комнате, будто рядом находился кто-нибудь из домашних, кто-нибудь из ее детей.
Я просунулся к скамье возле печи, она стояла ближе к двери, посмотрел в пол, потом в окно прямо перед собой, на кусты, которые лезли в окно, на зеленоватые ягоды изабеллы – смотрел куда-нибудь, на что попало, только б не видеть ее и ее встревоженного чахоточного мужа. А в голове опять возникла мысль: «Неужто она спит с ним? Как она может спать с этим «мешком костей»?»
Я хотел что-то сказать, вспомнить, зачем я пришел, но все начисто вылетело из головы. Молотить кончили, вертелось в мозгу, скоро придется отаву косить, а мелкие ягоды изабеллы нальются соком и посинеют.
Больной несколько раз судорожно вздохнул, а Топлечка сказала:
– Чего ты к столу не присядешь, Южек! На окне вон вино. Налей себе!
Вяло, не вынимая рук из карманов, я прошел по комнате, втиснулся между столом и скамейкой и уселся, повернувшись почти спиной к ним обоим и глядя в окно сквозь кустистую герань. Налил стакан вина, не торопясь, чтоб потом не сказали, будто пришел к соседям выпивать, словно дома своего вина нету.
Воцарилось молчание; размеренное тиканье ходиков и шорох расчесываемых волос делали его еще более напряженным.
– Зефа! – зашевелился больной.
– Что? – ответила она, продолжая расчесывать свои длинные волосы.
Я смотрел в окно и, даже не видя их, по голосу понял, что она не поглядела на мужа.
Да, обстановка была напряженной!
Больной снова выдохнул:
– Зефа!
Теперь уже слышен упрек!
– Что?
Женщина начинала нервничать.
– Какая ж ты, Зефа!
Она шевельнулась, скрипнул стул, но причесываться не перестала, будто ничего не произошло.
Я осушил стакан вина, отдававшего свежим виноградом. Да, скоро осень. Скоро будем собирать виноград.
На постели опять прерывисто задышал больной. Потом утих, и послышался его сиплый высокий голос:
– Баба! На себя погляди!
У меня за спиной опять скрипнул стул. Не выдержав, я оглянулся и увидел, как Топлечка, забросив за спину толстую, наполовину заплетенную косу, одной рукой подхватила шпильки и гребни, лежавшие на столе, другой – запахнула кофту или рубашку и бросилась вон.
Белые глаза неотступно следовали за ней, словно не имея сил оторваться от нее, от ее бедер.
И неожиданно из каморки послышался плач – приглушенные и горькие всхлипы.
– О господи! Вот баба! – вздохнул больной, посмотрев на меня, и очевидно успокоенный, устремил взгляд на потолочные балки.
Я поднялся, собираясь идти, но вдруг, вспомнив, что пришел договориться о пахоте, остановился посреди комнаты, спиной к постели и громко сказал:
– Я хотел поговорить, как пахать будем.
Подождал ответа, но его не последовало. Только в каморке всхлипнули громче, а потом все стихло.
– Где гречиху сеять? А где репу? – продолжал я.
– Зефа! – позвал Топлек.
Она вышла, встала у двери и не спеша, точно ничего не произошло и она советовалась с мужем, рассудила:
– Гречиху на верхнем участке посеем. Там мороз не страшен. А репу в овражке. Репа не померзнет. – Она помолчала и, поскольку хозяин тоже ничего не сказал, значит соглашался, обратилась ко мне: – Ты бы утром пришел, Южек. Да, ты приходи… Налей себе еще! Что б мы без тебя делали?!
Кивнув, я оглянулся. Она стояла возле двери в каморку, рядом с печью, прикрыв платком глаза, застегнув кофту и словно втиснув грудь под фартук, вся какая-то скрученная; куда делась полная, сверкавшая белизной короткая шея! Топлечка выглядела так, будто кто-то возложил на нее бремя непосильных дел и теперь ее беспокоило только, сможет ли она сама поднять это бремя, или ей понадобится помощь.
Мне не хотелось больше пить – не принимала душа. И я ушел. Ленивая кобыла – как бы не так! Усталая, заморенная кляча! И как только такое могло мне в голову прийти?
Однако из головы у меня, прочно застряв в памяти, не выходили ее белые локти, грудь, вздымавшаяся под рубахой, ее охваченное пламенем лицо, тяжелые пышные волосы – словом, вся она та, какая сидела за столом. И одновременно я вспоминал о белых глазах, что смотрели на меня долгим, укоризненным и бессильным взором.
Однажды после того, как закончили молотьбу, но еще не начинали косить отаву, я поднялся спозаранку и увидел их, всех трех, во дворе возле нагруженной телеги – Топлечку и двух ее дочерей. Телега, доверху груженная навозом, застряла, бычки не могли ее выдернуть и задние колеса все глубже утопали в жидкой грязи. Туника хлестала бычков, а Хана и Зефа, стоя по обе стороны телеги и ухватившись за передние перекладины, тянули ее вперед, помогая или по крайней мере пытаясь помочь животным, однако достаточно было малейшего толчка, и задние колеса опять по самую ось уходили в грязь.
– Господи! – Олицетворенное воплощение несчастья, Зефа отчаянно запричитала, увидев меня, и посмотрела на телегу.
– Говорила я – надо коров запрягать! – твердила Туника. – Говорила же!
– Иди ты со своими коровами! Чтоб потом у них выкидыш был? Еще этой беды не хватало! – возражала ей Хана. – Давай сбросим немного, тогда пойдет. Где лопата? – И куда-то пошла, должно быть искать лопату.
– Козелки принеси! Козелки и жердину! – крикнул, вернее, просто сказал я ей вслед, глядя на заднюю ось. – Вы проворачивали?
– Проворачивали, проворачивали… – сокрушалась Топлечка. – Вот так оно и выходит, когда мужика в доме нет… – Она закусила губу и поправилась: – Дома-то он есть, да сил у него нету, помочь не может… О господи…
Я сам принес козелки, выдернул из земли кол и устроил рычаг под заднюю ось. Снял пиджак и засучил рукава. Женщины стояли рядом (Хана – опершись на лопату) и глядели.
– Туника, – крикнул я, – теперь давай по-умному! Становись за бычками и хлестни, если можешь, не сильно бичом.
Я ухватился за кол и повис на нем, стараясь пригнуть его к земле.
– Стегай! Ну!
– Давайте, милые, давайте!
– Чего ж вы вдвоем! – спохватилась Хана, торопливо подбегая к нам.
Но бычки потянули, телега продвинулась, и задние колеса нашли твердую опору.
– Тяни, тяни, – закричала Хана; подхватив свою лопату, она бросилась следом – на поле, куда свозили навоз.
Единственной, кто не помогал – она стояла, словно вросла в землю, и только глядела, – была Топлечка. Телега уже спустилась в овраг, а она все стояла раскрыв рот, будто впервые меня узрела.
Я поднял на плечо кол, посмотрел на нее и не сдержал улыбки.
– Ты гляди-ка на него, на этого Южека! – удивилась она, не сводя с меня глаз. – Откуда ты вдруг такой выискался? Как это у тебя вышло? Настоящий бык!
И вдруг вопреки всем своим привычкам громко рассмеялась. Пошла в дом и быстро вернулась. Положила каравай хлеба на перевернутый бочонок, поставила бутыль водки и тут же начала причитать:
– Вот что значит здоровый человек в доме! А наш ни к чему не пригоден. Бедные мы, бедные…
Я глотнул водки и невольно оглянулся на нее. Она стояла ко мне спиной, сложив на груди руки, и смотрела куда-то вдаль, в поля.
Потом я много раз ловил на себе ее взгляд, чувствуя при этом, как кровь бросается мне в голову, однако она ни разу, ни за работой, ни за трапезой, не останавливала подолгу его на мне. Она не замечала меня, будто никогда не видала, и уже никогда изумленно не спрашивала: «Откуда ты вдруг, такой выискался? Как это у тебя вышло? Настоящий бык!»
С отавой – я помогал им косить – мы провозились целую неделю до самого воскресенья: мешала погода. В субботу небо прояснилось, а в воскресенье с утра светило солнце. К обеду все подсохло, и, отобедав, мы, не мешкая, стали нагружать воз; к вечеру обе телеги были дома, под крышей. Высушить сено мы высушили, теперь оставалось только выложить его наверх, на сеновал.
Ужинали мы долго; женщины принесли мясо, оставшееся от обеда, Топлечка прихватила выпивку; подогрели свинину – теперь можно было и пить. Всем было жарко, все раскраснелись, а Топлечка была прямо багровой; помню, она принесла в колесный сарай, где мы расположились в прохладе, кувшин с вином и скорее с издевкой, чем с насмешкой, озорно сказала:
– В доме меня уж спросили, отчего я такая!
Хлебнула она прилично; будь она трезвой, никогда б такое не сболтнула: это я уже знал.
Я остался на возу, женщины поднялись на сеновал, и я начал подавать им сено. Я старался поглубже вонзать вилы и забирать побольше, и моим помощницам скоро пришлось несладко. Поначалу ноги у меня были точно свинцовые, слишком много выпил, однако работа и жара – я буквально обливался потом – вскоре меня отрезвили. Первый воз мы опорожнили мгновенно; я спрыгнул вниз и поставил вторую телегу под крышу, втолкнул ее один, без чьей-либо помощи. Выровнял дышло и встал на заднее колесо, потом схватил кол, оперся на него, и вот я уже опять наверху, опять подаю сено.
– Он часом не спятил? – сердито спросила Хана.
– Если так будет продолжаться, я уйду, – в тон ей ответила Туника. – Или подавай медленней, или сам полезай сюда и утаптывай.
Топлечка, первой принимавшая сено, громко засмеялась: она была красная, как огонь.
– Ничего, помокните немного, помокните, – подшучивала она над дочерьми, – глядишь, и мыться не придется.
Хана в ответ начала ругаться, а младшая, Туника, вдруг всхлипнула.
– Неужто опять погода испортилась? – пошутил я и, опершись на вилы, взлетел наверх.
Топлечка посторонилась, уступая мне место.
– Ну теперь берегитесь, девки, глядите, как бы он вам сена за пазуху не насовал, – предупредила она дочерей.
Она смотрела, как я утаптывал сено, и тихонько улыбалась каким-то своим мыслям.
А мне, честно говоря, не столько хотелось помочь им, сколько воспользоваться старинным обычаем – при укладке сена насовать женщинам или девушкам за пазуху. Конечно, могло выйти наоборот – нередко случалось, что женщины, особенно если подбирались ловкие да проворные, сами валили парня и запихивали ему сена в штаны и под рубаху.
И сейчас девушки поспешили забраться поглубже.
– Топлечка, давай вилы! – крикнул я.
Она бросила мне вилы, и я стал разбрасывать сено в обе стороны девушкам, то одной, то другой. Они принимали сено и утаптывали, но особенного удовольствия это им не доставляло; Хана непрерывно ругалась, а с губ Туники не сходила ехидная усмешка.
Захмелевший, возбужденный смехом Топлечки, я крикнул, обращаясь к девушкам и зная, что на глазах у матери дозволено все:
– Ах, не нравится? – и, отшвырнув вилы, прыгнул сперва к Хане, а затем к Тунике.
Старшая сумела от меня вырваться, а Туника ловко увернулась и поспешила в сторонку. Тогда я опять кинулся на Хану. Она снова было вывернулась, но тут раздался голос Топлечки:
– Чего ты боишься, сама его хватай!
Обе они, мать и дочь, мгновенно оказались рядом, и не успел я опомниться, как они меня повалили на сено. Я даже растерялся от неожиданности, когда почувствовал у себя за пазухой колючую траву; они совали ее мне с обеих сторон: одна сверху, другая снизу. Собрав все силы, я попытался освободиться и сумел перекинуться на спину, однако на том все и кончилось. Я без толку размахивал руками и теперь чувствовал сено у себя на животе, там орудовала сама Топлечка, потом сено оказалось у меня в штанах – словом, повсюду, куда она могла добраться.
Внезапно Хана вскрикнула и отскочила в сторону, наверное разгадав намерения матери.
Я тоже испустил вопль и опять изо всех сил замахал руками. И повсюду встречал жаркое, покрытое потом тело, повсюду натыкался на ноги Топлечки… И вдруг силы покинули меня. Я лежал без движения и чувствовал, как чья-то рука заталкивает мне сено все глубже и глубже в штаны, и ошарашенно смотрел на Топлечку.
То ли она увидела мои глаза, то ли по какой иной причине, но она тоже вдруг охнула, вскочила на ноги и опрометью кинулась из сарая.
Я медленно сел, потом поднялся, стал вытряхивать сено. И скорее выполз, нежели вышел наружу.
Теперь, подавая наверх сено, я уже не ощущал в ногах тяжести, они просто-напросто дрожали и подгибались. Хана и Топлечка усмехались, потом Зефа вдруг стала серьезной; и только Туника не сказала ни единого слова и даже не посмотрела в мою сторону.
– Оставь меня в покое! – отрезала она, когда я попытался пошутить с ней, и шмыгнула в дом.
В те дни – они живо встают в моей памяти – у Топлеков отелилась корова; кажется, была злосчастная пятница. Животное долго мучилось, тужилось, и женщины были в ужасном волнении; и у меня не оставалось иного выхода, как побыть с ними – вдруг понадобится моя помощь.
Вечером, уже в десятом часу, корова наконец разрешилась от бремени; у нее это был уже третий отел, и все кончилось благополучно. Хана, до тех пор не оставлявшая мать, отправилась в дом, мне бы тоже полагалось идти к себе, но обстоятельства сложились так, что я не ушел. Сперва думал остаться, пока у коровы не выйдет послед или пока хозяйка не приготовит ей болтушку для подкрепления сил: дробленой кукурузы или муки, замешанной на яйце.
Топлечка приготовила все как надо, но прихватила и ковригу хлеба, водки в бутылке из-под пива и колбасу на деревянной тарелке. Оставшись в хлеву, я смотрел на плотно прикрытую дверь, потому сразу увидел, как женщина ногой пытается ее распахнуть, а заметив, что она держит в руках, отвел глаза и стал глядеть на теленка: он лежал рядом с матерью, у которой пока не было сил подняться, и она вылизывала его большим влажным языком.
– Все время лижет, – заметил я.
– Любит, родное как-никак чадо, – ответила Топлечка, озираясь и ища, куда бы поставить все, что держала в руках; а не найдя, громко вздохнула.
– Давайте помогу, – предложил я свою помощь.
– Да уж я сама, – возразила она, точно опасаясь, что я не смогу задать корм корове, и протянула мне то, что было у нее в правой руке. – Это я для тебя захватила.
Я взял тарелку с колбасой и хлебом, а также бутылку. Красная сырая колбаса, прямо из погреба, была еще в белом застывшем жире. Прислонившись к яслям, я сказал:
– Не надо бы этого.
Она растирала теленка кукурузной мукой с яйцом и после долгой паузы, когда корова уже поднялась, резко и как бы не скрывая недовольства ответила:
– Ничего! Подкрепляйся! – и, отодвинув от себя коровью морду, чуть помолчав, спросила:
– Ты мужчина или нет?
Смерила меня долгим взглядом, в уголках губ у нее таилась чуть заметная ухмылка – это не ускользнуло от моего взора.
Ее шуточки меня волновали. Кем она меня считает? Да мальчишкой, самым настоящим мальчишкой!
Я пробурчал что-то в ответ, вытащил из кармана нож и, счищая на хлеб жир с колбасы, стал ее резать. Половина осталась лежать на тарелке.
– А вы? – спросил я, уже дважды или трижды приложившись к бутылке.
И вдруг, неведомо отчего, мне захотелось встать и уйти.
Топлечка погладила коровий бок и повернулась ко мне:
– Ты за меня не беспокойся, у меня уже губы в масле.
Она вплотную подошла ко мне, и я помимо воли посмотрел на ее губы. Масла на них видно не было, но я почувствовал запах водки. Она громко засмеялась; я не понял чему. Лохань, которую она прижимала к животу, заходила ходуном.
– Ты… – Она замолчала и, не сводя с меня глаз, сказала: – Южек!
Поправила на мне шляпу, хотя я попытался отдернуть голову.
– Да погоди, сдвинь ты ее чуть набекрень! Чего ты ее на глаза натягиваешь? Точно обокрал кого…
Продолжая что-то говорить, она надвигалась на меня, так что я уже чувствовал коленями ее юбку. Она вела себя, как мать, которой непременно нужно поправить одежду на своем ребенке. Однако мне было неприятно то, что она делала. Моя мать давно перестала поправлять на мне одежду, давно перестала меня ласкать, с тех пор как я пошел в школу.
Мне показалось, что она выпила больше, чем надо, – потому и такая ласковая, потому и не понимает, что делает. Но почему-то вспомнилось, как убирали сено, как возились на нем и как я, бестолково размахивая руками, касался ее тела, а она вовсе не обращала внимания на моя прикосновения. Охваченный неведомым сладким ужасом, я возликовал, совсем позабыв, что собирался уходить. Грудь мою словно пронзил невидимый меч, и я ощутил во всем теле незнакомую дотоле легкость.
Топлечка не сводила с меня глаз и улыбалась – она в самом деле была пьяна.
– Какие у тебя усики! – Она протянула пальцы к моему лицу. – Как пух!
Бездонное огромное небо разверзлось надо мной, и я перестал что-либо понимать. Сунул куда-то за спину, в ясли, все, что держал в руках: хлеб, колбасу, бутылку, – и с трудом выдавил:
– Корове б постелили. Послед…
– Господи помилуй, а ведь верно!
Я пошел за соломой к гумну, а она, идя сзади, освещала мне дорогу.
– Не надо светить, – сказал я, выходя из хлева.
– Надо, – возразила она и подняла лампу к лицу, так что я ясно, совсем близко, увидел ее пухлые губы – когда-то, сейчас я не мог вспомнить когда, я их уже видел такими – и вдруг испугался, как бы она в самом деле не потушила лампу, но она лишь привернула фитиль.
– Пусть капельку светит!
Так эта лампа и осталась стоять посередине хлева, одиноко и брошенно, и очень мне мешала. А я ведь собирался сказать Топлечке, что не нужно уменьшать огня, но потом подумал, что это выглядело бы уж слишком притворством, и слова застряли у меня в горле. Я полез по лестнице и слышал и чувствовал всем телом, как она поднимается следом; она двигалась быстро, точно ее что-то подгоняло.
Я сделал несколько шагов по сеновалу – кругом стояла кромешная тьма, – нащупал солому, мягкую овсяную солому, которую искал, и начал разглаживать ее.
– Ох! – негромко воскликнула она с досадой и нетерпеливо позвала: – Южек! Да куда же ты подевался?
– Здесь я. – У меня перехватило дыхание, не было сил сдвинуться с места.
– Иди поближе! Страшно! – шепнула она, и мне показалось, будто она улыбается.
Я повернулся и сделал каких-нибудь полшага назад, опустив руки – они плетьми повисли вдоль тела – или сунув их в карманы, теперь не помню, и тут почувствовал прикосновение ее пальцев, которые искали меня, они кинулись ощупывать мою грудь, полезли под мышки; и вдруг обе руки обхватили меня, жар ее груди передался мне, она прильнула ко мне всем своим телом, и я вновь ощутил запах водки, который теперь уже мне не мешал. Женщина – я чувствовал ее теперь целиком – слабо крикнула, но страха не было у нее в голосе, он звучал радостно, и повисла на мне. Мы покачнулись – ноги наши запутались – и повалились на сено.
– Ох! – опять вскрикнула она, и я невольно прикрыл рукой ее рот.
Губы ее были приоткрыты, зубы коснулись моих пальцев и вонзились в них. Мне стало нестерпимо больно, я испугался, а она, положив голову мне на грудь, задыхалась от смеха. Ей-богу, я в самом деле не знал, что делать.
– Ты сбесилась! – пробормотал я.
Внезапно ее смех оборвался, и она села. Мы сидели рядом некоторое время, и она что-то делала со своей одеждой. Потом успокоилась. Словно отрезвела и пришла в себя.
У меня было достаточно времени обо всем подумать. Я чувствовал близость ее тела, различал ее тяжелое дыхание и движения ее рук, разравнивавших рядом со мной солому. Потом наступила тишина и слышалось только, как коровы жевали внизу. Больше не раздавалось ни единого звука. Казалось, уснула сама ночь.
Я вслушивался в ночные звуки, но ничего не мог услышать и уже отдавал себе отчет в том, что произойдет.
– Они спят? – спросил я.
– Девчонки? Давно уж… – Она хотела что-то добавить, но остановилась, опять засмеялась и закончила: – Вместе со старым.
Так она сказала и, по всей вероятности, больше о муже не вспоминала. Глухо засмеявшись, она кинулась на меня и стала щекотать мне грудь, живот, ноги. Солома колола мне кожу, а я вспомнил воскресенье и ее тело, которое встречали мои руки, – и позволил ей делать с собой все что угодно… Она торопилась, спешила, словно слишком долго ждала и больше не имела сил ждать… Если б только она смеялась потише! И лампа, зачем она оставила ее внизу?
Не помню всего, но вот так это произошло, вот так началось. Вспоминаю лишь ее жаркие, обжигающие слова: «Ты думаешь, я не видела, как ты пожирал меня своим взглядом, когда я расчесывалась? Ох ты, бычок!» Помню ее судорожный смех и кофту, которую она сама расстегнула, и как положила мою руку к себе на грудь… и как вздрогнула эта рука, коснувшись ее тела. Я почти потерял сознание… А ведь нет же, нет! Я понимал, что я делаю, что делаем мы… Не помню уже всего. Кажется, я увидел в дверях белую, в рубахе и подштанниках, фигуру, когда мы возвращались обратно: Топлечка с лампой в руках, горевшей теперь во всю мочь, а я с охапкой соломы. Может, у меня отнялись тогда ноги в сарае. Или от страха мне привиделся Топлек? Или после случившегося тогда в памяти моей ожили иные события? Кое-что, однако, память моя сохранила. Мычание… и… краюхи хлеба больше не было в яслях, ее сжевал теленок; бутылка опрокинулась, и все вокруг воняло водкой…
…Казалось, той ночью Хедл рассказал мне все. Он повернулся на своем тюфяке спиной ко мне и умолк.
V
– Да, так оно и случилось, охмурила меня баба вконец, да так быстро, что происшедшее тогда ночью на сеновале я осознал лишь позже, когда все это уже несколько недель спустя жутко осложнилось.
Не помню, как я в ту ночь добрался домой; я думал о женщине, о том, как она повалила меня на сено; я был потрясен всем, что произошло со мной впервые в жизни, произошло так стремительно, неожиданно, оказавшись вдруг столь сладким и желанным. «Ох, да что ж это такое! Так вот они каковы, эти женщины!» – твердил я себе, и она стояла у меня перед глазами, и я чувствовал себя бесконечно счастливым.
Я уснул сразу, а может быть, даже утром – откуда мне было знать, а раскрыл глаза, когда солнце стояло высоко; собственно, оно-то и разбудило меня, лучи его падали на лицо через раскрытый люк. Я лежал у самого края сеновала, одно неверное движение, перевернись я во сне, и полетел бы вверх тормашками; дрожь прошла по телу, но с места я не сдвинулся; только приподнялся на локте, устраиваясь поудобнее, чтоб солнце не светило в глаза. В голове гудело, будто вовсе не было сна; так я и подумал к первое мгновение, но, взглянув на солнце, остановившееся в небе над ореховым деревом у ключа, сообразил, что поспал я немало.
Я прислушался: в хлеву было тихо, только вдруг с силой хлопнула дверка погреба и кто-то направился к дому; шаги были медленные, как бы неуверенные, должно быть это Штрафела. Мне стало не по себе, как бы он не открыл меня, хотя опасаться было нечего, я был у себя дома, однако я быстро отполз от края, поглубже; но выглядело это так, будто я испугался Штрафелы, этого бродяги; будто я стал бояться всех вообще, даже женщин. Почему никто меня не разбудил?
И в тот же миг, когда страхи и опасения рассеялись, во всей силе и остроте встали ощущения минувшей ночи, так что я невольно взглянул на ладонь своей руки, той самой руки, которую женщина положила к себе на грудь, и даже сейчас, спустя много часов, я со всей ясностью снова ощутил это прикосновение к ее телу. Вздрогнув, я стряхнул приставшую к коже труху, застрявшую между пальцами, и опять посмотрел на ладонь. «Ласкай ее крепче! Ласкай… – повторял я слова Топлечки, тем же голосом и с той же страстью, как их произнесла она. – Видела я, как ты пожирал меня глазами. Расчесывалась, а все видела! Каков бычок, а! Теперь ты мой… теперь ты мой будешь! Мой, мой, мой…» Уже не только ладонями, теперь я чувствовал ее всем телом, охваченным внезапным, стремительно разгоревшимся пламенем.
Конечно, меня беспокоили думы о больном Топлеке и о том, как ловко она все подстроила. А то, что она была много старше меня – собственно говоря, даже стара, в матери мне годилась! – в то утро меня не тревожило. Меня переполняло чувство радостной удовлетворенности, гордости от сознания, что и мне довелось быть наедине с женщиной, хотя на самом-то деле все происшедшее приводило меня в ужас; но и ужас этот был сладким – ведь он столько сулил. Об одном не хотелось думать вовсе, о том, как я покажусь ей теперь на глаза, как встречусь со стариком или с девушками, да, и с Туникой. А белые черешни словно исчезли из памяти, испарились.
Испарились, как испаряется роса под лучами утреннего солнца, и я сам не понимал, как это случилось!
Снаружи опять раздались осторожные шаги, потом стихли.
– Ольга, гони скотину, в поле поедем! – крикнул Штрафела, и голос его прозвучал глухо, словно он задыхался.
Он пошел вдоль хлева, пытаясь заглянуть поглубже, и время от времени останавливался. «Меня ищет!» – мелькнула мысль. Потом он что-то пробурчал, исчез в тележном сарае, и оттуда послышалось громыханье, сопровождаемое непрерывной его руганью. Мне стало не по себе – вдруг он полезет наверх.
Теперь все стали мне ненужными, я всех опасался и никому не хотел показываться на глаза. До изнеможения хотелось спать. С луга донесся топот возвращавшейся скотины. Животные подошли совсем близко, и я услыхал голос Ольги – пасла она – и щелканье ее кнута. Штрафела взял ярмо и пошел с ним к корыту.
– Мерзкая скотина! – орал он и, подталкивая бычков, пытался надеть им на шею ярмо. – Не хватило вам воды в ручье, а? Ольга, собирай обед, быстрей, выезжать надо!
Вот как, значит, Штрафела всерьез принялся за хозяйство; такое никак не входило в мои планы. Этот бродяга – на нашей земле, а я – у Топлеков! Я совсем было собрался вставать, но тут до меня донеслось брюзжанье Ольги, будет, дескать, с нее, она пасла, а теперь еще и в поле гнать нужно.
– Все я да я. Как будто у нас мужиков не осталось в доме…
И пронзительный голос Марицы – она тоже откуда-то появилась:
– А где этот молокосос? Еще не показывался?
– А он дома? – спросила Ольга.
– Дома, если опять куда-нибудь не уполз.
Это «куда-нибудь» подразумевало Топлеков.
– Валяется себе, вытянулся как червяк, знай, похрапывает.
Ага, значит, Марица видела меня, но не разбудила; значит, я спал и даже храпел.
Штрафела, стиснув зубы, яростно поносил весь божий свет, даже бычков, «этих Хедловиков», а это означало, что вечером он напился и тащиться в поле ему вовсе не хотелось, а может, он просто сцепился с матерью или с Лизой.
Ольга и Марица о чем-то вполголоса толковали между собой, словно опасались, как бы кто их не подслушал; шептались, шушукались, и я словно видел, как они совали головы в хлев.
– Пускай он едет, – злобно говорила Ольга. – Ты слышала?
– Так разбуди его! – ответила сестра.
Сейчас за мной придут. Я напряженно вслушивался, но шагов не было слышно, ни с гумна, ни у лестницы; потом раздался глухой голос Марицы:
– Если они его опять не подманили! – И она хохотнула.
– Подманили? – протянула Ольга и невинно спросила: – А какая из них?
– Как это какая? Кому ж еще, как не старой! – Марица опять захохотала.
– Верно, куда уж молодым! Чего они умеют!
Вот оно что, эти болтушки все знают!
Девушки засмеялись, но, вдруг вскрикнув, разбежались – видно, их шуганул Штрафела. Кнутом стегнул или так просто? До меня доносился их смех, с которым они не могли совладать, и брань Штрафелы: «Эти Хедлы, наверное, думают, что я за них стану гнуть спину, а они знай себе будут разгуливать сколько душе угодно!»
Я окаменел, потом, потихоньку пробравшись по сену, вылез на гумно и по дереву спустился на землю. Дополз до овражка, дальше – к лесу и под прикрытием кустарника – к ручью. Здесь я умылся. Я плескал себе водой в лицо, тер глаза, которые щемило так, будто их опалило огнем. Опять вернулся в лесок и присел под дубом, а потом и вовсе улегся на спину. Долго лежал, закрыв глаза, обдумывая все, что случилось. Над головой зашелестели листья, где-то рядом дрогнула осинка; с поля донесся возглас Ольги, но мне это казалось таким бесконечно далеким… Я чувствовал на своем лице прикосновение солнечного луча, пробившегося сквозь густую крону дерева… куда-то провалился, заснул как убитый и спал до самых сумерек, пока не опустилась вечерняя прохлада.
В течение нескольких дней я оставался дома, никуда не высовывая нос. Помогал своим, радуясь тому, что приходится рубить кукурузу на нижних склонах, откуда не видно дома Топлеков, да и кукуруза поднялась выше роста человека. Мне не хотелось даже глядеть в ту сторону, я не испытывал ни малейшего желания видеть кого-либо из Топлеков; а одна мысль о Зефе приводила меня чуть ли не в отчаянье.
Дома на меня почти не обращали внимания, и я чувствовал, что им попросту нет до меня дела – как матери, так и обеим сестрам, Марице и Ольге. Сперва мне показалось, будто они посмеиваются надо мной; я ломал голову, не пронюхали ли чего-нибудь, а потом вдруг нечаянно услышал горячий шепот сестер.
– Ну и черта Лиза себе на шею посадила!
– Знаешь, Марица, а мне жалко ее. Трудно ей с ним.
Они сидели, греясь на солнышке, и шелушили фасоль. За последнее время они сблизились между собой и держались друг друга, что было на них непохоже, такого у нас в доме вообще никогда не водилось. Марица потянула из кучи длинную плеть и, расправившись с ней, злобно возразила:
– Жалко? А чего ее жалеть? Нас она жалеет? Всех бы из дома на улицу выставила…
В ее словах заключалась немалая доля правды, поэтому Ольга долго молчала, и не сразу вновь послышался ее голос:
– Это ты верно говоришь… – на что Марица, видно желая ее утешить, сказала:
– А за Штрафелу ты не волнуйся! Он может и в строители снова поступить!
Ведь Штрафела и в самом деле прежде был строителем! И тут я вылез. Они услыхали шаги и всполошились, еще никого не видя. Но, увидев и убедившись, что это я, успокоились, а Марица, кинув внимательный взгляд по сторонам, спросила:
– Южек, ты что-нибудь слыхал о Лизикином Штрафелеке?
Она не сказала: Лизином, но Лизикином – и назвала его не Штрафелой, но Штрафелеком! Совсем по-родственному! Нет, я ничего не слыхал. Марица не могла скрыть своего изумления – откуда это, дескать, я свалился, так вовсе ничего и не слыхал, и не удержалась, чтоб не заметить – тепло, по-семейному, – мол, наш Южек не услышит даже, как трава растет, его нечего бояться. И в тот же день я узнал от них – а в воскресенье, во время поздней мессы, слух подтвердился, – что Штрафела, этот «великий партизан», на каком-то собрании или на митинге в Зорчевой корчме крепко получил по зубам – ему не дали говорить. Люди рассказали, как все было. Сперва выступали приезжие из Любляны или откуда-то там еще, потом – дело шло уже к концу – вздумалось и Штрафеле о своем рассказать. «Ясное дело, разве могло обойтись без этого кашлюна – Штрафела, выступая, всегда покашливал и таким образом заполнял паузу, когда у него не хватало слов, – и без его вечного «я, товарищи!» – злопыхала Марица; каждое свое выступление он начинал словами «я, товарищи» и без конца повторял их, если не кашлял. А на том собрании он намеревался поболтать о партизанах, как, дескать, все начиналось – будто Штрафела об этом что знал! – и о коммунизме, который должен был прийти в Гомилу. Это он, Штрафела, выскажется сейчас перед люблянскими товарищами, а Гомила пусть его послушает! Но товарищи из Любляны не стали его слушать, не испытывала потребности слушать его и Гомила. Его тут же срезали: пора, мол, кончать, а если ему хочется что-либо людям сказать, пусть приходит в другой раз трезвым. Он выпучил глаза, тупо и словно даже испуганно огляделся по сторонам, посмотрел на товарищей из Любляны, на всех прочих, еще раз произнес это свое «я, товарищи!..», но задохнулся и, молчком пройдя через толпу, вышел из корчмы. И никто больше не вспоминал о нем на том митинге, зато теперь о Штрафеле заговорила Гомила, та самая Гомила, которую он пугал и которая так его боялась. Гомила и сейчас его побаивалась, однако ехидным судам да пересудам о нем не было ни конца ни края. Поэтому, выходит, – теперь это поняли и мы, Хедлы, – принялся он с такой пылкостью за наше хозяйство, а Лизика начала так ласково обхаживать мать… Поэтому, выходит, сей «великий партизан» взялся за чапыги да за ярмо! Мать обошла всю родню, съездила в город, а возвратившись сказала мне, когда мы оказались одни:








