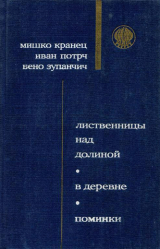
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Хозяйство у Хедлов вели женщины; и хозяйствование это можно было назвать сплошной дуростью; капризные и упрямые, они делали что хотели; дулись друг на друга дочери, мать дулась на дочерей, а они все разом ополчались на нее. Что бы мать ни сделала, что бы ни попросила – все оказывалось дочкам не по нутру. Стоило ей в воскресенье после обеда засидеться у родственников чуть подольше и вернуться домой чуть попозже, как она тут же принималась вздыхать и сетовать: «В могилу вы меня сведете… мерзкие вы девки… люди надо мной смеются», а они, не оставаясь в долгу, наперебой принимались ее отчитывать: «А чего вы шляетесь по людям? Сидели б дома да молитвы читали, глядишь, и в царствие небесное поскорей бы попали!» А младшая, особенно своенравная и острая на язык, без обиняков интересовалась, помнит ли мать о том, что сама выкидывала в молодости. Пакостность дочерей сражала старуху; она начинала рыдать, закрывала глаза платком, а лицо – ладонями; потом прямо в одежде бросалась на постель и засыпала; раздевалась она только посреди ночи или даже под утро. После этого в доме воцарялось безмолвие: мать не замечала дочерей и они отвечали ей тем же. Старший сын, которому предстояло принять на себя хозяйство, частенько ругал сестер за блажь и гонял их так, что все ходуном ходило. Этот парень со временем навел бы в доме порядок, если не сразу, то уж наверняка после того, как девицы повыходили б замуж, каждая на свою сторону – для того только, как они говорили, чтоб никогда больше не видеть друг друга; однако вот этого старшего Хедла в апреле сорок пятого, всего-то за несколько дней до капитуляции, отступавшие немцы расстреляли, а дом сожгли. Кончина ему выпала страшная. Немцы сперва связали его и подвесили вниз головой к колодезному журавлю, а потом прострелили ему шею и грудь. Колодезь находился в двух-трех метрах от дома, так что и потом не удалось установить, умер ли он от потери крови или не вынес мучений – иными словами, сгорел в огне, бушевавшем рядом. Это жуткое злодейство было последним, совершенным немцами в этих краях, а Хедлам они мстили за своего солдата, которого перед их домом застрелил некий Штрафела, то ли дезертир, то ли партизанивший: за партизана-то он сам себя выдавал. Кроме поборов, выстрел этот был единственной акцией Штрафелы против немцев, после чего он тут же и скрылся. Вместе с ним в ближайший лес тронулись все женщины семейства Хедлов – три дочери и мать. В доме остались только старший Хедл и бабка. Парень собирался сказать окружившим дом солдатам, кто убил немца, попросившего ковшик воды, но те и не подумали его слушать. Без лишних слов они сделали свое дело и столь же стремительно, как появились, ушли. Бабку, запертую в горящем доме, вытащили соседи. А обгорелый труп Хедла, без волос и в обугленных лохмотьях, остался на веки вечные страшным олицетворением немецкой солдатской справедливости, лишившей матери сына, а дом будущего хозяина, как месть за Штрафелино партизанствование. В гибели сына, как и в смерти бабки, которую похоронили в том же апреле месяце, женщина видела перст божий; и господня кара эта постигла семейство Хедлов из-за девчонок, которые, как поговаривали в деревне, путались со Штрафелой и помогали ему прятаться. Этот слух старуха сама распространяла до тех пор, пока он не достиг ушей Штрафелы и тот не появился собственной персоной и не пригрозил, что ее тоже прикончит из пистолета.
В первые дни после ухода немцев Штрафела стал настоящим божком в деревне и поспешил жениться на старшей дочери Хедлов. Старуха до кончиков волос была убеждена, что он взял ее дочь только ради того, чтоб прибрать к рукам их хозяйство – ведь Францла-то, ее несчастное дитя и многострадального мученика, убили. Убеждена она была также, что в этом постигшем ее страшном несчастье виноваты ее дочери: Штрафела как-никак подкатывался к каждой. И она насмерть поссорилась с дочерьми. Но если сперва она не скрывала своей ненависти, то позже, когда в доме появился Штрафела и принялся размахивать у нее под носом пистолетом, стала побаиваться и Штрафелы и дочерей. Она замолчала и принялась поступать им назло. После всех посетивших ее несчастий у нее осталась только одна отрада – ее самый младший, ее Южек. Она кудахтала над ним и целиком посвятила себя ему. Что бы он ни выкинул, она, видя, что это доставляет ему удовольствие, не высказывала ему ни словечка упрека, а домашние дела превратились для нее в тяжкий крест. Она бродила по пепелищу и угрюмо поглядывала на людей, которых Штрафела, теперь видный партизан, мобилизовал на строительство своего нового дома. «Погоди, погоди, бродяга, и ты свое получишь!» – бормотала она, призывая божью кару на головы нежеланного зятя и немилых дочерей. Кара и в самом деле обрушилась на их дом, но поразила не Штрафелу и не этих трех ужасных женщин – она поразила ее самое и того единственного, кто у нее еще оставался в жизни и кого она любила.
Как все это происходило, начал мне рассказывать мой сосед и злосчастный сотоварищ, когда у него развязался язык, и затем долгими тюремными ночами, когда нам не спалось, все до конца и рассказал. Последняя беда, для него самая страшная, постигла его здесь, в тюрьме; но мы узнали об этом позже, когда его уже не было с нами. Это должно было случиться, и одному господу богу ведомо, почему последний удар судьбы принес ему в то же время и счастье. А происходило и произошло это… – но Хедл по обыкновению своему начал с брани.
II
– Вот видишь, будь оно трижды проклято, все кувырком шло, хуже быть не может! Сам дьявол вмешался и попутал меня. Иначе и не придумаешь. Из-за них вот, проклятых, из-за баб этих я тут очутился, будь они прокляты!
Он посмотрел на зарешеченное окно, в котором в то воскресенье увидел женщину, посмотрел так злобно, растерянно и обиженно, что даже в темноте различил я безумный блеск в его глазах…
…Все могло сложиться иначе, мог бы я жить с Туникой, но она той зимой только школу закончила, а я считал, что нельзя больше ждать.
И сейчас, веришь ли, все мне в глаза лезут белые черешни!
Начало лета уже миновало, и черешни на склоне, под нашим домом, давно созрели, но мы еще не обирали их: много дел было по дому. К вечеру того дня плотники укрепили последнюю балку, прибили елочку к коньку крыши и потребовали магарыч. Я носил из погреба вино, яблочный сидр, или «толченку», как у нас его называют, и аккуратно им подливал. Мужики постепенно захмелели, стали громче смеяться, а девчонки наши опять чего-то надулись. Словом, было, как обычно у нас бывает, я и сам подвыпил, а Штрафела, так тот напился вконец.
А он, когда напивался, считал, что все в доме должны быть пьяными, все домашние, и женщины тоже.
– Лиза! – позвал он свою жену, а мою сестру, которая заглянула в дверь.
Та и ухом не повела.
– Лиза! – повторил он громче и сердитее.
– Чего тебе? – огрызнулась она.
– Поди сюда, выпей!
Сестра подошла, осторожно ступая по доскам, со своим надутым животом, присела на стул, где лежали зачищенные колышки, и скрестила на груди руки. Штрафела налил и протянул ей стакан:
– На, пей!
Она взяла стакан, сделала глоток, другой и залпом осушила его.
Меня всегда бесило, до чего эта баба, вздорная и грубая со всеми домашними, покорно его слушалась. Словно Штрафела лишал ее разума. Я злился на сестру, а Штрафелу ненавидел. Мне казалось, он околдовал ее чем-то, как змея, которая своим взглядом заставляет цепенеть лягушку; она готова была исполнить любое его желание. И не только исполнить – словечка б в упрек не сказала, что бы он ни творил, даже коснись это матери. Так было и в тот вечер.
Откуда-то появилась мать, должно быть из виноградника, что за домом, – к башмакам у нее больно налипла грязь. И только Штрафела заметил ее, тут же и вскинулся:
– Эй, Хедловка, иди сюда, дом обмываем!
Мать, как и сестра перед тем, сперва не обратила на него внимания. Она подняла с полу щепочку, поставила ногу на чурбак и принялась счищать с башмаков грязь.
– Хедловка!
Штрафела снова окликнул ее, чуть ли не шепотом, изо всех сил стараясь выглядеть трезвее и спокойнее. Однако мать и теперь не откликнулась, точно его вовсе не было в комнате. Опустив одну ногу, она поставила на чурбак другую; очистила ее, выпрямилась, бросила щепочку и направилась к горнице, где мы тогда могли готовить еду.
Я надеялся, что все обойдется: мать смолчит, а зять станет развлекаться с плотниками, как до сих пор. Но видать, Штрафеле попала шлея под хвост.
– Хедловка! – завопил он и бросился к ней. Встал на пороге горницы, схватился руками за косяк, словно преграждая матери путь, и произнес хриплым, дрожащим от ярости голосом: – Мама, вон для вас выпивка!
Я выпрямился на своем стуле. Мать со Штрафелой месяцами не разговаривала, они избегали друг друга и держались так, будто вовсе не знакомы. Плотники перестали жевать. Мать замерла, увидев Штрафелу перед собой, и попыталась его обойти. Обеими руками она обхватила правую руку зятя, рассчитывая оторвать ее от косяка. Но сил у нее было немного. Тогда мать попыталась юркнуть у него под рукой, однако Штрафела выставил ногу и опять загородил проход.
Податься было некуда. Она растерянно отступила и вдруг, вытянув кулаки, с рыданием в голосе выкрикнула:
– Ты, бродяга, не даешь мне в дом войти?
Я сидел как на иголках, боясь, не ударил бы он ее, но слова матери и меня застигли врасплох.
– Вот как, значит, не присох у вас язык к горлу? – осведомился Штрафела и, чуть помолчав, расхохотался.
Засмеялись и плотники.
– Ой! – всхлипнула мать и, отвернувшись в сторону, стала бить себя кулаками по голове.
Тогда Штрафела изменил тактику.
– Мама, – начал он ласково, – ведь никто вам зла не желает. Выпивка вон для вас стоит…
Он посмотрел на нас, мать тоже оглянулась.
– Не угощай меня моим собственным добром. Ты, бродяга, меньше всех можешь тут меня угощать!
Штрафела приходил в ярость мгновенно, но сейчас он сдержался. Заметно было, что слова матери не очень пришлись ему по нутру – ведь при всех его назвали бродягой. Однако и на сей раз он сдержался.
– А крышу вам, мама, над головой, между прочим, я поставил… – сказал он неторопливо, внешне спокойный.
– Не понадобилось бы ее и вовсе ставить, если бы ты к дому не прибился. И Францл, мой несчастный мученик, в живых бы остался. Ох ты… ты, ты нам горе принес!
Мать снова зарыдала и ударила себя по голове. Это, вероятно, и удержало зятя, и он не полез на стенку после ее слов. Только голос повысил:
– Мама!
– Мама? – переспросила она, перестав рыдать и вплотную подходя к нему. – Твоя мама? Какая я тебе мама? Ты, ты, ты мне дочерей перепортил! – грозила она ему кулаком. Я понимал, что добром вечер не кончится. Но Штрафела все еще сдерживался, хотя наверняка уже жалел о своей затее.
– Кого это я перепортил? – спросил он, и по лицу его пошли красные пятна.
– А ты сам не видишь, какой она стала? – кивнула мать на Лизу.
– Лизу? Мама, – вспыхнул Штрафела, – да ведь она мне жена!
– Жена? Ха-ха-ха, – засмеялась мать. – Сказать тебе, кто она? Сказала б, да людей стыдно, все-таки родная дочь была.
Лиза и Штрафела жили в гражданском браке, как у нас говорили, без благословения. Для матери это ровно ничего не значило, как если б они вовсе не были женаты. Но Штрафеле высказывать это было опасно: тут для него начиналась политика.
– Молчать, старая дура, – рявкнул он, – не то я тебя по морде двину!
Он схватил кнут и стал размахивать им над головой матери. И хотя мать продолжала что-то ему говорить, он вряд ли ударил бы ее, если бы не встряла Лизика.
– Чего это ты старуху жалеешь? – крикнула она.
Штрафела опять размахнулся, и тут я не выдержал. Я сорвался с места, кинулся на него. Он упал как подкошенный, но успел перевернуться. Он был много выше меня, да и покрепче, так что я довольно скоро оказался под ним. Не знаю, чем бы все кончилось: я клещом впился в него, твердо решив не выпускать его, хотя б он отрубил мне руки. Я чувствовал, как он лезет в карман за ножом, и понимал, что он убьет меня, если ему удастся достать нож. У меня тоже в кармане был нож, но добраться до него я не мог. Я лежал на полу, обхватив Штрафелу обеими руками, не позволяя ему вырваться. Над собой я видел только лица сестер и матери. Они что-то кричали, и каждая из них тащила нас в свою сторону. Это длилось целую вечность. Потом наконец вмешались плотники – и нас разняли. Нас крепко держали, а мы со Штрафелой облаивали друг друга. Что́ мы тогда кричали, я уже не помню, но кричали так громко, словно хотели весь свет собрать. Лицо мне заливал пот, было жарко. А вытереть лицо я не мог, потому что меня крепко держали за руки. Потом кто-то из женщин принес воды. Я выпил целый ковш, и злость моя испарилась. Вырвавшись, я выскочил наружу, Я готов был выть от тоски и ярости. Теперь я не помню, как долго простоял я на мостике, переброшенном через ручей. Журчанье текущей воды опьянило меня, потом я ушел в сад, лег под каким-то деревом и уснул…
Не могу сказать, сколько я проспал. Когда проснулся, солнце по-прежнему стояло над домом. Я провел рукой по волосам и заметил, что они слиплись. Поднял с земли подгнившую черешню и надкусил; во рту был противный привкус прокисшего сидра. Я приподнялся на локтях и почувствовал, что у меня болит все тело, как будто Штрафела плясал на мне. В памяти ожила наша драка, и я затрясся.
– К черту, пойду и убью его! – крикнул я. – Вот прямо сейчас пойду и убью…
И такая лютая ненависть переполняла мое сердце, что я испугался самого себя.
Этот бродяга Штрафела вел себя так, словно хозяйство Хедлов уже давно принадлежало ему. Ведь мы все помогали ставить дом, а этот жулик похвалялся, будто без него нам это не удалось бы, точно дом и все, что в нем находилось, создано им; и вел он себя как полноправный хозяин. Пока Францл был жив, все кругом считали, что Штрафела примазался к нам, чтоб погулять с девчонками, а теперь, когда Францла не стало, он поспешил обкрутить Лизику, и все поразились такой спешке. «С чего это ему вдруг приспичило?» – судачили тетки, возвращаясь от мессы, а я уже тогда не без страха догадывался, где тут собака зарыта. Дом, земля им понадобились, присвоить все захотелось. Да, уже тогда я был убежден, что ничем иным, кроме как кровавой стычкой между нами, это не может закончиться. Не умещалось у меня в голове, как это какой-то чужак может явиться черт его знает откуда, мимоходом спутаться с бабами и прибрать к рукам хозяйство. Если Францла не было в живых, то оно должно было перейти ко мне, а этот бродяга вел себя так, будто меня, как какого-нибудь ублюдка, вовсе не существовало на белом свете. Какой черт принес его сюда и откуда? Когда были немцы, мы боялись его, а теперь, выходит, надо снова бояться – так и жить в вечном перед ним страхе? Я жутко, жутко злился на всех наших баб, кроме матери, на всех трех – на Лизику, на Ма́рицу и на Ольгу, но сильнее на Лизику…
Хедл перевернулся на живот, обеими руками сжал набитую соломой подушку и опять принялся проклинать и всхлипывать.
– Пропади ты пропадом! Еще раз пикни у меня, паскуда! – донеслось из противоположного угла камеры, и один из наших товарищей с ворчанием перевернулся на другой бок.
Хедл мгновенно умолк. Прошло немало времени, прежде чем он возобновил свой рассказ…
– Страшная злость охватывала меня при мысли о них! Ух, проклятые! Мне мать было жалко, я считал ее мученицей и только задавал себе вопрос, как это могло выйти, что против нее ополчились наши бабы, эти мои проклятые сестры. Я тогда твердо верил, что никогда не взгляну ни на одну женщину, ни на одну в целом мире.
Я сидел в саду и думал о том, как бы им насолить. Однажды мне уже довелось видеть, как полыхал наш дом, пусть вспыхнет еще разок! Если я тут ничего не значу, то бабам в нем не командовать, а Штрафеле и подавно! Этого – так я тогда считал – мне не вынести. Я был вне себя от злобы и ненависти; сестер я ненавидел пуще, чем Штрафелу, и снова и снова принимался их проклинать.
Наконец я встал, собираясь вернуться в дом, откуда доносился раскатистый смех Штрафелы, и сделать сам не знаю что, но… все вышло по-другому. Я оперся о гладкий ствол молодой черешни и, подавленный своим несчастьем, поднял взгляд к густой зеленой кроне, в которой блестели сочные ягоды. Они давно созрели, а обирать их было некому. И опять меня охватил гнев – для чего в доме женщины, если даже этого сделать не могут! И вдруг до моих ушей донесся топот по тропинке за оврагом и свист кнута, сквозь ольховые заросли я увидел нашу корову, которую гнала соседская Туника. Она бранила корову и громко считывала Хедловых пастухов.
– У себя потраву делай, коровища, а не у других! – слышался ее плачущий голосок.
Корова подтрусила к ольховнику, соскочила в овражек и, хотя один рог у нее был привязан к ноге, сумела выбраться на нашу сторону. Здесь она остановилась, подняла спутанную ногу, оглянулась, не видно ли погони, и преспокойно принялась за траву. Я чуть было не рассмеялся вслух, настолько это выглядело забавно.
– Зря ты так горюешь, Туника, – подал я голос. – Не съест же она у вас всю траву.
– Траву не съест, – сердито возразила девочка, – а хлеб поедает. Все время в нашей пшенице толчется. Такие уж у вас пастухи хорошие!
– Смотри-ка, а такой сердитой ты еще не бывала. У вас, Топлеков, все такие?
Она молчала, сбивая кнутом травинки и не зная что ответить, потом сказала:
– А почему ж не сердиться, если надо?
Она сбивала кнутом головки цветов вдоль оврага, так что корова перестала жевать, беспокойно подняла ногу и прислушалась, не угрожает ли ей новая опасность и не нужно ли опять спасаться бегством.
– Ух ты, маленькая, жалко, что я на другой стороне.
Я ждал ее ответа, но она повернулась и пошла прочь.
– Туника! – крикнул я.
– Чего тебе? – неласково отозвалась она, останавливаясь.
Мне было очень приятно смотреть на эту девочку, сам не знаю отчего; радость омрачала только потрава, которую сделала наша корова, и то, что из-за этого Туника рассердилась. Девочка стояла молча, и я не знал, что ей сказать, пока вдруг не вспомнил о белых черешнях. Белая черешня считалась довольно редким деревом, у Топлеков их не было, поэтому Топлековы ребятишки любили приходить к нам.
– Туника, – крикнул я, – иди сюда! Ягод наберешь!
Сперва мне показалось, что она промолчит – даже не оглянулась, но она спросила:
– А скотина?
Я подпрыгнул, чтоб поглядеть на соседских коров, и ответил:
– Куда ей деться? Не в лес же идти…
Это было верно. Девочка повернулась, посмотрела на черешни, потом на меня и наконец остановила взгляд на овраге.
– А что ваши скажут? – спросила она, имея в виду моих сестер.
– Им-то что? Сама видишь, нет у них времени ягоды обирать. И так все сгниет.
Она еще раз посмотрела на своих коров, на тропинку, которая вела к дому – там никого не было, – и сказала:
– А как мне перебраться?
– Если уж корова сумела перебраться, ты и подавно, – ответил я со смехом. Так хорошо вдруг стало у меня на душе. – Прыгай! Не робей!
Она пошла вдоль оврага, выглядывая местечко поудобнее, и за кустами вступила в воду. Сквозь ветки мне было видно, как она подняла подол своей юбки, как сверкнули белизной ее тоненькие детские ноги.
– А ты поглубже не могла место выбрать? – крикнул я.
– Не смотри…
Выйдя на берег, она оправляла юбку.
«Подумать только», – сказал я себе, сразу догадавшись, зачем она искала куст. И опять так хорошо и тепло мне стало.
– Набрать тебе? – спросил я.
– Нет, я сама.
Я смотрел, как она выбирала ветки, подпрыгивала, стараясь схватить и нагнуть их.
– Залезай на дерево…
– Я так и хотела, только ты лезь первый.
Я мигом взлетел под самую верхушку, хотя все тело у меня ныло. Она тоже забралась – на нижние ветки.
– Вкусные?
– Ага.
– Бери побольше, про запас. И домой отнеси. Ведь все сгниет.
Она подоткнула передник, а я стал собирать в шапку; я выискивал самые спелые ягоды с самых верхних веток.
– Ой, а вдруг ветка под тобой обломится, – донеслось откуда-то снизу.
Шапка была полна с верхом, и я спустился на землю. Она прижалась к стволу, собираясь слезать. Зажала коленями подол и крикнула:
– Уходи!
Я наугад, пятясь, отступил на несколько шагов и остановился.
– Не смотри на меня! – Она крепче сжимала подол.
Я отвернулся и стал смотреть в поле, потом поднял глаза к небу, стал вглядываться в туман, наплывавший откуда-то с Похорья. И вдруг услыхал всхлипывания. Переступил с ноги на ногу, опять послышались всхлипы.
– Господи, Южек, я повисла!
Я оглянулся и увидел, что девочка висит в воздухе, одной рукой ухватившись за ветку, а кофточка ее сзади зацепилась за сук.
– Вот глупая! – вырвалось у меня, и я кинулся к дереву, сам не зная, что предпринять.
– Помоги мне! Подними меня сначала!
Я обнял ее за ноги под коленями, приподнял, и она ухватилась за ветку другой рукой; теперь она сама могла уже перебраться повыше и освободиться.
– Ох, эта проклятая кофта, вечно она торчит в разные стороны, – оправдывалась она.
Девочка спустилась с дерева, опираясь мне на голову и на плечи, и с досадой сказала:
– Да отпусти ты меня!
Она выскользнула у меня из рук, и я на миг почувствовал прикосновение ее холодных гладких бедер, – прикосновение свежее, как дуновение весеннего ветерка. Я отступил под тяжестью ее тела, а она, боясь упасть, обняла меня за шею. И тут я сперва почувствовал запах фиалок, выглядывавших из выреза кофточки у нее на груди, а потом ощутил, как скользят по моему телу ее груди, два спелых персика. Два твердых бугорка коснулись меня, словно нежно ткнулись мордами два ласковых животных. У меня перехватило дыхание, мне вдруг показалась ужасно тесной моя одежда. Отвернувшись, девочка заправляла в юбку кофту.
– Где ты нашла фиалки? – спросил я, не сводя глаз с выреза кофты, куда она вновь воткнула цветы. Теперь она застегивала кофту.
– У холма, – быстро ответила она.
И вдруг раздался крик:
– Эй, вы чего там склеились?
Это была Ольга, моя сестра, только она могла быть такой бесстыдной. Она захихикала, следом заржали мужики, плотники. Самым обидным мне показался смех Штрафелы; он смеялся отрывисто и гулко, как какой-нибудь фельдфебель.
Кровь ударила мне в голову, и я почувствовал, что лицо заливает краска. И вот, говорю тебе по правде, так стыдно вдруг стало, черт его знает отчего, как никогда в жизни не бывало; провалиться бы на месте, да не знал как.
Туника подхватила свой кнут, сделала несколько медленных и неверных шагов в сторону, а потом опрометью кинулась к оврагу.
Я оглянулся – нет ли сестры – и увидел в траве свою шапку с черешнями.
– Туника! – крикнул я.
Мне пришлось повторить свой зов.
Девочка остановилась, схватилась за ветку и чуть повернула голову.
– Туника, черешни!
– Ой! – Она прыгнула в речушку и поспешно перебралась на другой берег, стараясь как можно меньше приподнимать подол…
И всегда, как только я вспоминаю эти черешни, а последнее время, здесь, в камере, это случается все чаще и чаще, во мне просыпается ненависть к сестрам и к Штрафеле. Не знаю, что бы я сделал в ту минуту с сестрой, со всеми ими… однако я овладел собой и смотрел, как Туника уходила следом за коровами. А потом я подхватил свою шапку и, размахнувшись, швырнул ее в овраг. Глядя, как черешни падают в траву, я бормотал что-то невнятное, и вдруг стал сыпать проклятиями.
«Персики, персики, – приговаривал по любому поводу наш старый бондарь Фелициян. – Персики, персики, ну-ка погладь их! Для чего ж они тогда выросли у девочки!»
– Персики, персики, – шептал я и во сне с трепетом прикасался к твердым и нежным девичьим грудям, а потом, когда просыпался, мне было и стыдно и сладко. Я снова думал о нашем хозяйстве, как будто никакого Штрафелы не было и в помине, и громко пел на покосе: «Еще четыре года я буду тебя ждать!» И думал об этих персиках, созревающих для меня, но… потом все пошло иначе.
III
«Персики, персики…» – твердил я без конца и становился все более счастливым и словно бы безумным. Таким глупым цыпленком я себя чувствовал, не могу тебе передать, до сих пор меня огнем обжигает, когда вспоминаю о том времени. Не раз и не два замирал я на пашне, или на склоне, или в ольховнике у оврага и неотрывно смотрел на ту сторону, к Топлекам.
Туника обычно вязала, выпасывая коров. «Вот хозяйка усердная будет», – часто говорила мне бабка, пока была жива. Но Туника тогда была еще школьницей, а меня эта мелюзга, подраставшая следом, не интересовала. А теперь вдруг я узнал все: то, что ей исполнилось четырнадцать лет и что зимой, перед рождеством, она перестала ходить в школу; обо всем этом упоминали в своих разговорах сестры, которые, правда, не упускали случая как-нибудь ее оговорить, и тем не менее мне было приятно слушать. Я с нетерпением ждал, когда покажется скотина Топлеков и следом за ней Туника. С коровами она ласково обращалась, уговаривала их и редко когда бранила. Она догоняла непослушную корову, вставала перед ней, гладила ей морду и лаской заставляла поворачивать обратно. А если, случалось, девочка сердилась, хваталась за кнут и хлестала по ногам корову или теленка, мне становилось обидно за нее. Я жалел ее из-за болезни ее отца, Топлека, о котором говорили, что он с каждым днем все меньше места занимает в постели и вряд ли выкарабкается. Однажды, когда сын Пихларчки, которого Туника прогнала с грушевого дерева, накинулся на нее и с воплем «Тунюха-свинюха…» выдернул кофточку из юбки, я подстерег мальчишку и так отлупил, что он долго подпрыгивал на месте да хныкал. Туника посмотрела, посмотрела, а потом быстро погнала скотину к лесу. Я понял, что мне не стоило вмешиваться. С тех пор я школьников больше не трогал.
Я боялся, она поймет, что со мной происходит, и в то же время ничего на свете столь страстно не желал, как жениться на ней. Теперь я постоянно думал о земле, эх, чего только мне не приходило в голову. Жизнь, бежавшая где-то совсем рядом и в то же время очень далеко от меня, казалась мне до безумия прекрасной, настолько прекрасной, что я не могу тебе этого передать словами. Я продолжал тайком, чтоб не заметил кто-нибудь из домашних, следить за Туникой, любовался ее походкой, смотрел на ее ноги, такие тоненькие и стройные, как молодые березки. Я был бы несказанно счастлив, если б мог еще раз коснуться рукой ее крепкого тела. Я просыпался по ночам, а засыпая, чувствовал на своей груди прикосновение ее грудей, двух персиков, которые тогда скользнули по моему телу; я трогал их и, охваченный блаженством, спрашивал себя: «Когда ж это они у нее выросли?»
Я видел, как на лугу она поднимала руки к лицу, словно пытаясь защитить его от солнца, потом проводила ладонями по щекам и начинала петь. Она пела о парне, о речке Савице и о несчастной девушке, у которой разорвется сердце; а я представлял себе, как она поет эту песенку у нас на кухне, и твердо решил вызнать у матери, что она собирается делать с землей.
Тем временем люди стали поговаривать, будто Штрафела совсем у нас прижился. Как-то корчмарка поставила передо мной четверть вина и спросила без обиняков, при всем честном народе:
– Как вы со Штрафелой управляетесь?
Она не назвала его зятем, свояком или еще как-нибудь, но просто Штрафелой.
– Только мне и заботы что о Штрафеле! – ответил я, чтобы отделаться от нее и сохранить спокойствие. Взгляды всех были обращены на меня.
Но корчмарка, высокая и дородная баба, говорившая с чуть заметным немецким акцентом, не собиралась отступать. Она насухо вытерла передо мной стол и закручинилась:
– Что поделаешь, Южек, всякое бывает, может, обойдется!
Она вроде бы жалела меня! Как будто родная тетка говорила с малым ребенком! А уж она-то меня знала и отлично понимала, что Штрафеле я не подчинюсь. Поперхнувшись, я осушил стакан, но промолчал.
– Да и что парню делать дома? – вмешался корчмарь; он почувствовал, что обстановка накаляется, и решил сказать свое слово: – Поедет ремеслу учиться. Вот обществу фигу и покажет. После войны всегда людей не хватает, которые эдак вот умеют.
Он вытащил ладони из-под передника, где всегда держал их, и сделал движение сперва как будто строгает, а потом постучал кулаком по столу и по ладони левой руки, словно кузнец молотом по наковальне.
Все смеялись, я не понял чему – надо мной или над корчмаревой шуткой, меня и самого душил смех, но артельщик Матьяшичей захихикал и скороговоркой, как зазывала, выпалил свою присказку:
– Хи-хи, да-да-да, все ребятки теперь будут говорить, как партизан скажет, и плясать станут под партизанову дуду!
– Что? Какой партизан? – спросил я, глядя на него исподлобья.
– Штрафела, Штрафела, дорогой мой, теперь он у тебя всем заправлять будет, да и у нас тоже. Умного зятя твои сестрички подцепили. Да-да-да… Францла, господь упокой его душеньку, похоронили, Лизика пристроилась, кому-то надо на себя хозяйство принимать…
Он не успел закончить своих причитаний, а я разделаться со своей четвертью. Вскочив, я швырнул стакан ему под ноги. Но тут же овладел собой. Меня била дрожь, и я с трудом сумел нащупать деньги в кармане, чтоб расплатиться.
– Господи Иисусе, – закричала корчмарка, – да ты порезался!
Она велела служанке принести бинт, йод и воду, но я отмахнулся от нее и ушел.
– Южек, Южек, – кудахтала она мне вслед, – до чего ж ты ожесточился. Только во вред тебе это пойдет, вот увидишь, во вред…
Я перепрыгнул через ручей и ушел в поле. Стоял жаркий воскресный полдень, и потрескавшаяся земля исходила зноем. Я шел, гладя рукой налитые колосья, и только через некоторое время, почувствовав боль в руке, заметил за собой кровавый след. По ладони текла кровь, и мне стало жалко самого себя.
Господи, я не знал, что делать, как себе помочь. Я и раньше, когда Францл был жив, порой, хоть и не часто, подумывал о земле; меня задевало, что она достанется ему только по той причине, что он увидел белый свет раньше нас, в то время как нам, мне и сестрам, придется покинуть родной дом. Однако больше здесь, пожалуй, было зависти, нежели злобы; так уж повелось в мире и поделать ничего нельзя – слишком нас было много. Что касается сестер, то их будущее меня мало беспокоило: они выйдут замуж, одна из них сможет остаться дома незамужней теткой, работа ей всегда найдется; но мне, второму мужскому чаду, – вновь и вновь это казалось мне несправедливым – придется уйти из отчего дома. Теперь все обстояло иначе. Францла больше не было на свете, я стал подумывать о Тунике, младшей дочери Топлеков, у которой тоже не было иного выхода, как уйти из дома. И хотя смерть Францла была тяжким несчастьем для матери, для всего семейства и для нашего хозяйства – женщины отчаянно голосили на похоронах, да и у меня текли слезы, – для нас, оставшихся жить, было лучше иметь одним ртом меньше в доме, а особенно – теперь я могу тебе в этом признаться, эх! – для меня. И почему-то за одну ночь меня всерьез обеспокоила судьба нашего хозяйства.








