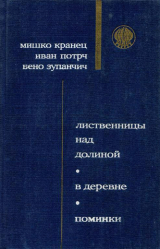
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– Чего слова не скажешь?
– Ух, – в тон мне воскликнула она, приподнимаясь и держа в одной руке скамеечку, а в другой – подойник, и, заглянув в подойник, сказала: – Господи, ну вот и подоили, что называется!
Я смотрел на нее со всей злобой, на какую был способен, нутро у меня словно превратилось в камень, а она выпрямилась и безмятежно глядела мне в глаза, невозмутимо, точно в эту минуту дойка была ее единственной заботой, занимавшей все ее помыслы. Мне было хорошо видно ее лицо, она теперь вышла на свет, а его выражение оставалось будничным, покойным, только, пожалуй, чуть озадаченным, как будто она собиралась осведомиться, не кружится ли у меня голова и что тому причиной. Я готов был взвиться к потолку.
– Подоили? – выжал я из себя.
– Сам убедись! – С этими словами она сунула мне под нос подойник. – Смотри!
И я увидел в молочной пене листик, хотя вовсе не смотрел в ведерко – я не сводил глаз с ее лица. Мне хотелось вырвать у нее из рук эту посудину, вылить молоко, о котором она так заботилась, точно ничего больше в мире не существовало, но тут я заметил, как щеки у нее надуваются и лицо расплывается в улыбке.
– Дурачок, – только и сказала она.
Я стоял пень пнем и смотрел на нее, не зная, как реагировать.
– Ты думаешь, это так просто?
– А на что Цафутовка? – простонал я, имея в виду бабку-повитуху, понимавшую толк в подобных делах.
Говоря это, я почувствовал, что гнев мой проходит, а взгляд становится умоляющим. Ведь только ей, Хане, и дано было теперь все это распутать.
– Сейчас, когда всему приходу известно…
– Кому известно? – Я был ошарашен.
– Кому? – Она долго молчала, видно колеблясь, говорить ли, и выложила: – У Плоев спроси! У девчат…
– Невтерпеж было тебе!
Я начинал бушевать, а Хана оставалась невозмутимой.
– Это тебе, мой милый, было невтерпеж! – не моргнув глазом ответила она.
– Ты как Зефа!
– Я ее дочка и есть, а яблочко от яблони…
Такой насмешки я уже не мог снести и кинулся прочь. Грабли все еще были у меня в руках, я тыкал ими в грязь, словно не зная, как с ними поступить. И мне самому некуда было деваться – в хлеву потешалась Хана, в доме без передышки кричала девочка, словно рядом с ней никого не было – во всем божьем мире для меня места не находилось.
Хана показалась мне страшной. Что я в ней увидел? Что застило мне глаза? Хотелось завыть во весь голос, разорвать самого себя на куски, но даже этого я не мог сделать. Я посмотрел на дом – огромная продолговатая глыба, только и выжидавшая, чтоб обрушиться на меня, – а я словно пустил корни в землю: с места не мог сдвинуться.
В доме почти не разговаривали между собой. Такого напряжения еще не бывало. Топлечка большую часть дня проводила возле ребенка, качая зыбку, но малютка криком кричала – порой я думал, что она отдаст богу душу от крика. Туника молчала еще упорнее, чем прежде, и избегала всякого общения с нами. Только Хана шумела и пела, словно счастье переполняло ее оттого, что она забрюхатела. Однако признаков того, что в доме обратили внимание на ее состояние, я не замечал: я страшился Топлечки. И хотя она продолжала дурить, я думал, у нее не хватит сил выдержать, узнай она об этом. Мне жутко было думать, что для самой Ханы безразлично и даже приятно, чтобы все прослышали о ее положении. Но если в доме ослепли, то у соседей глаза были зоркие. Первыми поинтересовались Плоевы дочки.
– Ой, Южек, какой ты усердный! – крикнула Аница, завидев меня однажды с другого берега речки, и весело засмеялась.
Я корчевал ольховые пеньки и насмерть перепугался, услыхав ее слова, наверное, она была на Гомиле, потому что путь ее лежал через наш участок.
– Ну чего ты, – только и сказал я, поправляя рукавом волосы, упавшие мне на глаза.
– Ты вообще усердный, – повторила она и опять засмеялась.
Кровь бросилась мне в лицо. Должно быть, я растерянно пялил на нее испуганные глаза, потому что девушка произнесла, как будто в утешение:
– Ничего, Южек, ведь не тебе, а Ханике придется зыбку качать, а уж ее мать выучит.
И, захохотав, пустилась бежать, размахивая узелком, который несла от портнихи или откуда еще, а я только рот разинул ей вслед; добежав до бревнышка и оглянувшись на меня, не удержалась и крикнула:
– Но бог троицу любит, Южек, троицу!
Я вонзил мотыгу в землю и выругался. Что мне еще оставалось делать – эта проклятая Плоева дочка так коварно мне отомстила.
Я понял, что на деревне всем все известно. Возможно, Хана сама об этом раззвонила – кому ж еще. Я готов был растерзать ее, но не сделал этого – женщины вновь принялись изводить меня.
На свете нет ничего, наверное, надоедливее и скучнее зимы: люди хлещут вино и режут поросят, лущат кукурузу и тыквенные семечки, перебирают картофель в погребах, и варят помои для свиней, все друг у друга на виду, некуда податься, на дворе делать нечего, только и остается, что целыми днями двигать челюстями, и наливать брюхо вином, заплывая жирком, как, кабанчик, да слоняться по дому, разевая рот на баб, – иных забот вроде и не остается.
Какое-то время нам еще, удавалось избегать друг друга, злиться и дуться, но вскоре все переменилось: точно зимнее безделье превратило нас в других людей. Раньше я изредка покуривал, а теперь тянул не переставая; все, что попадалось под руку, переводил на самокрутки. Глубоко затягиваясь дымом, я коротал время на кухне, где стряпали Хана с Туникой. Топлечка оставалась при ребенке, качала зыбку и что-то вязала или шила. Частенько, чаще, чем было нужно из-за молока или каши, она выскакивала в сени или на кухню, озабоченно вглядывалась в огонь, точно на ней лежала забота о нем, обводила взором помещение, как будто что-то искала, платок у нее был опущен на самые глаза и она без устали приказывала и отчитывала дочерей, меня она не замечала. Иногда, если она слишком долго задерживалась на кухне, я не выдерживал, вставал, покидая свой уютный уголок, и уходил в хлев или к себе в каморку. И постоянно ждал: вот-вот она начнет скандал с Ханой, уразумев наконец, в чем дело, однако этого не случалось. Хана, судя по всему, дома молчала, а на люди Топлечка теперь не показывалась – соседи нас сторонились. Когда в ту зиму я по воскресеньям отправлялся в город, мне непременно навстречу попадалась Топлечка: в числе первых она возвращалась с мессы. И мы перебрасывались словечком-другим. Однажды она только и спросила, не пойму, по какой причине: «Что ребенок? Плачет?» Счастье еще, что мы встречались не на глазах у людей, иначе б не миновать смеха и оговоров.
Перед святками, когда мы по второму разу кололи свиней, мне часто выпадало оставаться до поздней ночи на кухне: то приходилось очистить несколько корзин кукурузы, то помочь спрятать вяленое мясо, то нарезать и засолить сало. В подобных случаях по обычаю никто словечка упрека не произносил о выпивке, и у Ханы каждый вечер был наготове кувшин с вином. Она брала посудину, сама спускалась в подвал и потом ставила передо мной, как будто я один только в доме и пил. И кидала Тунике:
– Поджарь ему шкварок.
Туника брала большой брус бело-розового сала, вырезанного мною из туши, крошила его и бросала на сковороду, и вскоре шкварки затягивали свою песню. Когда они становились почти черными и квакали на всю кухню, она ставила их передо мною, положив рядом кусок хлеба и нож.
Я со смаком, кусок за куском, управлялся с ними, медленно жевал, запивая вином. Девушки хлопотали у ведер и очага, суетились. Стояла зимняя пора, и обе были тепло одеты. Украдкой я оглядывал Хану, не видно ли чего. Я не могу тебе даже сказать, что́ я испытал бы, если б вдруг ненароком, когда мы оставались вдвоем и я пронзал ее своим взглядом, она бы обернулась, заметив мой растерянный взгляд, и со смехом, весело, как только она одна и умела, бросила бы: «Разве ты, бедный, не видишь, что шучу я, шучу?» Но ничего подобного не случалось. Поэтому по вечерам, когда я вот так рассиживался, меня все больше и больше стали волновать девичьи ноги, которые я видел, когда сестры нагибались и готовили корм для свиней; меня волновали их открытые руки – у Ханы они были крепкие, полные, – круглая шея, кудрявые пряди, выбивавшиеся из-под платка; а женские бедра просто сводили с ума. Хана привлекала меня, я не сводил с нее глаз, оглядывая ее со всех сторон, в то время как, должен признаться, Туника таких мыслей не вызывала: она была худенькая, мелкая и какая-то неласковая, о ее некрупных, спрятанных глубоко в разрезе кофты грудях только и оставались смутные воспоминания.
Однажды вечером – мы втроем засиделись допоздна – сперва Туника начала зевать во весь рот и вскоре отправилась к себе наверх спать, а за нею последовала и Хана, бросив меня в одиночестве – даже доброй ночи не пожелала, свет потушить не наказала, будто меня и не было в кухне: я еле удержался, чтоб не хватить кулаком по столу. Несчастный и бесконечно обиженный, поплелся и я к себе. Начал раздеваться, даже разулся, и внезапно уселся на кровати – всякий сон прошел да и гнев миновал, – я снова натянул башмаки, напялил одежду и, стараясь не шуметь, выскользнул в сени. На миг я застыдился, что уступил, не выдержал, но потом вовсе перестал об этом думать. В сенях я остановился, прислушался, не даст ли знать о себе Топлечка, однако было тихо, даже собственного дыхания я не слышал. Тогда на цыпочках, беззвучно, я стал продвигаться к горнице, нащупывать дверную ручку, которая куда-то запропастилась, и только было ее нащупал, как тут же и выпустил – у Топлечки заплакал ребенок. Скорчившись в три погибели, я стоял неподвижно и отошел от двери, только заслышав равномерное поскрипыванье зыбки.
Какой дьявол гнал меня к ней? Отчего, господи милосердный, взбрело мне в голову отправиться к ней и попытаться оправдаться? И ужас объял меня при мысли, какой хай она могла устроить после долгих проведенных в молчании недель.
И вновь я оказался в сенях, вновь я стоял, окруженный тишиной, которая в этом доме, в этих вот самых сенях меня давила, я стоял и чего-то ждал. Но ведь я отлично отдавал себе отчет в том, куда я направился – к ступенькам, ведущим наверх.
Там мне не доводилось бывать, не столько из-за громко скрипевших разболтанных ступенек, сколько из-за Туники, – с Ханой мы побывали повсюду, только там, в комнатке под крышей, я не показывался. Поэтому в ту ночь, памятуя об этом, я и стоял в сенях, переминаясь с ноги на ногу, как будто собирая все свое мужество.
Перестала поскрипывать зыбка, установилась еще более тягостная тишина, и я скользнул к кухне, оттуда к лестнице и по ней, поверх этого ужасного скрипа. Но миновало и это, царило безмолвие, даже девочка успокоилась. Я оказался перед дверью в верхнюю комнатку, нащупал ручку, медленно-медленно нажал на нее и отворил дверь. Лампа – непонятно почему, я до тех пор, пока не открыл дверь, не замечал никакого света – горела на тумбочке возле постели: позабыли привернуть фитилек, и она сама собой догорала, стекло покрывал толстый слои копоти. Я прикрыл дверь и остановился. Одна из девушек, это была Хана, она спала лицом к Тунике – у сестер была общая постель, – повернулась к свету, спиной к сестре. Я улыбнулся, чтобы не напугать ее со сна, однако она лишь натянула на себя пестрое одеяло, что-то невнятно пробормотала и продолжала неподвижно лежать, даже веки не разомкнула. Я подошел поближе, сохраняя на лице свою дурацкую улыбку, и, оказавшись рядом о кроватью, хотел было коснуться ее, Ханы, разбудить, чтобы Туника не проснулась, и остолбенел – горло у меня сдавило, сердце безумно заколотилось, я отчетливо услышал его бешеный стук, и мне стало куда тяжелее, чем было только что, когда я стоял на расхлябанных ступеньках и дрожал при малейшем их скрипе. За спиной у Ханы, в тени, отбрасываемой лампой, я увидел обнаженную грудь Туники, которая, подобно округлому румяному яблочку, выглядывала из выреза рубашки. Я уставился на эту плоть, которую открыла мне, перевернувшись во сне, Хана, уставился на маленький темный сосок и почувствовал, что последние остатки разума меня покидают, боль пронзила мою собственную грудь, я перестал дышать, чтобы не разбудить их своими вздохами, я удерживал дыхание, пока у меня хватало сил, а потом вдохнул протяжно и глубоко, и внутри у меня все оборвалось.
И я услышал возглас перепуганной Ханы:
– О господи! Ты что, лунатик?
Я увидел ее широко раскрытые, устремленные на меня глаза – кто знает, когда она их открыла. Она прикрыла Тунику одеялом и потушила лампу, разом, одновременно. Оттолкнула меня от постели и зашептала:
– Уходи! Господом богом прошу, уходи! Туника проснется. Ты спятил. Как ты смотришь?
Я отступил в сторону и улыбнулся, хотя кругом царила тьма и никто не мог видеть моей улыбки, и шепнул самое глупое из того, что пришло в голову:
– Могла б и сама спуститься.
И сейчас не сумею сказать, просил я ее тогда или упрекал – и то и другое было нелепо: я вел себя точно пастушонок, пойманный на краже кукурузы, которому тем не менее хотелось бы и зерно за собой оставить и трепки избежать. Что поделаешь, такой уж я разнесчастный человек: никак не могу сам себе помочь.
Хана вздохнула – я встрепенулся, не проснулась бы Туника, и поспешил удрать. Не помню, как я спускался, как добрался до своей каморки и, не раздеваясь, улегся. Была зима, а перед моим взором стояли белые черешни так живо и светло, точно пришла весна и точно именно сегодня Туника скользнула с дерева, коснувшись моей груди. «Черешни, черешни!» – кружилось у меня в голове, пока не раздался голос Ханы, увидевшей меня в одежде на постели.
– Мог бы и раздеться. Может, мне еще тебя и разоблачить?
Я начал раздеваться и совсем разделся, но ощущение того, что все, даже Хана, скользнувшая ко мне под одеяло, мне не нужны, не покидало меня.
– О господи, как холодно-то!
Она вздыхала, дрожала, а потом прижалась ко мне, чтобы согреться.
Должно быть, она согрелась, но, сжимая ее груди, я думал о Тунике, я обнимал Хану, но о ней не думал, так что она с досадой заметила:
– Чего куксишься? Мне рожать, не тебе, желторотый!
И перед тем как уйти – где-то на рассвете, когда петухи подали голос, – вздохнула:
– Ну и кисляк ты! Знала б, что ты такой, близко б не подошла. Чего ж тогда приходил?
Как бы там ни было, разбитая любовь склеилась, и Хана изо всех сил старалась ее укрепить, а я не сопротивлялся.
И оказались виноваты те пустые зимние дни, те долгие зимние ночи, когда нечего делать по дому, кроме как потихоньку жиреть, – виноваты в том, что мы с Ханой снова сблизились.
Она заговорила о земле – о том, что должна принять хозяйство, Топлековину, как старшая в семье, и тогда мы поженимся. Поначалу ей с трудом удавалось расшевелить меня, но потом и я стал подумывать об их хозяйстве. Иного выхода мне не оставалось из-за второго ребенка – что бы в противном случае подумали обо мне люди? Про себя я считал, что теперь я попал в крепкие руки и помощи мне больше ждать неоткуда. Такого рода женитьбы у нас в приходе уже случались, так уж складывалась жизнь, если иного выхода не было. Да и все в целом удачно складывалось для замужества Марицы. Ну а о том, чтобы дело не ограничилось разговорами, позаботилась сама Хана.
Все праздники – рождество, стефанов день, до самых трех королей, Ханы не бывало дома. Появлялась она поздно, в сумерках, а то и в полной темноте – дни были короткие, как ломотки яблока, – и заходила сразу ко мне, словно ее не беспокоило, что скажут в доме. А я с каждым днем острее чувствовал, что во всем ей покоряюсь, хотя в голове у меня не укладывалось – неужели может выйти так, как рассчитала и надумала Хана.
Я сидел у себя и услышал, как она вернулась, ждал, вот-вот она заглянет, и вдруг осознал, что сижу-то я, натянув одеяло на голову, закрыв глаза и уши, – ужасно мне это горько показалось, так бы и зарыдал, а отчего не знаю. Не желал я ее видеть, хоть и знал, что придет. И когда она вошла, я расспрашивал ее неспешно, каждую фразу через душу пропуская, не так-то просто было для меня расстаться с родным домом, как ей то представлялось.
– Ладно, пусть Марица к себе мужа берет, но ведь земля-то, Хедловина, должна мне перейти.
Она помолчала, словно обдумывая что или соображая, откуда вдруг ветер подул, и затем резанула:
– От меня отделаться хочешь?
Теперь уже мне приходилось помалкивать, потому что доля правды в ее словах была, однако признаваться мне было невмочь, и так слишком уж я ей поддался.
– Отделаться? – повторил я ей в тон. – А ты себе представляешь, что Зефа устроит. Я так себе и представить не могу, как это она сама отдаст землю. Или ты ее не знаешь?
Но именно об этом Хана не желала ничего слышать, она рассуждала о земле так, будто ее матери, Топлечки, не существовало на белом свете. Теперь она уже не шептала, а кричала чуть ли не в полный голос. Сперва меня это беспокоило, ведь Топлечка всякое могла выкинуть, могла ворваться к нам, но потом я успокоился – даже лучше, пусть слышит. Эх, менее всего я предполагал, что мое равнодушие с жестокой силой ударит по башке меня самого.
Хана рассчитывала на помощь Рудла и его жены.
– Она думает, – рассуждала она о матери, раздраженно толкаясь под одеялом ногами, – будто ее на коленях умолять станут? Рудл уже говорил с Михоричем, и Михорич сказал, что с землей можно дело провернуть.
– Провернуть… – произнес я, подождав, пока она успокоится. Глядя в потолочные балки, я думал о Зефе, о ребенке, которого не должно было бы быть, захоти я принять землю Топлеков, и отодвинулся от Ханы.
А она прижималась ко мне.
– Думаешь, люди станут на это спокойно глядеть? В конце концов… ты и на Тунику прыгнешь, этакий бычок!
Она хихикнула в одеяло, чтоб не было слышно, словно именно теперь шел бог знает какой доверительный разговор, и попыталась меня обнять.
Я перехватил ее руку, положив сверху на одеяло, и отодвинулся еще дальше, к самой стенке.
– Ну вот, уж и словечка сказать нельзя. – И, чуть погодя, справившись со смехом, ляпнула: – Ведь правда, а? Скажи, нет?
Я молчал, словно язык проглотил. Ничего не добившись от меня, она разозлилась, наспех оделась и ушла:
– Дубина южастая!
И вновь мне ничего не оставалось делать, кроме как зажмурить глаза, так что заболели веки, зажать руками уши, чтоб ничего не слышать, ничего не видеть. Но тщетно. Я хорошо знал: в словах Ханы не было правды. И еще одно преследовало меня даже во сне – круглые глазенки ребенка, смотревшего на меня, когда Туника выносила его на кухню: они были ужасно выпученные, и только они одни и были на всем бледном крохотном личике.
Нет, как ни закрывай глаза и ни затыкай уши, помощи мне не ждать, а в доме все шло кувырком, и конец приблизился, прежде чем я сумел пережить утрату родного дома, прежде чем я смог подготовиться к тому, чтобы принять хозяйство на Топлековине. А в то, что мне там доведется хозяйствовать, я так до конца и не мог поверить. И еще – то ли Топлечка в самом деле ослепла, то ли притворялась? Очень скоро и это прояснилось.
Было первое воскресенье после трех королей. Я увидел, как полями шагает Рудл со своей половиной, а почти следом за ними прибежала моя мать, торопясь, как будто боялась опоздать. Я был в тележном сарае, а заметив их, укрылся на гумне – не испытывал я желания с ними встречаться. Я понимал, в чем тут дело: Хана закрутила, надумала, чтоб они поладили между собой, причем договорились сразу обо всем – о моей женитьбе и о замужестве Марицы. А Марица, та собиралась венчаться сразу после сретения. Поэтому теперь вроде бы пошло мое сватовство. Ужасно недобрым мне все это показалось, неправильным, я поторчал на гумне, ждал, как все пойдет, а потом занялся кормами.
Когда раздался голос Ханы – она звала меня, – я не откликнулся. И чем дольше я оставался на гумне наедине со своими мыслями, тем отчетливее понимал, что вся эта история со сватовством и нашей свадьбой, по сути дела, Ханино упрямство. Время шло, а я слышал только глухой голос Рудла. Я думал о Зефе, которая то и дело выбегала в сени, о девочке. Не мог я не думать о них. И до сих пор помню, как утверждался я в мысли, что ничего-то не выйдет из этих Ханиных штучек, если… если… не случится так, как мне она говорила. Должен признаться, тяжко мне было, жаль Топлечки, что таким образом пытаются лишить ее земли.
Но пламя взметнулось над крышей, прежде чем я собрался с мыслями, в доме раздался отчаянный вопль. Судя по голосам, схватились Топлечка и Хана, показалось мне, будто закричал и ребенок. Я бросился в дом и остолбенел точно безумный, не мог отвести глаз, а моему взору предстало, как Хана и Топлечка вцепились друг другу в волосы и орали, а Рудл, его жена и моя мать были в горнице: мать стояла возле печи, Рудл сидел у стола, сестра Топлечки на скамье, красная и разъяренная; они слушали и глядели.
Я не знал, куда мне сунуться, – ссору начала Хана: значит, все выплыло! Начала из-за земли – что было куда страшнее.
– Вот как, сперва ты ребенка отца лишила, а теперь хочешь, а теперь хотите… – Топлечка сверкала глазами вокруг, а более всего в сторону Рудла и его жены. – Теперь хотите меня земли лишить!..
Рудла тянуло на смех, он открывал рот, но смеха у него не получалось, а жена его и вовсе задыхалась от злобы.
– А ты, баба, или не слышала, – пытался он внушить, – что у нее ребенок будет!
– А у меня его будто нету?
Трудно передать состояние Зефы, а мне тяжело было выносить присутствие матери. Она стояла возле печи, вздрогнула всем телом, когда я вошел, но, словно устыдившись, не поглядела в мою сторону: сложив руки на груди, она покачивалась, непрерывно кивая кому-то с таким видом, будто в голове у нее не укладывалось, как это ей приходится наблюдать и выслушивать подобное в чужом доме. Очень мне было гадко.
Женщины высказали друг дружке все, что накопилось на сердце. Топлечка кричала первое, что шло на язык. А я в разгар скандала вдруг заметил – в комнате нет Туники. Я озирался по сторонам, боясь увидеть ее, и ощутил от этого дьявольскую радость, я не мог сообразить, дома она или ушла в город, слишком уж я был не в себе.
Топлечка позеленела, уменьшилась, словно бы сразу потеряла половину своего веса, она как-то странно забрасывала назад вытянутые руки, точно вот-вот собиралась всех выставить на улицу. Я опасался, как бы она не кинулась на Хану, а та непрестанно твердила, пусть, дескать, она не думает, что все в доме будет по ее, она, мол, должна наконец понять, что у детей есть такие же права; она говорила, то и дело поглядывая на дядьку и его жену.
– Верно ведь я говорю, дядя? Мама, хоть одно разумное словечко выслушайте!
Хана держалась спокойно и говорила невозмутимо, на удивление разумно, такой я ее никогда не видел.
Дядя сперва кивал, а потом разом как-то скис, уселся потверже на стуле и пододвигался вместе с ним ближе к столу и к жене, словно все-то ему надоело.
Топлечка, однако, не давала ему вставить слово.
– Не думайте, – кричала она, – что эта стерва, эта мразь отнимет кусок хлеба у меня или у моего ребенка. Попробуйте только это сделать – на душу тяжкий грех примете!
– А кто виноват, убогая ты баба! – не совладав с собой, выкрикнула жена Рудла.
– Убогая? – Топлечка поперхнулась и в сердцах поглядела на нее, всхлипнула, обхватила голову и, закрыв лицо руками, зарыдала, упав на кровать, зарылась лицом в одеяло.
Было время, когда она вызывала у меня жалость, сейчас я жалел ее иначе, чем раньше, при немощном муже: теперь она была сломлена и растоптана и потому вызывала у меня боль.
– О господи, несчастное мое дитятко, что ты натворил? – простонала мать и заломила руки, как в церкви, призывая господа на помощь.
Хана прекратила свои урезонивания.
Я был бы самым счастливым человеком на свете, если б не было у меня никаких дел с Топлечками, с их землей, ничего больше не пожелал бы я себе, если б это было возможно. Но это было невозможно: ливнем и градом обрушилось все на мою голову. И избежать этого было нельзя. Правда, пока никто не обращал на меня внимания, как будто меня тут и не было, но я себя чувствовал так, словно скакали по моему собственному телу.
Здесь послышался плач младенца – она всегда подавала голос некстати, впрочем, может, она и прежде кричала, да только никто не слышал. Я опять подумал о своей матери – не могу передать тебе охвативший меня ужас. Топлечка умолкла, прислушалась, потом стремглав бросилась к себе и выскочила обратно с ребенком на руках. Она несла малышку в одной руке, будто хотела кому-нибудь передать или швырнуть, она была страшной, глаза безумно сверкали, взгляд блуждал по комнате, похоже, все смешалось у нее в голове; малютка орала во всю мочь, сучила ножками и совсем раскрылась. Рудл вскочил, никто не успел ничего сообразить, как дверь отворилась, в комнату влетела Туника – и откуда она взялась? – выхватила у матери ребенка и, крикнув: «Вы с ума сошли!.. Могли бы потише!», выбежала вон из горницы.
– Куда только Францл смотрел! – вздохнул Рудл, вспомнив покойного брата.
– Забыл, что ли? – обрезала его Топлечка. – Сами меня повесили ему на шею. А что я от него видела?..
И вновь пошли стенания, которые были мне знакомы и на которые я научился не обращать внимания, однако все прочее, происходившее на глазах у родственников и моей матери, казалось мне жутким. К Топлечке теперь у меня не было жалости, она вызывала ужас. Сердце у меня разрывалось на части, не могу передать, как мне было жаль ребенка, мой ужас усугубляло присутствие Туники.
В эту ночь у меня пропало желание стать хозяином Топлековины. Хана уговаривала меня пойти к Михоричу и потолковать с ним о Зефе и о земле, но я никуда не пошел: ни за какие деньги не хотел я слышать еще раз вопли на Топлековине, я дрожал всем телом, вспоминая о Зефе и о девочке, кричавшей у нее в руках, когда она готова была в кого-нибудь ее бросить. Хана и ее земля с каждым днем становились мне все более чужими, а в доме не смолкали вопли и причитания Зефы, насмешки и оговаривание Ханы, были постоянно заплаканные глаза у Туники, и в довершение ко всему ребенок орал дни и ночи напролет, словно вообще никогда не спал.
Мать у нас больше не появлялась, зато зачастили Марица и Ольга, чего прежде не случалось; они приходили в кухню или в хлев, туда, где возились девушки, пережидали, если случалось напороться на Топлечку, и затягивали каждая свою песню. Ольга морщилась на телят или поросят – зимой мы их брали в дом, в тепло, – а то кружилась по кухне и верещала, что вот у них, у Топлеков, всего вдоволь, а вот мы, Хедлы, дескать, всего лишились при пожаре.
– Легко вам, у вас все есть, а мы еще долго не сумеем встать на ноги. К вам иначе свататься будут.
Словом, они без умолку стрекотали, хоть святых выносила я исходил злобой.
А потом Марица, которую, видно, заставило посерьезнеть приближавшееся замужество – она даже перестала улыбаться, – раздумчиво сообщила:
– Хрватовы говорят, что нечего дальше оттягивать, да и мать согласна. А вы еще чуть подождете, вам можно, а нам больше некуда.
Я призадумался над тем, почему это Марице больше некуда ждать, и хмыкнул, представив себе Хану.
– Южек, – попросила меня Марица, – вы бы с Ханой не пошли ко мне шафером и подружкой, а, Южек?
На это я ничего не мог ей сказать, промолчал. Но не такова была Хана. Она рассмеялась и громко, чтоб услышала Топлечка, бухнула:
– Или я венчаться пойду и получу землю, или шиш под нос! Мне да в подружки идти, чтоб коровы по всей Гомиле хохотали? – И никак не могла угомониться в своем веселье.
Она сказала правду, и Марица от нее отвязалась. Но тут ей пришло в голову, что на эти роли вполне годимся мы с Туникой – не поймешь, чего вдруг ее озарило.
Хана и тут захлебнулась от смеха.
– Чтоб он и третью, Тунику!..
У меня язык не поворачивается сказать, а она все назвала своими именами, она, как кобыла у священника, была лишена всякого срама: и меня в краску вогнала перед сестрами, да и перед Туникой – та выдернула руки из ведра, отряхнула их и вышла из кухни, я побагровел.
– Хана! – готовый растерзать ее на части, я в присутствии сестер лишь сверкнул глазами; вид у меня, правда, наверное, был угрожающий, потому что она бросила горшки и, хотя и с улыбкой, выскочила вон.
Сестрам я ничего не обещал, но себе поклялся: на свадьбе Марицы меня не увидят.
О, если б меня в самом деле там не видели! В ту пору мы могли бы со старым Муршецом клепать и готовить косы, по всей Гомиле пронесся б аромат сена, жевали б мы с ним на обед и ужин свои лепешки… Эх, да все опять по-другому пошло!
Сестрам моим в конце концов удалось уговорить Тунику стать подружкой невесты, так что в то злосчастное воскресенье, когда Марица шла под венец, ее с самого раннего утра не было дома.
Поначалу все было нормально, как обычно бывало зимним воскресным днем. Я пристроился в кухне, там было потеплее, возился с корзинками, заплетал, подвязывал и то и дело поглядывал на Хану, хлопотавшую у очага и стряпавшую – после сретенья она заметно потолстела, – и, не меньше трех раз слышал, как Топлечка спускалась в погреб. Ну и вот, в сумерках, ближе к вечеру, послышались звуки гармоники Чрнка и скрипки Шмигоча. Я переходил из комнаты в комнату, но музыка заполняла все кругом, куда ни кинься, в любом углу слышны были возгласы сватов и задорные песни.
Засветло я подбросил корма коровам, помог Хане накормить свиней и отправился к себе, метался по тесной комнатке между забранным решеткой окном и кроватью, как медведь в клетке, слушал музыку, песни, крики подгулявших гостей, а потом, как был в одежде, улегся спать.
Пришла Хана и, наклонившись надо мной, нашла мою руку, которую я держал на груди, и с силой – мне такое в голову не приходило – положила себе на живот.
– Чувствуешь?
Я только отодвинулся.
– Чего отодвигаешься?
Я вздохнул.
Вздохнула и она.
И велела мне раздеться.
Поначалу мне не хотелось, чтобы она оставалась, но я уступил ей и позволил себя раздеть. В те зимние ночи после святок всем-то у меня была полна голова, только для Ханы в ней не находилось места. Угнездилось во мне что-то, что выводило меня из равновесия, все чаще и чаще прорывался у меня гнев. Гнев оттого, что мои ровесники, ребята, могут развлекаться, а я лишен возможности к ним присоединиться; тоска и грусть оттого, что дома у Хедлов пируют, а я сижу здесь, у Топлеков, поедом ем себя и не хочу, не смею выйти к людям. Я злился на своих домашних – из-за них я попал в такую передрягу, и чувство жалости к себе возрастало.
Перед уходом Хана распахнула окно, и звуки свадебного пира донеслись до меня столь ясно, как если бы пировали под самым моим окном.
– Какая светлая ночь! – воскликнула она, вдыхая полной грудью свежий воздух. – Все белое и словно искрится!
Словно на заре проснулась!








