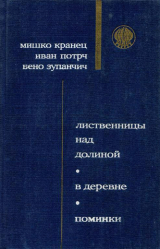
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
И все бы пошло как по маслу – ведь мать меня любила больше, чем сестер; но за одну ночь у нас появился Штрафела, расписался с Лизикой, старшей после погибшего брата, и стал в нашем доме, он, Штрафела, матери предлагать выпивку. Стал выдавать себя за великого партизана и раскомандовался. Люди боялись его, как боялись в свое время жандармов или немцев. Привозили ему лес для нового дома и недобро поглядывали на нас, хотя никто и не сказал ни единого дурного слова. Мне было стыдно. Штрафеле давали лошадей и телегу, он постоянно куда-то ездил. Нередко вместе с ним уезжала Лизика, их обоих, как жениха и невесту или каких-нибудь богачей, возил артельщик Матьяшича. Этот самый артельщик за несколько месяцев до того носил форму прихвостня оккупантов, а теперь тоже считался каким-то отчаянным партизаном, вроде бы одним из помощников Штрафелы.
У людей обо всем этом было свое мнение, да и я отлично разбирался, что к чему, и ничуть не нуждался, чтобы Штрафела и его охвостье вправляли мне мозги, но в деревне Штрафела был этаким божком, он вершил правду, насколько мог и умел ее вершить. Я боялся его – из-за земли нашей начал его бояться – и все больше и больше ненавидел. Штрафела был такой властью, перед которой никто не смел рта раскрыть, даже домашние помалкивали. Он был властью, но уважением в моих глазах не пользовался – я слишком хорошо знал его нутро, да и сестру свою Лизику знал.
Я уговаривал мать что-нибудь сделать, чтоб этот бродяга не отнял у нас землю. За неделю он по крайней мере дважды, а может, и больше, куда-то ездил и всякий раз, возвращаясь около полуночи пьяным, начинал ругаться. Глубоко за полночь ругался и божился, что теперь все выйдет по его, всюду, и у Хедлов тоже. Я спал в клетушке, Рядом с матерью, и слышал, как она доставала четки, как перебирала их зерна, взволнованно, шепотом молилась и приглушенно вздыхала. Я дрожал, так что у меня стучали зубы, но, как я уже сказал, я боялся Штрафелы, и не столько даже его самого, сколько этой его власти; да и мать мне было жалко; и все-таки мне с трудом удавалось справиться с собой.
Мать ездила в город к какому-то адвокату, вернувшемуся из Сербии; но ей только удалось узнать, что сейчас ничего нельзя сделать, надо подождать, пока новая власть достаточно укрепится; а мне казалось, что все попросту боятся Штрафелы. В другой раз мать собрала яйца в курятнике и отправилась в город к родным, в семье у которых был коммунист и партизан. Она вернулась обиженной и заявила, что ноги ее больше не будет у этой родни. Студента она дома не застала, а остальные посмеялись, когда она стала изливать свои обиды на Штрафелу и Лизику. «Несчастный мой сынок, мученик, всего-то ты этого не видишь, – причитала она. – Несчастная наша земля, для чего мы всю жизнь свою на тебя положили, раз теперь тебя у нас отбирают?» Относительно Штрафелы она вызнала, что в городе его не бог весть как жалуют и что студент уже хорошенько отчитал и Штрафелу и Лизику. Что он им говорил, она не сумела узнать, дескать, пусть сама об этом у него спросит.
Я пришел домой и разыскал мать: она в хлеву доила корову.
– Что скажете, мама, – начал я, – как к Штрафеле относятся в городе?
Она даже не повернула головы и долго молчала и, только когда окончила дойку, видя, что я по-прежнему жду, ответила:
– А как можно относиться к бродяге? Сам видишь, всем у него голова полна, только на дело времени никогда не хватает.
В полдень мы собрались за обедом все, кроме Лизики и Штрафелы, даже мать села на свое прежнее, место во главе стола. Когда покончили с молитвой, она поглядела на мою перевязанную руку, но ничего не сказала. В молчании, как немые, съели мы суп, а когда Ма́рица поставила на стол салат и картошку с крошеной говядиной, я не утерпел:
– Мама, скажите все-таки, что вы думаете делать с хозяйством?
Мать продолжала есть, словно не слыхала моих слов, Марица исподлобья взглянула на меня, Ольга заерзала: у нее чесался язык, но она удержалась.
– Мама! – подал я опять голос, пока мы не кончили с обедом.
– Ух как ему приспичило! – взорвалась Ольга. – А кого ты охмуряешь?
– Где уж ему кого-нибудь охмурять! – вмешалась другая сестра, которая не влезала в разговор, если в нем участвовала Ольга. – Его самого охмуряют!
– Кто же? Уж не слыхала ль ты чего? – Ольга взглянула на Марицу, зачерпнула ложкой картофель и положила ложку на край тарелки, чтоб спросить еще раз, перед тем как съесть. – Кузнецовы, что ль? Или корчмаревы?
– Да любые. Может, и из Топлеков кто…
Они разговаривали так, будто меня вообще не было здесь, будто они одни сидели за столом и матери возле тоже не было.
– Где уж Топлечкам! – возразила Ольга и надула губы. – Они еще зеленые.
Ольга засмеялась, облизала ложку и, набив рот, выложила:
– Вот старая б его выучила…
– Девки! – не выдержала мать и запустила ложкой в Ольгу.
А та, словно этого ожидала, проворно пригнулась, и ложка ударилась в стену. Сестры умолкли, но, сдерживая смех, фыркали по очереди, то одна, то другая, пока мать не встала и не вышла – тогда-то они дали себе волю и так разошлись, что прямо валялись от хохота.
– А верно ведь, он такой сосунок! – съязвила Ольга, утирая передником выступившие на глазах слезы.
Я встал, они испугались и выскочили из-за стола.
Вот так обстояли дела у нас дома; меня охватывало отчаяние и порой становилось невмоготу: ведь они были девушки, постарше, чем Топлековы, но все равно, девушки, такие же, как Туника, и потому не смели быть такими. Я чувствовал, будто вся жизнь у меня изгажена, и с испугом думал о том, чему выучила бы меня старая Топлечка. После этого мне нельзя было начинать разговор с матерью о хозяйстве, о том, чтоб меня женили на Тунике и передали отцовский надел. Подчас я даже удивлялся, как такие ребячьи помыслы могли прийти мне в голову, – удивлялся, верно, но в душе у меня все переворачивалось.
После войны в деревне осталось мало мужчин; нас, тех, кто уцелел, просто разрывали на части, когда начинались полевые работы. Да и дома дел было по горло, ведь мы заново строились, однако я пользовался любой возможностью, чтобы улизнуть – от Штрафелы и Лизики, от того ада, который существовал в доме, от скандалов, которые могли разразиться в любую минуту. Я помогал корчмарю, но чаще бывал у Топлеков. Старик, который, собственно, и стариком-то не был – ему было всего-то за сорок, – уже не вставал и высыхал на глазах. «Чахотка его пожирает», – толковали вокруг. Он распластался на кровати в большой горнице, выложив костлявые пальцы поверх красного одеяла, и наблюдал за нами крупными желтоватыми глазами. Эти глаза его да еще длинная черная борода – все, что осталось от прежнего Топлека. Вот она, чахотка, думал я, залезая ложкой в горшок. Никому из сидевших за столом не хотелось говорить. Мы торопливо заканчивали обед, каждый крестился, поскорей хватался за шапку и выходил из комнаты.
– Зефа, Зефа! – чуть слышно звал он жену, приподнимаясь на костлявых локтях – казалось, у него в руках были палки.
Раза два я ездил к священнику, однажды меня послали за врачом. Я вез его в коляске корчмаря и именно в корчме, где доктор остановился промочить горло, узнал, что Топлеку недолго осталось жить, потому что он «обызвествился».
– Чахотка, да? – спросила корчмарка, поднося доктору чарку.
– Да, сударыня, – отвечал тот нагибаясь, потом сделал глубокий вздох и громко чихнул. – Меня, сударыня, тоже прихватывает.
Корчмарка возразила, что ему-то опасаться, нечего – вон какой круглый да румяный, и озабоченно спросила:
– Неужто в самом деле никак помочь нельзя? Может, в больницу его положить?
Доктор похлопал себя по карманам, сунул ей деньги, а я, собираясь хлестнуть кобылу, успел заметить, хотя сидел впереди, как он пожал плечами и наполовину по-немецки сказал:
– Sache, die ist zu spät, ist zu spät, госпожа Плой. Das ganze System ist wie ein Zement geworden[7]. Все у у него в желудке обызвествилось. Кто ему даст новый желудок?
Я сделал вид, будто ничего не слыхал, будто ничего не понял, и так натянул вожжи, что кобыла затопталась на месте.
В городе я купил лекарств, какую-то микстуру и отвез Топлекам. О словах доктора я никому не сказал – я имею в виду тогда не сказал; потом-то рассказывал. И рассказывал, когда словечка не смел о том проронить, а вот проронил. Теперь-то мне понятно, почему я здесь…
…Хедл опять выругался. Я испугался, что он перестанет рассказывать. Но он положил под голову руки, поглядел в потолок и неожиданно заговорил:
– С тех пор не проходило недели, какой там недели, почти дня не было, чтоб я не ходил к Топлекам и как-нибудь им не помогал. Должен признаться, что поначалу я ходил туда, надеясь уйти от того, что творилось у нас дома, от Штрафелы и Лизики, но, пожалуй, с большей охотой еще и потому, что чувствовал себя там желанным гостем – ведь Топлечка каждый день меня приглашала.
Хозяйка кружилась вокруг меня, а когда останавливалась, сложив на груди руки, выплакивала мне все свои беды и обиды.
– Господи, Южек, что бы мы делали без тебя. Мужику стоит только разок руку приложить, и дело сделано; а нам, женщинам, одним ничего не суметь. Какое счастье Хедловой выпало, что у нее такой работящий парень, и Францл тоже, господи упокой его душеньку, был работящий. Господи, ему бы еще пожить…
Я колол дрова, отбивал косы, готовил плуг и телегу к пахоте или на лугу перед домом косил траву для свиней, и все время чувствовал на себе пристальный взгляд Топлечки. И хотя мне нравилось, что меня хвалили, сейчас я не мог избавиться от какой-то мучительной неловкости – слишком уж она крутилась возле меня. А может, это мне только казалось. Однажды вечером, после ужина, когда я собирался совсем уходить, Топлек приподнялся на локтях и сказал:
– Приходи к нам опять, Южек! Мы тебе за все заплатим, в долгу не останемся, было бы дело сделано. Ох, только бы мне на ноги встать! Налей себе, выпей! Зефа, бабы, чего ждете? Налейте ему стакан! Хана!
Он так разволновался, что тут же без сил повалился обратно на постель.
Я улыбнулся, чтоб показать, как мне хорошо, и чтоб успокоить Топлека; потом быстро осушил стакан, хотя пить при больном мне не хотелось.
– Господи, да придет он, – ответила Топлечка вместо меня и повернулась в мою сторону. – Куда ж нам, бабам, без него деться, господи помилуй!
Больной закашлялся, словно хотел избавиться от мокроты или захватить побольше воздуха; Хана встала, собрала посуду и сказала:
– Да придет он, чего вы слюни распустили, придешь ведь, Южек?
Она толкнула меня, проходя мимо с посудой, и засмеялась. Вела она себя как молодая озорная хозяйка. Вот так и стал я только по вечерам уходить домой; иногда даже глубокой ночью, и начал подумывать о смерти Топлека. «Обызвествился», – вертелось у меня в голове. И неизвестно откуда возникла мысль о хозяйстве Топлека – хоть бы никогда ее не было! Топлек дышит на ладан, не сегодня-завтра умрет, «обызвествился», а земля останется. Да, а что будет с его землей – это вдруг почему-то меня заинтересовало. Как поступят женщины?
Я остановился у ручья, закурил, потом вступил на мостик и замер у перил; послушал журчанье воды, куда-то спешившей, вынул цигарку изо рта и стал плевать в воду.
Вспомнил о Тунике, но почему-то поскорей отогнал эту мысль. Ведь Туника была ребенком, она только что кончила школу. А не захочет ли Топлечка во второй раз выйти замуж? Она казалась мне слишком молодой для того, чтоб уступить землю. Да и кому ее уступить? Ханике? Но и Ханика, старшая дочка, не созрела для замужества, хотя и была года на два старше Туники. О Хане я никогда не думал. И сейчас тоже не стал. О ней я не мог думать, мне это казалось нехорошим, из-за Туники. К тому же Хана водила тесную дружбу с моими сестрами, с Марицей и Ольгой. Им бы все сразу стало известно, и сестры развлекались бы с утра до вечера, отпуская шуточки по моему адресу. Короче говоря, все представлялось мне довольно запутанным. В одном только я был твердо убежден, когда ступил с мостика и заговорил с луной, поднявшейся над нашим домом, в том, что на той стороне оврага есть земля, и женщины не смогут сами, без мужчины, на ней управляться.
На вершине холма я остановился и оттуда посмотрел на долину, залитую лунным светом; мысленно шел я от дома к дому, испытывая тихую радость оттого, что нигде не сумел обнаружить ни парня, ни мужика, который мог бы прийти к Топлекам. Была война, были немцы, и все мужчины старшего возраста исчезли. Я снова крикнул. Пусть Штрафелу мучают дурные сны! Меня охватило невыразимое упрямство, озорство и буйное юношеское веселье.
Незаметно подошла жатва. Лето было жаркое и сухое, воздух звенел от зноя. Женщины так проворно работали серпами, будто они поспорили, какая из них первой пройдет свою полосу; казалось, что по полям бежал ветерок. До обеда впереди шли наши, после обеда, который принесла Топлечка, вперед вырвалась она.
– Южек, поднажми, – то и дело окликали меня.
До обеда мне удавалось относить снопы к балке, близ которой старый Муршец и Туника ставили копны, но потом я еле поспевал затачивать серпы.
Пока я точил серп, Топлечка связала сноп, отбросила его и сделала новый жгут, потом, выпрямившись, ожидала меня. Сделала пару взмахов и сказала:
– Хорошо, черт, наточил!
– Он так заточит, что серп сам собою режет, – похвалила меня Муршецова, помогавшая в поле.
– Каково парень точит, таково и любит, – раскрыла рот Марица.
– Ну это ты зря так о Южеке! Откуда ему знать, что такое любовь!
Это Ольга поспешила высказать свое мнение – сказала, засмеялась – и за работу.
Я покраснел. Туника собирала снопы, захватывая по два, и с трудом волочила их к копне.
– У меня вон острый, как черт! – сказала Топлечка.
– Вот оно и видно, кто кого любит! – расхохоталась Ольга.
Не будь она девкой, и к тому же моей сестрой, не знаю, что бы я с ней сделал. Я подхватил снопы и потащил их к балке, но Марица, давясь от смеха, пустила мне вслед:
– А ты уверена, что она его уже не выучила…
Она намекала на Топлечку. Я притворился, будто ничего не слышу.
Вот такие они были, мои сестры!
Перед самым обедом раздался крик Ханы, звавшей мать.
– Чего тебе? – недовольно спросила та.
– Отец вас зовет, – донеслось из-за деревьев.
Я видел, как женщина в сердцах обвязала сноп, сердито поставила его, воткнула серп и тяжелой, но быстрой походкой ушла. На краю поля она окликнула Тунику. Перевязала платок, и тут только я увидел ее багровое, покрытое черной пылью лицо.
Не знаю почему, мне стало жаль ее. Может, из-за прикованного к постели человека, который считался ее мужем; в ту минуту я был полон сострадания к ней. Остановившись, я смотрел им вслед.
А чуть погодя сестры опять расхохотались, Ольга прямо-таки зашлась от смеха. А старая Муршечка громко им выговаривала:
– Эх, девоньки, несчастная она и страдалица. Не надо так смеяться над ней – никогда ведь не знаешь, что тебя самое впереди ожидает.
Старый Муршец поставил ногу на сноп, зажег трубочку и рассудил по-своему:
– Это настоящая кобылица, Южек, такая бабенка жеребца выдержит, поверь мне. Одного уж довела. Смотри не подходи к ней слишком близко, как бы не лягнула ненароком. А ноги у нее крепкие, что твои сосны…
Он говорил, то и дело сплевывая далеко в сторону на жнивье.
А в полдень – жарища была невыносимая, и все мы тщетно пытались погасить жажду питьем – Топлечка нагнулась, и я увидел ее ноги, крепкие, красные и вверху под юбкой на удивление полные.
IV
Не хватало у меня сил помочь себе в беде, что внезапным и страшным образом обрушилась на мою голову; и по сей день все живо стоит перед глазами, все до последней мелочи, словно случилось вчера или только что, у меня на глазах.
Меня вдруг стало преследовать то, да что прежде я никогда не обращал внимания, словно вдруг открылось нечто до тех пор не виданное и не примеченное; конечно, изредка кое-что долетало до ушей, но пролетало мимо, не задевая, не останавливаясь…
Дома я жил и рос почти в окружении женщин; отца лишился давно, его похоронили, когда я еще не ходил в школу; мы с покойным братом были единственными мужиками в доме и могли видеть все, что там происходило, Как раздевались и одевались сестры, как переодевалась мать: натягивала через голову свежевыстиранную отглаженную юбку, а потом опускала на пол старое ношеное белье, непременно повернувшись при этом лицом к кровати, а к нам с Францлом спиной; как причесывались женщины, как выставляли нас с братом из горницы, когда мылись или «чистоту наводили», так насмешливо я пренебрежительно называли мы эту их церемонию; мать так не поступала, сестры ввели такую моду. Помню, я однажды до того разозлился, когда они заперлись в доме, свои от своих, что с разбегу навалился на дверь и ей-богу сорвал бы ее с петель, если б не раздался отчаянный визг Лизики или кого-то из них – я мгновенно пришел в себя и убрался восвояси; мне этот визг слышался повсюду, такой он был пронзительный. За эту шалость мне досталось не только от матери, но и от бабки, вообще-то относившейся ко мне с большой нежностью. После ужина, когда все помолились и мы с бабкой остались одни – сестры в тот день по обыкновению выкаблучивали и поспешили убраться на кухню, – она не велела мне задевать сестер или девиц, как она сказала, если они захотят остаться одни.
– А вот буду! – заупрямился я с такой идиотской бездумностью, что бабка рассердилась.
– Ступай с глаз моих вон, пакостник! – вдруг крикнула она, что вообще редко с ней случалось, и указала мне на дверь, причем так решительно и строго, что зерна ил ее четках дробно застучали.
Однажды, я хорошо помню, как это случилось, Лизика ехала на возу со свежескошенной травой, и на косогоре воз перевернулся. Медленно опрокидывалась телега, на которую под сено нарастили высокие борта, и Лизика летела рыбкой; она упала на руки и, перекувырнувшись, обнажила свои телеса.
Старуха Муршечка, шагавшая следом, всплеснула руками и призвала на помощь пресвятую деву Марию и господа нашего Иисуса Христа, а сестры, также оказавшиеся сзади, ойкнули по очереди и залились безудержным смехом. Я остановил коров, повис на заднем колесе всей тяжестью и, помню, все время ругался, потому что пока я поднимал телегу, сестры кудахтали и хихикали, точно дурочки какие, вместо того чтобы помогать мне. Бледная как смерть Лизика вдруг залилась краской. Она торопливо оправляла платье, озиралась и оглядывалась по сторонам, а дальше пошла пешком; охота забираться наверх пропала. Муршечка то и дело наклонялась к Лизике и что-то шептала, то с насмешливой, то с сочувственной миной на лице. Они так всполошились, будто опрокинулась невесть какая графиня.
– Вот дурные бабы! – бурчал я, погоняя коров; мне даже глядеть на сестер не хотелось.
Но теперь, после той жатвы у Топлеков, я стал частенько глазеть на женщин. Но только не на Тунику – ее я почему-то стеснялся. Однажды, когда мы возвращались от мессы и сестры Топлечки нас обогнали, Шмигоч толкнул меня локтем в бок:
– Глянь-ка на этих! Хана вот-вот поспеет для огуливания, а молоденькая – он имел в виду Тунику – совсем еще телочка!
Я провожал взглядом каждую женщину; но перед глазами чаще всего вставала сама Топлечка, то есть Зефа. Сперва я смотрел на нее с жалостью, вспоминая о больном Топлеке, одолеваемый любопытством, каково-то ей, еще молодой женщине, терпеть рядом немощного; но опять-таки поначалу, кроме разве того случая в поле, я не видел в ней женщину. Она казалась мне чем-то вроде нашей матери, постоянно одолеваемой заботами о детях, о хозяйстве, – у Топлечки к этому прибавлялись заботы о хвором муже. Собственно, из-за Топлека я и стал ходить на работу к ним, пришел и на молотьбу.
Она появилась из боковушки, держа в правой руке каравай хлеба и большой кухонный нож, а в левой – флягу с водкой, поглядела на хлев и, прежде чем выйти на гумно, где мы томились с самого утра, спросила:
– Хана, а ты корову подоила?
– Да, мама, – громко и отрывисто, как прилежная ученица строгой учительнице, ответила девушка, стоявшая с другой стороны молотилки.
– А молоко процедила?
На это ответа не последовало.
Женщина остановилась.
– Ради бога, не валяйте дурака. Хватит, позабавились вволю и довольно. Так и по миру пойти недолго…
– Ну, Туника, подавай же! – повелительно и резко сказала Хана, взглянув на снопы, которые торопливо развязывала младшая.
– А ты сама не можешь? – с досадой возразила та. – Боишься корону уронить, да? – И громко бросила в сторону матери: – Сами могли увидеть. Только что о пустые кружки не спотыкаемся. Ей-богу, целое утро зря потеряли, сидим сложа руки…
Топлечка принялась угощать пришедших на помощь соседей.
– Режьте потолще! Ешьте! Хорошенько заправляйтесь, Муршец! Южек, девочки, давайте! Приналягте, по утрам полезно пропустить винца, согревает…
Люди резали хлеб, прикладывались к фляге, а она опять принялась за свои вопросы, все более и более нудные, на которые дочерям уж и отвечать надоело.
– А бычка покормили? Не худо б ему овса подбросить. Несчастная скотина, целое утро по кругу ходить…
– Ой, у меня б сразу головонька закружилась, – заохала Цафова. – Раза три прошлась бы, и готова…
– Будет тебе, будет, – осадил ее Муршец. – Баба – и голова кружится! Да бабы выносливей пары быков…
Он осклабился, а Топлечка рассеянно кивнула, как будто подтверждая эту несомненную истину.
– Не знаю, как бы мы жили, доведись так всю жизнь. Чуть что с хозяином – глядишь, и дети больше не слушают, а то и насмехаться начинают, сами слыхали.
Посетовав таким образом, она приняла остатки каравая, вместе с большим кухонным ножом и опустевшей флягой положила их на подоконник в хлеву и, найдя меня взглядом, доверительно, точно я был единственным человеком в доме, на которого можно целиком и полностью полагаться, сказала:
– Запрягай бычка, Южек. Пора начинать.
В голосе ее звучала просьба, но она тут же отвела взгляд и, словно уже не видя меня, стала отдавать распоряжения, где кому вставать. Ей-богу, она вполне заменила хозяина! А со мной держалась как кума или родная тетка!
Я запряг бычка, Топлечка поставила Тунику его погонять, а Хану развязывать снопы. И той и другой это пришлось не по вкусу: обе они уже приглядели для себя местечко. Хана хотела закладывать снопы в машину, однако за это взялась сама Топлечка, хозяйка; прежде здесь, у молотилки, стоял Топлек, тут полагалось быть хозяину. Девушки помешкали, но послушались.
– Держи бычка! – сказал я Тунике, задетый их отношением к матери, и скомандовал: – Погоняй!
Девушка метнула в меня изумленный взгляд, точно пронзила насквозь, но промолчала и, повернув к себе бычка, подхлестнула его.
Мы начали молотить. Машина загремела, загудела, загромыхала, затянув свою песню.
Туника сперва исправно работала, но потом вдруг уселась на дышло во́рота и, устремив пристальный взгляд на вытоптанный круг, перестала что-либо замечать, будто ей ровным счетом ни до чего не было дела.
Хана быстро управлялась со снопами, развязывая жгуты и передавая их матери.
Топлечка снопы расправляла и пропускала между зубьями.
Вдруг громыхнуло, машина стихла и вроде бы даже вовсе остановилась. Все взгляды обратились к хозяйке. И та проворно и привычно подняла крышку, вытащила застрявшую между зубьями солому и широко улыбнулась, словно желая сказать: порядок, всего-то жгут застрял! Машина опять заревела, и колосья вновь устремились в ее пасть. Улучив момент, когда можно было расслышать голос, Топлечка крикнула:
– Эй, Хана, аккуратней развязывай!
Услыхав голос матери, девушка на секунду замерла, держа в руках развязанный сноп, однако даже не посмотрела на нее.
– Жгуты развязывай, говорю! – опять крикнула мать. – Слышишь?
– Я развязываю, – ответила та и добавила: – А те, первые, Туника готовила.
– Эге-е-е, – донесся с противоположной стороны протяжный возглас, бычок замедлил шаг, а следом за ним стихла и молотилка. – Я тут ни при чем. Я свои развязала как надо!
Все повернули головы в сторону Туники.
Я заметил, как Топлечка изменилась в лице, и, ей-богу, неизвестно, чем бы это закончилось для Туники или для Ханы, для любой из них, ведь обе они были упрямы и норовисты; неизвестно, что бы она сделала с дочерьми, если б в этот момент Туника не хлестнула бычка и Топлечке не пришлось бы поспешить к машине.
После этого наступило спокойствие, как будто девушки сами сообразили, что зашли слишком далеко и на сегодня шуток довольно.
Я подбирал вилами обмолоченную солому из-под ног у Цафовки, которая отгребала ее от молотилки, и относил к стожку. Муршец принимал солому и, укладывая ее покрепче, плясал, утаптывая. Он высоко подскакивал, и тогда рубаха пузырем надувалась у него на спине.
– Теперь ей, этой бабище, все не по нутру, – говорил он мне, имея в виду Топлечку. – Не сладко такой бабе, когда рядом в постели мешок костей. Гляжу я на нее и думаю: как кошка затаилась. Лежит себе кошечка, полеживает, выжидает момент, когда кинуться… Берегись, мышонок, вкусное мясцо! Ха-ха-ха-ха!
Он смеялся, оглаживая редкие колючие усы, и приплясывал по стогу.
Но потом вдруг пожалел женщину.
– Ничего не поделаешь – слишком поздно к ней свобода пришла. Девицы скоро ей на голову полезут. Балаболки они, а не девки, настоящие балаболки! Зеленые еще, ничего не знают, понятия не имеют о том, что такое жизнь!
Я носил солому и наблюдал за Топлечкой; с самого утра она находилась у меня перед глазами. Ей пришлось проглотить грубые слова дочерей. Лишь поджала губы неодобрительно и долго не разжимала их; правда, может, виновата была пыль, клубившаяся облаком и накрывавшая ее с головой, когда она осторожно, друг за другом, опускала снопы в машину. Пшеница была нечистая, с головней, особенно та, что росла на нижних участках. И черная, точно из кротовой норы, густая пыль затянула гумно со всех сторон, до самой высокой и наклонной крыши овина, так что с трудом можно было что-либо различить, и очень скоро мы вообще перестали узнавать друг друга – толстый слой пыли накрывал попоны, одежду, кожу – словом, все.
Брови у Топлечки становились все более черными и пушистыми; пыль набилась в волосы, торчавшие из-под небрежно повязанного платка, скопилась под носом пышными черными усами. Но женщина не обращала на это внимания, изредка бросая словечко-другое или чуть усмехаясь чьей-либо шутке. Мы работали почти без передышки, изредка останавливаясь лишь затем, чтобы дать роздых бычку, у которого могла закружиться голова.
Женщина подгоняла нас, как истинная хозяйка, которой жаль каждой потерянной минуты, коль скоро люди собрались на работу, и ничуть не было похоже на то, о чем болтал старый Муршец; Топлечка выглядела настолько пожилой женщиной, что нельзя было даже подумать о притаившейся кошке, а тем более это приметить. Работа ее замучила. И все-таки, должен признаться, я выискивал в ней что-то, подстерегал ее, став как бы в свою очередь лакомкой-котом. Пот черными струйками заливал ей лицо; она зажмуривала черные веки, когда в машину входил сноп толще, чем следовало, и мимоходом совала в юбку тесную кофту, так что открывались влажные подмышки. Белки глаз сверкали, иногда размыкались губы, принимавшие свою естественную форму.
Наступил час обеда, она сняла с головы платок, встряхнула его; открылись светлые полосы на щеках и белая крепкая короткая шея. Где же старый Муршец углядел притаившуюся кошку? Разве могла эта женщина думать о чем-либо ином, кроме своей семьи? Старый бабник этот Муршец, бабник и пустомеля!
Так миновала неделя, а в воскресенье мне довелось убедиться в справедливости его слов.
Полдень прошел, и наступила та чудесная послеобеденная пора, когда еще далеко до выгона скота на вечерний выпас: я хочу сказать, наступил час после воскресного обеда с говяжьей лапшой и крошеным вареным мясом с картошкой, а то и с ватрушками, когда наешься до отвала, а потом лежишь себе под грушей или занимаешься чем угодно, если вообще тебе угодно чем-либо заняться, в блаженном сознании, что до самых сумерек никто ничего от тебя не может и не смеет потребовать.
Штрафела с Лизой еще до обеда вернулся из города уже навеселе и за столом, по привычке бия себя в грудь, пустился в обсуждение проблем высокой политики.
– Гомила, – надрывался он, – еще увидит, вынуждена будет убедиться, что без партизана Штрафелы людям никак не обойтись! Верно ведь, Лиза?
Сестра, которая была совсем трезвой – она разве что чуть-чуть пропустила, по ней никогда нельзя было узнать, как обстоит дело, отчего у нее горит лицо: то ли от полноты, то ли от спиртного, – пробормотала что-то нечленораздельное.
– Ты разве не слыхала, что мне в городе говорили?
Лиза кивнула, поправив обеими руками волосы, и перевязала платок на голове.
Отвечала ему только она, поэтому он со своими возвышенными речами к ней одной и обращался, разве что кто из домашних или сидевших за столом начинал ему перечить, но такое случалось редко. Мы упорно, словно по обету, молчали. Они всласть могли потолковать о политике, в то время как мы по очереди вылезали из-за стола.
– Гомилане, эти фашисты, эти реакционеры, скоро узнают, узнают, раз сами не понимают, кто такой Штрафела! Верно я говорю, Лиза?
– Верно, верно, – отвечала Лиза, а может, и не отвечала вовсе.
Пора было разбегаться куда глаза глядят, никому не хотелось оставаться дома.
Я пошел к Топлекам, помнится, чтобы условиться, как будем пахать; у них было тихо и мертво, точно воскресный послеполуденный зной накрыл дом, придавив окружающие деревья и лишив их жизни. Одни куры купались в пыли, разевая клювы, да у хлева, судорожно раскрыв пасть, лежал пес, помесь овчарки с лисицей; собачьи вздохи да жеванье коров только и нарушали тишину, пока я пробирался во двор.
Тишина стояла и перед домом и в сенях, когда я отворил дверь и вошел внутрь. Было так тихо, что я недоуменно остановился. Девушек, видимо, не было, или они отсыпались где-нибудь под грушей. И тут я услыхал, как в горнице что-то упало сперва на стол, а затем на пол, причем несколько раз подряд, как будто падали шпильки с головы или гребенки.
Я кашлянул, взялся за ручку:
– Есть кто живой?
– Входите, – послышался певучий женский голос, принадлежавший хозяйке.
Она сидела возле стола, красная, распаренная, точно пропустила не одну чарку зелена вина, и, повернув голову к двери, причесывалась. Судя по всему, она только что мылась – рядом на скамеечке стоял таз с водой, пол был мокрый и на спинке стула висело смятое влажное полотенце.
– Да это наш Южек! – скорее сообщила, нежели воскликнула она, завидев меня.
Не глядя, она застегнула несколько пуговиц на рубахе – кофта у нее была совсем расстегнута – и продолжала расчесывать длинные и толстые свои косы; и при этом она аккуратно брала шпильки в рот, придерживая их скорее губами, чем зубами. Я не сводил глаз с ее белой чистой рубахи, за которой угадывалась грудь, вздымавшаяся в такт движениям рук. И одновременно с этим увидел большие белые глаза, устремленные на меня с высокой подушки, они как будто вонзились в меня – глаза чахоточного Топлека.








