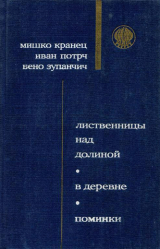
Текст книги "В деревне"
Автор книги: Иван Потрч
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Как-то села она на порожек погреба, широко расставив ноги, меня коробило от этого, и устремила на меня пристальный взгляд – я насаживал мотыги на ручки.
Из дома вышла Хана, заметила нас и остановилась, завязывая платок. Подошла ближе, нагнувшись, подняла мотыгу, взвесила ее на руке.
– Эта хороша? – спросила и, не дожидаясь ответа, повернулась и ушла в виноградник за домом.
И оттуда послышались удары по твердой земле, более частые, чем раньше, – ведь теперь там были двое, Туника и Хана. Мне не терпелось покончить со своим делом и присоединиться к ним.
– Эта вроде исправилась… – начала Топлечка.
Я промолчал, не зная, что она хочет этим сказать.
– Умаялась, – пояснила Зефа.
Я что-то пробурчал, тем и ограничился.
– Да ведь ничего и не было, да, не было. – Вздохнув, она медленно, будто у нее не оставалось в жизни никаких забот, зевнула и дополнила: – Ничего, кроме того, что ее научили. О господи, ай нет?
– Чему ж быть иному, научили… – Я должен был что-нибудь сказать.
Зефа опять молчала, глядела то на меня, то на мою работу.
– О господи, не могу я видеть, как ты топором рубишь! – вдруг запричитала она, прикрывая платком глаза. – О господи, себя не порань!
Я продолжал свое дело.
Она поднялась со стонами да вздохами, глянула куда-то поверх моей головы на ветки и опять громко вздохнула.
– Лучше всего было б, если б ее кто взял, – вдруг выпалила она.
Теперь я смотрел на нее. Словно чего-то испугался. Позже я много раз себя спрашивал, что заставило меня в тот момент оробеть. За землю испугался? Того, что Топлечка выдаст Хану замуж и переведет землю? Не знаю, но Зефе бросился в глаза мой испуг, и она принялась разъяснять свою мысль.
– Ей-то приданое мы бы как-нибудь сколотили, – сказала она.
Я только глядел на нее.
– Ну да, я думаю, у вас так же будет, когда Марица замуж выйдет, тебе тоже в деньгах долю выплатят. А у нас… – она запнулась, подбирая подходящее слово, – мы вдвоем Хане заплатим.
Только теперь до меня дошел смысл ее слов. Она предпочла бы отделаться от дочери и подумывала о том, что я женюсь на ней самой. Мне, однако, все эти ее околичности были чужды, они раздражали меня, как раздражала ее медлительная и тягучая речь.
Я взял мотыгу и ушел. Работал, окапывая виноград и стараясь не повредить лозу, на которой уже созревали плоды, а потом мой взгляд пошел по винограднику.
Впереди работали девушки, они двигались друг за другом, точно уже успели повздорить. Я хотел было их окликнуть, чтоб подождали, веселее идти вместе, но передумал. Хана сняла свою красную кофту и повесила ее на колышек. Кстати было бы ее спросить, не начала ли она линять и когда совсем сменит кожу – так у нас шутили, – однако я предпочел промолчать. Я смотрел на виноградник и иногда совсем не видел Тунику, а только Хану и словно чувствовал силу ее ног, которые тогда крепко сжали меня и не хотели отпускать, снова слышал я ее слова: «Боишься? Ты и с Туникой спутался?» Хана была легка на ногу, с ловкостью серны передвигалась она по винограднику, без задержки проскальзывала между колышками. Я смотрел на ее ноги в грязных башмаках, а когда она нагибалась, видел ее бедра, чувствовал груди под рубашкой, остро торчавшие, когда она выпрямлялась, она потягивалась и играла своим телом, как молодая кобыла, у которой каждое ребрышко жило само по себе. Знает Топлечка, чего она хочет, думал я, вот и старается побыстрее от дочери избавиться, хотя ни единым словечком Зефа себя не выдала. Я работал и мог вдосталь думать о том, как Хана покинет дом и уйдет к кому-нибудь, я мог думать о Тунике, которая не произносила ни единого слова, но иногда все мои мысли вдруг обращались к Хане, причем вспомнилось не только то, что произошло в лесу, – она постоянно возникала перед моим взором, но чаще всего я видел ее в хлеву, и должен признаться, мурашки пробегали у меня по коже, когда я вспоминал о хлеве. Однако в мыслях моих не было еще ясности. Думая о Топлечке, я тут же начинал думать о земле, а когда представлял себе Хану – такое мне и в голову не приходило.
Хана перестала валять дурака и ко всем цепляться, как будто успокоилась. Или, может, почувствовала, что Топлечка хочет от нее избавиться.
Начались полевые работы – картофель, кукуруза. Уборка отнимала у нас много сил. Мы возвращались домой поздно ночью и нередко даже не могли есть. И Топлечка перестала толковать о Хане, слишком много на нее навалилось собственных забот. Но я о Хане не забывал. Я видел ее повсюду, независимо от того, находилась ли она у меня перед глазами в самом деле. Я работал в хлеву и, не глядя в дверь, видел, как она ходила по воду, поднималась с ведрами, а юбка собиралась у нее, обнажая колени; я видел, как она нагибалась, выливая ведро в корыто, – вот-вот переломится, казалось мне, такая она была тоненькая; я знал, сколько раз она относила корм свиньям, как спешила обратно; я видел ее за столом, сидя напротив, хотя ни разу не поглядел на нее; я слышал, как по вечерам, отправляясь спать, она поднималась по ступенькам, вслушивался в каждый ее шаг; я слышал, как по утрам она спускалась на кухню и, напевая, принималась готовить завтрак. Я видел ее повсюду, она словно заворожила меня. Так продолжалось всю весну, пока не созрели для покоса травы и пока Топлечка в один прекрасный день не легла и где-то возле полудня не родила девочку.
Крики ее доносились до нас, мы косили на лугу, но горше всего, больнее всех слов, что в тот день сказали косцы, был смех Ханы. Было жутко его слышать.
В тот день работы у нас было выше головы, и клевер я косил уже в темноте. Я нагрузил тележку, а Хана, работавшая со мной, схватилась за ручку и хотела было толкнуть тележку. Однако сил у нее не хватило, она некоторое время еще повозилась, пытаясь освободить застрявшее колесо, а потом выпрямилась и вдруг ни с того ни с сего засмеялась. Я не вытерпел.
– Чего ты смеешься?
Она засмеялась еще громче.
– Еще одна девка…
Я молчал, глядя на нее.
– Эту-то ты хоть охмурять не будешь, твоя ведь собственная?
– Хана! Да ты что? – Я задохнулся. – Кто охмуряет? Кого охмуряют?
Она подступила ко мне. Я больно схватил ее за запястье. И будь она женщиной и веди себя, как женщине подобает, она бы крикнула – но она молчала, только пристально смотрела мне в глаза, она не издала бы ни звука, даже если б я резал ее на кусочки. Я стоял совсем близко к ней, почти касаясь ее тела, – она не пошевельнулась, не сводила с меня глаз. И тут я толкнул ее на тележку, толкнул и сам бросился рядом с нею. Тележка перевернулась… а потом, когда все кончилось, как теперь помню, вокруг разливался запах молодого клевера.
Мы отряхивались, не глядя друг на друга.
– У, проклятый, – бормотала она, поправляя одежду. – На что это похоже?
Она выглядела жалкой, и казалось, будто она не в себе.
– На что? – так же глупо ответил я. – Ты смеялась, вот и получила…
Она отряхнула юбку и вдруг отвесила мне здоровенную пощечину. И кинулась бежать.
Показалось ли мне, будто она засмеялась? Меня пошатывало. Я хотел было собрать рассыпанный клевер, но силы мне изменили, и я опустился на четвереньки, застыл, опершись головой о борт тележки. Так я и стоял, пока не раздался голос Туники – она звала ужинать.
X
Эх, верно, на что это было похоже? Правду сказала она, эта Хана! Та самая Хана, оттолкнув меня, встала на ноги, пару раз махнула рукой, стряхивая травинки с юбки и кофты, и засмеялась – так мне почудилось, – а потом бросилась вниз по склону и даже не глядела на меня, не замечала целыми днями, словно я не торчал в доме у нее на глазах. «Злись, злись…» – твердил я про себя. Воистину ни на что это не было похоже. Ведь должна же была у нас быть голова на плечах, по крайней мере у меня. Горько было на душе, и я жалел девушку. Хотелось поговорить с нею. На другой день уже в сумерках мы оказались одни за колесным сараем, день спустя опять одни – на поле, и всякий раз я не знал, как начать разговор. За сараем она косила траву, на поле – окучивала, причем так стремительно, будто спешила невесть куда и будто самим видом своим хотела мне показать, чтоб я больше и не думал о любви и вовсе позабыл о случившемся. Схватив корзинку, она шмыгала мимо, а в поле работала так, словно не желала меня видеть.
Я багровел и кусал себе губы, – как-никак рядом были Топлечка и появившийся на свет младенец. Все перепуталось у меня в голове – только о женитьбе на Хане я в ту пору не думал, отгонял от себя подобные мысли. Но одна мысль засела у меня в мозгу, и я никак не мог от нее отделаться – мысль о том, что происшедшее между нами – начало. «Будет так, как с Топлечкой, – говорил я себе, – в один прекрасный день все начнется сначала». И тело охватывала сладостная истома, вроде той, что охватила меня весной, когда мы с Ханой собирали в лесу листву. А чем все может закончиться, о том я не думал. Слишком меня влекло – хотя поначалу чувство словно бы тлело в душе, спало и ожидало своего часа, как рак на речном дне.
Эх, тогда я не знал, не мог знать, да чего там, – не хотел знать, как все это против меня обернется и обрушится на мою голову, а ведь должна же быть у меня хоть капля разума – да вот поди ж ты, не оказалось. Теперь, когда все прошло – все, все прошло, – моя жизнь мне кажется сплошным хождением по мукам, с четырнадцатью остановками от Пилата до воскресения; только у меня этого воскресения никогда не будет, не может быть – сам себя закопал я в могилу, безвозвратно.
Долго мы сторонились друг друга, я избегал всех, а более других – Зефы и ребенка. Вечером того дня, когда малютка появилась на свет, а у нас произошло это с Ханой, мы ужинали каждый отдельно, в кухне, так же и завтракали на другое утро, однако обедали и ужинали сообща в горнице: деваться было некуда, пришлось идти за общий стол.
Зефа лежала в каморке на постели покойного Топлека; и днем, хотя дверь была плотно закрыта, обед прошел в полном безмолвии, точно за столом сидели трое немых, а вечером, только я поднес ложку к губам, в двери каморки появилась Муршечка, держа на руках большой белый сверток. По сей день стоит у меня перед глазами этот белый сверток у нее в руках и я слышу протяжный и необычно писклявый голос старухи, точно она здорово подвыпила:
– Эй, парень, нет у тебя охоты сюда поглядеть? Девка у тебя родилась! Еще одна Топлечка или Хедловка – не знаю уж, как и сказать, – на белый свет появилась! Ну поди-ка сюда, глянь!
Я опустил ложку, руки у меня сами собою легли на стол, я не знал, как поступить, куда деваться. Туника сделала радостное лицо, а Хана как-то странно надулась, вот-вот зальется смехом. Я вскочил, громыхнув стулом, вероятно, этот грохот услышала Топлечка, потому что из каморки тут же послышался ее тихий, словно сдавленный голос, как будто ей не хватало дыхания:
– Южек… подойди ко мне… немного…
Я протиснулся мимо Муршечки и мимо того, что она держала в руках туго перепеленатым и завязанным, – у малютки вовсе не было ни рук ни ног, и она только мигала глазенками, не вынося дневного света, – и оказался между сундуком и постелью. Сюда же, почти следом за мной, пролезла Муршечка, приоткрыла одеяло и положила ребенка к Зефе, будто сунула его к ней под мышку. Топлечка вытащила из-под одеяла руку и протянула ее мне – она, должно быть, ожидала, что я возьму ее за руку или еще что-нибудь, но ведь рядом стояла Муршечка, не спускавшая с нас глаз; нет, ни за что на свете в ее присутствии я не прикоснулся бы к руке Зефы. И тогда эта рука медленно легла на край постели, словно у женщины не было сил положить ее обратно на одеяло, а сама Топлечка еще тише, чем раньше, произнесла:
– Южек… младенец теперь наш, о господи!
Но куда отчетливее, чем слова Зефы, слышал я тишину, воцарившуюся в доме. Я понимал, Хана жадно ловит каждое слово, а после фразы Топлечки послышалось, как в горнице кто-то отодвинул стул, на стол полетела ложка и кто-то, наверняка Хана, выскочил из горницы, прижимая к губам передник, затем дважды хлопнули двери, в сенях и на улицу, – теперь-то на свободе она отведет душу и даст волю смеху. Смеха я, однако, не слышал, он звучал только у меня в ушах. Вскоре зашевелилась Туника, она старалась ступать бесшумно, выбралась наружу и столь же беззвучно прикрыла за собой дверь.
Господи милосердный, я даже не представлял себе, что бы я делал, если б Муршечка оставила нас вдвоем. Топлечка неотрывно смотрела на меня, и взгляд ее ввалившихся глаз казался потухшим. Я не выдержал этого взгляда и стал рассматривать висевшую на стене картинку, изображавшую Иоанна Крестителя в верблюжьей шкуре. И вдруг Муршечка всхлипнула, а Зефа быстро подняла руку, прикрыла глаза и повернула голову к ребенку, к стене, – в груди у нее застряло беззвучное рыдание.
Я оторвался от сундука и потихоньку, на цыпочках вышел, сам не могу понять, почему я именно так поступил, ушел крадучись, точно вор. Муршечка выпустила спинку кровати, за которую цеплялась, и еще я успел заметить, как она молитвенно сложила руки и поднесла их к губам, словно предоставляла все воле Иоанна Крестителя.
А ребенка, девчоночку свою, я разглядел только через несколько дней, может спустя неделю – после крещения.
Все хлопоты, связанные с роженицей и повитухой, а потом с крещением, прошли так, что я ничего не заметил, – уже позже я понял, что Туника была на стороне матери и во всем ей помогала. Она и крестины-то устроила. Я слышал, как женщины оживленно обсуждали, кому быть кумой, а о самой близкой никто и не вспомнил. С Рудлом и своей двоюродной сестрой Топлечка находилась в ссоре. Почти наверняка они отказались бы помогать нам. Вспоминали и о коляске, которую пришлось бы запрягать мне.
– Зачем такой цирк устраивать? – сердилась Туника. – Еще за каретой к епископу прикажете послать! Только этого нам не хватает! – И решительно заявила: – Я сама отнесу девочку в церковь и сама буду у нее кумой!
Должен признаться, у меня точно камень с души свалился. Однако без выпивки и домашнего торжества обойтись было нельзя. И пока Туника и Муршечка ходили в город, Топлечка поднялась с постели и собственноручно опалила и зажарила курицу.
Туника вернулась домой раскрасневшаяся, запыхавшаяся, положила девочку в горнице на кровать и громко и весело объявила:
– Вела она себя тихо, как мышка!
Туника прямо светилась от радости, будто ей в церкви или где-то там в городе велели в тот день непременно сохранять хорошее настроение.
– Да, да, – торопливо подхватила Муршечка, – такая милая девчушенька всю дорогу была, верно.
Выпили, разговорились, а о себе могу сказать, что я с охотой таскал из погреба вино; у меня было такое чувство, будто рассеялись все туманы и луч солнца упал на дом Топлеков. В конце концов женщины заставили меня взять ребенка на руки и без удержу хохотали, видя мою неловкость. Муршечка хихикала, а Хана вдруг сказала:
– Выходит, мать тебя не всему еще обучила.
На миг все стихло, только Муршечка быстрее всех опомнилась и продолжала весело смеяться, в тот же миг распахнулась дверь и в горницу ступил старый Муршец, пришедший за своей бабкой. О словах Ханы все позабыли, и, таким образом, все кончилось благополучно.
Пару дней спустя, а может, на другой день мы с Муршецом отправились на дальние покосы. Стояла невыносимая жара, и к десяти часам мы вылакали один за другим несколько кувшинов сидра, или толченки. Потом Муршец пошел клепать косу, а я стал ворошить сено. После обеда, когда я отправился отбивать косы, пришла Топлечка и взялась вместо меня ворошить сено. Я остался дома один. Отбив косу, я провел пальцем по лезвию, а потом ударил кончиком косы по наковальне, и она тонко зазвенела. Я ударил во второй, в третий раз, отдавшись музыке звона, как вдруг из горницы донесся плач. Сообразив, в чем дело, я оглянулся по сторонам, нет ли кого поблизости и не видит ли меня кто. Однако все были на покосе. Я поставил косу в угол, вытер о фартук руки, еще раз огляделся по сторонам и поспешил в дом.
Изнутри окна были занавешены, стояла полутьма и приятная прохлада. Ребенок кричал с небольшими паузами. Склонившись над постелью, я увидел крохотную, с кулак, головку, на которой широко открывался рот, откуда вылетали вопли, а раскрытые глазенки пристально смотрели мимо меня. Я еще раз обтер о фартук руки, словно готовясь брать хлеб со стола, и протянул ладони к младенцу, а как принять-то его, еще не знал – девочка исходила плачем, ротик у нее судорожно кривился, личико краснело все больше, потом стало синим, а я совсем потерял голову и не знал, что делать, даже отступил от постели. Крикуша утихла, а со мной вдруг случилось невероятное – пока я разглядывал этого закутанного с ног до головы в пеленки червячка и смотрел, как она извивается, глядя куда-то в пустоту, все вдруг затянуло туманом, и я почувствовал на глазах слезы. Отвернувшись, я оперся на косяк и перевел дыхание, еще немного, и сам бы заплакал навзрыд. Я вытер рукавом глаза, но этого было недостаточно – потребовался фартук. До сих пор не пойму, что происходило со мной тогда. Грудь сжимало, в горле стоял ком.
Жалко мне было ребенка, но, видно, не только в жалости было дело; потом, когда я надел косу на косовище и пришел в себя, солнечный полдень вдруг запел, зазвенел переливом всех своих колоколов – эх, да ведь это у меня родился ребенок! Мне хотелось кричать от радости, пусть меня слышит Муршец, мне хотелось во всю ширь размахнуться косой – но на лугу были все три Топлечки, они шли друг за дружкой, вороша сено: Хана, Туника и Зефа, – и я не позволил вырваться наружу своей радости. Женщины работали граблями с таким видом, будто и не знали друг друга.
Однако в тот день, где-то к вечеру, я все-таки крикнул. Женщины ушли домой, сено убрали в копны, и на всю долину опускалась ночь, последней с пустым кувшином спешила к дому Туника – она приносила нам сидр. Может быть, я немного перебрал, но я крикнул во всю силу своих легких, раз, затем другой раз, крикнул еще и еще, а Муршец, раскрыв рот, смеялся надо мной. Мне не было дела до окружающего мира, я готов был схватиться с ним врукопашную – здесь, вот на этом самом лугу, – пусть приходит любой, кому что-нибудь не по нраву!
Мы косили до оврага, здесь я намочил косу, вынул брусок, поглубже нахлобучил шляпу и опять крикнул. И уж было хотел отбивать косу, как издали от ограды донесся голос – голос Ханики: она как будто отвечала мне частушкой:
Ты кричи и песни пой,
сам ко мне придешь, родной!
И у меня пропало желание кричать. Я поправил косу и приналег, косил я свободно, легко, широко захватывая, как бешеный. Муршец давно отстал. Он вопил что-то мне вслед, звал, потом кричал, что нас зовут ужинать, да я и сам все слышал – Туника и Зефа нас звали, – но шел дальше и дальше, пока ночь не поглотила все. Возвращался я по скошенному лугу, Муршец ушел, не дождавшись меня, а у меня в голове все спуталось, смешалось от дерзкой песенки: перед глазами стоял ребенок в пеленках, которого мне вдруг стало жалко и который вызвал у меня необъяснимый восторг, и частушка Ханы – да какая там частушка, сама Хана; она словно ходила по лугу с граблями, повязав голову красным платком, и фигура ее выражала напряженное ожидание.
Таким вот, опять выбитым из колеи и смятенным, явился я к ужину, к самому его концу – меня не стали ждать. Топлечка была у себя в каморке, свет пробивался сквозь щели под дверью: может, кормила ребенка, а может, еще что. Девушки и Муршец в молчании, как три святых короля, ели пшенную кашу. Я присел к столу и по лицам сестер понял: случилось неладное, да и дверь в каморку была плотно прикрыта. Хана хотела что-то сказать, произнести, поднесла руку ко рту, но передумала, потом поднесла руку к глазам, словно пряча их. Туника исподлобья строго смотрела на нее.
– Все-таки одолело тебя, – внезапно выпалил Муршец: он, видно, тоже заметил движение Ханы.
Муршецу я не мог не ответить.
– Не видать стало ничего, – вздохнул я.
– Да, в темноте косить не гоже. Косу сломаешь.
Ему, очевидно, хотелось поговорить, но я не испытывал ни малейшего желания.
– Верно, – кивнул я.
– Да, темнота, – подхватила Хана. – Что бы парни без темноты делали?
– А девки-то, девки, каково-то им бы пришлось без темноты? – засмеялся Муршец.
– Девки? Тьфу, – задрала нос Хана. – Девка, если у нее мозги есть, всегда выход найдет.
– Это как же? – осведомился Муршец, задыхаясь от смеха, заметно было, что усталость и выпивка вконец одолели его.
– А вот так! Запоет девка, Муршец, вот так, послушайте! – И она без стеснения повторила свою частушку.
– Хана! – воскликнула Туника, пронзая сестру грозным взглядом.
Но Хане уже попала шлея под хвост, и все было нипочем. Туника встала, бросила ложку и вышла. У меня тоже еда застряла в горле.
– Беги, беги! – крикнула Хана вслед сестре. – Уж и песни мне петь нельзя в этом доме. Одно дело – песня, а совсем иное – о чем она, так ведь, дядюшка Муршец?
– Хе-хе-хе! – скрипел старик. – Прежде нам бабы таких песен не пели, но, что поделаешь, теперь жизнь иная, а мы состарились!
– А если она мне нравится, дядюшка, то как?
Хане хотелось довести дело до конца.
– Ну тогда пой, – засмеялся Муршец, – и сама все обделай! Ох, господи Иисусе Христе, бойкие вы!
Мне тоже ничего не оставалось, как подняться и уйти. Но тут скрипнула дверь, и на пороге встала Зефа с ребенком на руках.
– Ты, Хана, с ума сошла? – Она смотрела на дочь, ожидая дальнейшего развития событий.
Та долго молчала, а потом вдруг вскочила с места, подошла ко мне и спросила:
– А что, Южек, если и нам с тобой теперь немножко побаловаться? Хозяйство-то мое будет! Так ведь, мать?
Она жутко засмеялась и бросилась к двери. Распахнула ее и перед тем, как захлопнуть, выкрикнула, чтобы всем было слышно:
– Выходит, теперь и я с ума уже сошла? Но если я и сойду, то у вас, матушка, голова болеть будет. – И уже, видимо, выскочив в кухню, опять затянула свою частушку.
Топлечка как подкошенная рухнула на скамью возле печи и заплакала. А потом и вовсе так безумно зарыдала, точно у нее разрывалось сердце.
Я ушел к себе и, не раздеваясь, повалился на постель. Неведомо было мне, что делать. Может, Хана и вправду сдурела? Вскоре Муршец собрался уходить. И, собираясь, он все время что-то бормотал себе под нос, но я заткнул уши, не желая ни о чем слышать. Я думал о Зефе и о ребенке, видел ее такой, какой она стояла в дверях – с полураскрытым ртом, и чувствовал себя совсем несчастным, да и Хана не выходила у меня из головы – ее фигура на лугу, то, что произошло на клевере; я не мог расстаться с ней еще и потому, что стал подумывать о земле, о Топлековине, о своем же родном гнезде я теперь и не помышлял, потому что повсюду заходила речь о замужестве Марицы, стоило мне появиться на людях.
Топлечка оправлялась, она кормила ребенка и ходила по дому, ни с кем не разговаривая, безропотно сносила выходки Ханы и словно не обращала внимания на ее слова, насмешки и придирки, как монахиня, давшая обет смирения, покорно и тихо замаливая свои грехи – да, если б она хотела! Теперь она стала чаще ходить в церковь к исповеди – рассказывали, будто два воскресенья подряд она простояла в исповедальне, – теперь она стала общаться с людьми: после долгих лет ссоры заговорила с кузнечихой, она примирилась с двоюродной сестрой и с Рудлом. Эх, а Туника наблюдала за всем этим, неприметная и терпеливая, все больше уходя в себя; эх, а во мне стала пробуждаться любовь к крохотной малютке в пеленках, хотя сам я по-прежнему подходил к столу, отводя взгляд от двери, за которой жили Зефа с дочкой, и сторонился всех в доме, а более всего Ханы – здесь-то и вспыхнуло то, что начало тлеть еще в тот вечер на клеверном поле, вспыхнуло, точно пламя, которое ожидало удобной минуты, чтобы взвиться и поглотить все вокруг… Да, и поглотить меня самого.
Поначалу у нас обоих сохранялись какие-то остатки разума – во всяком случае, о себе я могу такое сказать, теперь уж все позади, – хотя Хана вела себя иначе: она словно и тут хотела напакостить. Занялось такое безумное лето, какого до тех пор не бывало в моей жизни, я словно бы вынырнул из глубокого сна. Я говорил, что мы с Ханой старались не попадаться друг другу на глаза; так прошло несколько недель. Наступило воскресенье, Топлечка и Туника ушли к ранней мессе, а мы с Ханой остались дома. Она пришла в хлев, подоила коров, а я вместо того, чтоб выпустить скотину пастись, пошел за девушкой в дом, в кухню. Встал в углу и смотрел, как она процеживает молоко. Она оглянулась на меня, фыркнула, оглянулась еще раз и вдруг закатилась, лопаясь от смеха.
– Ты и в самом деле спятила, – пробормотал я сквозь зубы, глядя на нее недобрым взглядом.
– Спятила?
Она смеялась и смеялась, весело и звонко, с трудом переводя дыхание и просто изнемогая, бросила молоко и кинулась вверх по лесенке к себе в комнату. Я постоял, подождал, пока прекратится ее смех и… поднялся за ней. Я был убежден, что дверь окажется запертой, ан нет, она была открыта. Я распахнул дверь и увидел, что Хана, сложив на груди руки, стоит спиной к двери, смотрит в окно, словно ждет меня, мелькнула мысль. Я вошел в комнату, но не успел сделать несколько шагов, как она стремительно, точно ее укусила змея, повернулась ко мне. Мы стояли лицом к лицу, почти вплотную, и я слышал ее учащенное дыхание, будто она не могла восстановить его после хохота и беготни по лестнице.
– Чего тебе? – спросила она меня, словно малыша, и закусила губу, потом сжала кулаки, будто собиралась меня ударить.
Я отвел в сторону ее кулаки, слишком уж она совала их мне в лицо. Однако она ударила меня и вцепилась мне в волосы. Я вскрикнул от боли – мне показалось, что она выдрала у меня половину волос, – и завернул ей руки за спину и прижал ее к себе. Она застонала, губы у нее раскрылись… больше она уже не смеялась.
Случилось это утром, а после полудня мы опять оказались вместе, в хлеву на соломе. С тех пор мы искали и находили друг друга повсюду, где только можно было; в доме, в хлеву, даже возле дома. Несколько воскресений подряд Хана не ходила в церковь, словно не имея сил остаться хотя бы на одно воскресенье без любви. Если дома оказывалась Туника, мы отправляли ее пасти скот, и время, которое Топлечка проводила в молитве, принадлежало нам. Постепенно нам ничто уже не мешало и ничто не смущало, точно вдруг ко всему мы стали безразличны, и разве что плач ребенка заставлял меня вспоминать все происшедшее, всю свою жизнь – а так у меня будто разум провалился в какую-то бездну. Наше безразличие принесло свои плоды. Однажды воскресным утром Топлечка раньше вернулась от мессы – или просто ушла посередине, или вообще не ходила – и застала нас.
Шум и крик начался в доме, на улице, словно вдруг вспыхнул пожар. Топлечка подхватила на руки ребенка и то прижимала его к себе, то совала мне в руки, я испугался, что она швырнет его на землю. Она была вне себя, такой я ее никогда не видывал. Чего она только мне ни говорила, в чем только ни упрекала – об одном избегала упоминать, о том, как все у нас началось; это я сразу отметил.
– Знала я, что ты подлый, Южек, но, что ты с Ханой, с этой желторотой стервой, начнешь крутить, – такое мне и в голову не приходило! Опомнись, Южек, ребенок ведь у тебя, несчастный и милый ребеночек!
И она совала мне малютку, заставляя взять ее на руки, что ли, – но сейчас опасность, что она бросит ее, не угрожала. Она рыдала и дрожала всем телом. А я повесив голову уставился в землю. Жалко мне ее было, и ее и ребенка, сердце разрывалось от боли.
Поэтому вечером я пошел к ней, встал рядом с постелью, где она лежала с ребенком, и негромко окликнул. Я успел увидеть полные радости глаза, из темноты устремленные на меня, но тут же она склонилась над дочерью, словно закрывая ее собой, и зашмыгала носом, а потом потихоньку заплакала.
– Оставь меня, навсегда оставь! Не прикасайся больше никогда, потаскун! К той своей стерве иди!
Точно так же прогнала меня когда-то покойная бабка. Делать было нечего. Хотя ведь могла бы она сообразить, что уж если я пришел к ней, то затем, чтобы поговорить и не уходить никуда. Я стоял в нерешительности: то ли подождать, то ли повернуться и уйти, а она что-то кричала, захлебывалась от слез, и тело ее сотрясали рыдания.
– Уйди, господом богом тебя молю, уйди! Что ты понимаешь, теленок! Куда я глядела, сирота убогая, куда разум девался? Ну ничего, погоди, погоди – отольются тебе мои слезки, сам узнаешь, узнаешь молодых девочек!
И она постепенно словно забыла обо мне, теперь во всем была виновата Хана – девка, баба. И у нас дома сестры за словом в карман не лазили, да и мать, выкладывая им, что было на уме, к священнику за советом не обращалась. Однако в ту ночь, когда я стоял у постели Зефы, неведомо чего ожидая и не зная, как поступить, она такое говорила о Хане, что я краснел и радовался, что в темноте этого не видно. Мне казалось, будто передо мной обнажали изнанку жизни, самое сокровенное, и за этой обнаженностью ничего хорошего не было, только безобразное и грязное – все, что еще оставалось в мире, а я испытывал такое чувство, будто меня обливали помоями. Начиналось лето, а меня бил озноб. Пытаясь защитить себя самого или надеясь утихомирить Топлечку, я попросил ее дрожащим голосом:
– Не кричи так, ради бога! Ради Туники тебя прошу.
Ее как будто укусила змея: отшвырнув одеяло, она соскочила с постели и кинулась на меня. Я невольно сделал шаг назад и зацепился пиджаком за какой-то крюк, как назло не имея возможности двинуться ни вперед ни назад. Я почувствовал, что бледнею. А Топлечка, стиснув руки, размахивала ими перед моим лицом и вдруг жутко, во весь голос расхохоталась.
– Вот как, посмотрите на него, ради Туники у него сжалось сердце! Ради Туники? Господи наш милостивый Иисусе Христе, не ради собственного чада, а ради этой Туники.
Она ломала и тянула ко мне руки, они мелькали все ближе и ближе у меня перед глазами, и все громче и громче становился ее смех, на щеках я чувствовал ее дыхание, я рванулся, оставив лоскут одежды на крюке, и выскочил вон. Я опасался, как бы она не бросилась мне вслед, но она не кинулась за мной. А смех ее слабел и утихал, пока не превратился в рыдания. Я дрожал, мне было холодно.
– Зачем ты ходил к ней? – в ту же ночь допытывалась Хана.
– Зачем? – И я с силой сжал какую-то палку на телеге, чуть было не отвесив Хане пощечину.
Отвернувшись от нее, пошел в подклеть. «Зачем? Зачем?» – повторял я про себя и, клянусь господом богом, не умел ответить на этот вопрос, потому что и впрямь мне больше не было до Топлечки дела.
Хану в ту ночь я не видел.
Не было дня, чтобы Топлечка не шпионила за нами, – собственно говоря, она больше следила за дочерью, чем за мной. И настигала нас повсюду: в комнате, в хлеву, между скирдами или на косовице – лето принадлежало нам с Ханой; мы ни на что уже не обращали внимания, словно оглохли и ослепли ко всему на свете. Однако случались тяжкие минуты, а Топлечка лишилась всякого стыда: ей не было ровно никакого дела до того, что все вокруг потешались и над ней и над нами. О себе могу сказать, что я никуда не ходил, а домой вообще не показывался; бывало, проходили недели, а я ни разу не посмотрел в сторону нашего дома, крыша которого летом опять исчезла в зелени деревьев – казалось, ничего кроме зелени и не было на той стороне оврага. И о земле я даже не осмеливался вспоминать. К тому же дом Топлеков стоял на середине склона, и вопли Топлечки разносились далеко окрест – я ведь говорил, что теперь все проклятия обрушились на голову Ханы. Позже – не помню уж к чему, – я слыхал, в корчме у Плоя люди говорили:








