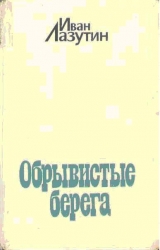
Текст книги "Обрывистые берега"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
– Как фамилия аспиранта? – спросила Калерия.
– К сожалению, забыл… Какая-то длинная, по-моему, польская, наподобие Доливанский или Вандолевский…
– Может, что-нибудь вроде лошадиной фамилии? – пошутила Татьяна Нестеровна, но шутку жены профессор не принял и, порывисто привстав из-за стола, направился в кабинет.
Через минуту он вернулся в гостиную и, широко улыбаясь, обрадованно проговорил:
– А ведь вспомнил!.. Стал листать шпаргалки и сам вспомнил!.. Так что насчет моего склероза, Татьянушка, ты зря иронизируешь. Я еще – Цезарь!..
Калерия достала блокнот и ручку, чтобы записать фамилию аспиранта Верхоянского.
– Яновский!.. Альберт Валентинович Яновский!..
При упоминании этой фамилии у Калерии выпал из рук блокнот, и она, не поднимая его с пола, с тревогой и как-то отчужденно смотрела на профессора. Ее словно чем-то неожиданно ударили в самую больную точку.
– Что с вами, Калерия Александровна? Можно подумать, что человек с этой фамилией сыграл в судьбе вашей какую-то злую роль…
Калерия справилась с растерянностью. Подняв с пола блокнот, она записала в нем фамилию Яновского, его имя и отчество.
– В моей судьбе этот человек никакой роли – ни злой, ни доброй – не сыграл. Но в судьбе одного молодого человека он оставил горький след. Но об этом разговор далеко не застольный. Вашу просьбу, Петр Нилович, я выполню. С диссертацией Яновского не просто познакомлюсь, я ее внимательно прочитаю. И если она интересна и взволнует меня, как взволновала диссертация воронежского Иванова, я обязательно на защите выступлю. Только передайте профессору Верхоянскому, чтобы он правильно представил меня ученому совету.
– Что значит правильно? – Профессор недоуменно развел руками.
– То есть не просто предоставил слово капитану милиции Веригиной, а сотруднику комиссии по делам несовершеннолетних. Не лишним будет, если ученый секретарь совета напомнит и о моих печатных работах по этой теме.
– Как? У вас есть печатные работы? – всплеснул руками Петр Нилович.
– Да, восемь… – застенчиво ответила Калерия. – И все в центральной прессе.
Профессор закрыл глаза и, словно что-то мучительно вспоминая, зажал подбородок своей сухой широкой ладонью.
– Постойте, постойте… Ведь вы же сейчас уже не Лужникова, а…
– Веригина, – подсказала Калерия.
– Да, да, Веригина… И что же вы не сказали мне об этом раньше? Несколько статей ваших я читал. А вот в каких журналах или газетах – не помню. Но читал!.. Читал!.. И они мне очень нравились!..
Правду ли говорил старый профессор или не хотел обижать свою гостью тем, что не читал ее статей, но Калерии было приятно видеть радостное удивление на лице своего бывшего научного руководителя.
Уже на лестничной площадке, после того как Калерия в холле распрощалась с Татьяной Нестеровной, Петр Нилович, пожимая руку Калерии своей еще крепкой костистой рукой, попросил:
– Вы уж, пожалуйста, выступите на защите… этого… Ну, как его… – Петр Нилович снова забыл фамилию аспиранта Верхоянского.
– Яновского, – напомнила Калерия.
– Да, да… Яновского. Поддержите его. В будущем вам это зачтется. Не забывайте, голубушка, в науке без поддержки трудно.
Когда Калерия вошла в лифт, профессор успел бросить последнюю фразу, пока еще дверь не закрылась:
– А с заявлением в аспирантуру поторопитесь.
Было уже темно, когда Калерия вышла из подъезда главного здания университета, в одном из корпусов которого занимал трехкомнатную квартиру профессор Угаров. Рядом с высотным зданием-гигантом, подсвеченным снизу прожекторами и увенчанным рубиновым светящимся шпилем, ее "Жигули" выглядели крохотной букашкой, в страхе замершей у ног могучего серого мамонта.
Сразу домой Калерия не поехала. Гигантская панорама сверкающей огнями вечерней Москвы с высоты Ленинских гор захватывала дух. Под ногами пылала огненной дрожью Москва-река, а за ней, насколько хватало зрения, цепью переливчатых огней тянулись улицы столицы. Остановившись у балюстрады, где стояло несколько легковых машин, владельцы которых, как и она, приехали полюбоваться вечерними огнями города с высоты Ленинских гор, она вышла из машины.
Там, внизу, в необозримой дали, в океане огней утонули девять миллионов людских судеб. Среди них только одних командированных столичных гостей и транзитных пассажиров около миллиона. Целое государство!.. Под крышей почти каждого дома свили гнезда радость и печаль, душевное умиротворение и тревога, дружба и вражда… Где-то в завихрении сверкающих огней гремели свадьбы, кричали "Горько!", где-то в просторных залах ресторанов и кафе молодые и уже немолодые люди, дав волю буйству крови, смешанному с вином, лихо отплясывали под сумасшедшие ритмы джазов… Все это угадывалось, домысливалось, воображалось в общей туманной схеме. И лишь одна печальная картина, словно встав на дыбы и заслоняя собой город-государство, живо представала перед глазами Калерии во всех своих подробностях: голый топчан в продолговатой камере предварительного заключения. Под самым потолком еле брезжит тусклый свет оплетенной решетчатым футляром лампочки, и на топчане лежит Артем. Голову его распирают тяжкие горькие думы.
На этот раз к трепетному восторгу перед грандиозной панорамой сверкающей огнями столицы примешивалось и другое, ранее не испытываемое ею на этом месте чувство – необъяснимая тревога и досада. И оно, это второе чувство, с кем-то спорило, кого-то вызывало на бой. "Ну, мы еще посмотрим, что это за блестящая диссертация!.. Мы почитаем ее. И по своему уму-разуму оценим!" – билась в голове Калерии мысль, которая словно обожгла ее сразу же. как только профессор Угаров назвал фамилию аспиранта Верхоянского. Здесь же, перед необъятной панорамой великого города, эта мысль хотя и уходила на второй план, но своим саднящим жалом давала себя знать: "Эту диссертацию мы почитаем…"
Глава тридцать вторая
Первое, что сделала Калерия, когда пришла с работы и, раздевшись, прошла в гостиную, – это тут же рассказала мужу, в какой нервный диалог она вступила с начальником следственного отдела районного управления, чтобы освободить Артема Козырева из камеры предварительного заключения, где его держат уже двое суток. Сергей Николаевич внимательно выслушал жену и, видя, что она еще не до конца остыла, посоветовал:
– Знаешь что, милая женушка, если ты из-за каждого своего "трудного" будешь ломать копья с начальством, то тебе или дадут отставку, или переведут в паспортный стол, где ты с утра до вечера будешь ставить на паспорта штампы прописки и выписки и заверять справки домоуправления. И, чего доброго, будешь дурно влиять на меня.
– Каким образом? – сдерживая обиду, спросила Калерия.
– Сделаешь из меня "трудного" мужа, – наигранно строжась, произнес Сергей Николаевич.
– Ты это серьезно? – Теперь в голосе Калерии звучала явная обида.
– В уголовном розыске несерьезные люди не работают. А что касается твоего Козырева, то если бы не мой звонок начальнику районного управления, то он все трое суток хлебал бы похлебку в КПЗ.
– Как?! Ты звонил самому начальнику управления? – не понимая, шутит Сергей Николаевич или говорит правду, спросила Калерия.
– Не я ему звонил, а он мне. И жаловался, что жена моя нарушает ритм работы управления и не подчиняется предписаниям служебных инструкций.
– И что же ты ему на это? – Губы Калерии сошлись в тонкую серую полоску.
– Я ему на это ответил: если моя жена ходатайствует за "трудного" подростка, значит, она его знает и что ей можно и нужно верить.
– А он что тебе на это?
– Я не стал ждать его ответа. Я просто попрощался и повесил трубку. А когда он позвонил второй раз, я сказал ему, что я очень занят и что свое отношение к хлопотам капитана Веригиной о задержанном Козыреве я ему уже высказал.
Калерия подошла к мужу, сидевшему перед телевизором и следившему за футбольной игрой, наклонилась и поцеловала его:
– Спасибо…
– На "спасибо" далеко но уедешь. Собирай ужин, да не забудь, что где-то в дебрях твоего кухонного гарнитура стоит бутылка хорошего сухого вина. По розыску бандитов меня считают асом, а спрятанную тобой бутылку я искал так усердно, что аж вспотел. Но увы и ах!..
Калерия отправилась на кухню, тихо закрыла за собой дверь и из широкогорлого керамического сосуда, стоявшего на подвесном шкафу, извлекла бутылку Хванч-Кары. Поставив разогревать ужин, она взяла с полки диссертацию Иванова, которую вчера привезла от профессора Угарова. Найдя вырванные из первого экземпляра страницы, принялась их читать. Хотя в памяти все прочитанное в библиотеке было очень свежо, все-таки глава, в которой недоставало одиннадцати листов в первом экземпляре, ее взволновала по-особому и острее, чем другие главы. Описанный в ней эпизод своим драматизмом, стоявшим на грани трагедии, был очень похож на ситуацию, в которой сейчас находился Артем Козырев. Глава так и называлась: "Когда матери-вдовы рушат судьбы своих детей". Всего на одиннадцати страницах диссертант Иванов описал преступление пятнадцатилетнего парня, попавшего в колонию несовершеннолетних за то, что в день поминок (прошло девять дней после смерти отца, погибшего при завале в шахте), вернувшись с кладбища, сын застал мать в объятиях соседа, к которому последние годы покойный отец болезненно, до сердечных приступов ревновал мать. И эта ревность, как казалось подростку, раньше времени свела отца в могилу. Мать не рассчитывала, что сын, оставшийся на кладбище, чтобы покрасить чугунную ограду могилы, так скоро вернется домой с попутной машиной. Нервного диалога не было. Все было проще: из висевшей на стене двустволки сын, в припадке гнева и обиды, в упор выстрелил сначала в мать, а потом в ее любовника. Больше патронов в патронташе не оказалось. Мать удалось спасти, и она навсегда осталась инвалидом. Любовник ее умер через два часа. Арест… Следствие… Суд приговорил преступника к трем годам лишения свободы. На суде подросток заявил, что если его оставят на свободе, то он отправит мать вслед за ее любовником.
Суд, приняв во внимание угрозы подсудимого, применил суровую меру наказания, надеясь, что только время, возраст и раздумья уже повзрослевшего человека смогут помешать такому намерению подсудимого. Три года юный заключенный находился в колонии, в которой Иванов работал воспитателем. Много часов пришлось будущему диссертанту провести в беседах с заключенным Н-овым (его фамилию и город диссертант в своей работе не назвал), пока он наконец, уже на последнем году своего пребывания в колонии, не отошел душой и не отказался от мести матери. Все три года в письмах она слезно молила сына о прощении, два раза приезжала за тысячи километров на свидания, предусмотренные режимом воспитательно-трудовой колонии, но сын не хотел этих встреч. А однажды даже предупредил Иванова: если администрация колонии, жалея его мать, подстроит свидание с ней. то он скажет ей такое, отчего она не захочет жить. Своему воспитателю Н-ов так и сказал: "Не портите и себе карьеру, Сергей Иванович. Не стряпайте мне своими руками новый срок. Я еще хочу пожить и подумать: где правда, а где кривда…"
И все-таки уже к концу срока заключения Н-ова воспитатель Иванов погасил в душе своего подшефного палящий огонь злобы и мести. Правда, не удалось воспитателю разбудить в ней и чувства полного прощения. С Н-овым он расстался у ворот колонии. Пожали друг другу руки, и Н-ов сказал, что в шахтерский городок, где живет его мать, нога его никогда больше не ступит.
При прощании Н-ов пообещал написать Иванову, как только его жизнь "на воле" определится. И он сдержал свое слово. Ровно через год Иванов получил от Н-ова письмо, в котором тот сообщил, что работает забойщиком на угольной шахте Кузбасса, что сразу же, как только устроился на работу н получил общежитие, женился на "хорошей дивчине", что у них теперь растет сын, которому пошел второй месяц…
Вот она, скорбная формула жизни, которую неведомый простолюдин некогда облек в пословицу "от тюрьмы да от сумы не отрекайся", а другой человек, может быть, в другие печальные времена сложил об этом кручинную песню и, обиженный судьбой, пел ее под рыдания шарманки, мешая слова со слезами:
Судьба играет человеком,
Она изменчива и зла…
Заканчивалась глава диссертации Иванова утверждением, что истоки чистоты всего живущего на земле идут от чистоты Матери. А последний абзац главы, который особенно взволновал Калерию, она решила прочитать мужу вслух.
– Сережа, послушай, как заканчивает одну из глав диссертации тот самый Иванов, о котором я тебе говорила. Прочитать?
– Сделай милость, – потягиваясь в кресле, ответил Сергей Николаевич и, закрыв "Огонек", сделал вид, что внимательно слушает жену.
Калерия начала читать с выражением:
"Мать!.. Святое слово!.. Родина-мать, Москва-матушка, Волга-матушка… То, что можно простить солнцу, – нельзя простить матери. Она чище и святее солнца. Прегрешение матери перед своим дитем – это страшнее исчадья ада. Я был потрясен, когда впервые прочитал короткое стихотворение ныне живущего поэта-фронтовика, написанное о матери:
Жен вспоминали – на привале,
Друзей – в бою…
И только мать
Не то и вправду забывали,
Не то стыдились вспоминать.
Но было, что пред смертью самой
Видавший не один поход
Седой рубака крикнет: «Мама!..» —
И под копыта упадет".
Когда Калерия закончила читать стихи, в глазах ее стояли слезы. Ее волнение передалось и мужу.
– Прекрасный поэт! Твой диссертант Иванов среди холодных диссертантов, которыми сейчас можно пруд прудить, мне представляется белой вороной. Наверное, на его лекциях в аудитории нет свободных мест.
Калерия вздохнула.
– К сожалению, он не читает лекций. Он всего-навсего капитан по званию и, как сказал профессор Угаров, работает воспитателем в одной из колоний несовершеннолетних. – Калерия положила на журнальный столик диссертацию с закладкой посредине. – Ты прочитай, пожалуйста, весь раздел этой главы, в нем всего одиннадцать страниц, а сколько автор смог вместить в эти страницы горечи и страданий, причиненных плохой матерью хорошему сыну! И ведь какой-то мерзавец эту главу. вырезал из первого экземпляра диссертации. Я бы многое отдала, чтоб найти этого человека.
– Он когда-нибудь всплывет сам. Если этот тип мог совершить подобное, то он совершит поступки более омерзительные. Жизнь приливами своих волн выбрасывает таких на берег как дерьмо.
– Ты в это веришь? – строго глядя на мужа, спросила Калерия.
– Верю!.. Когда-нибудь, подобно одному из лермонтовских героев, я стану фаталистом. И еще я верю в одну мудрость древних римлян.
– Что это за мудрость?
Сергей Николаевич положил руку на диссертацию Иванова и, закрыв глаза, строго, раздумчиво произнес:
– Цезарю – цезарево, быку – быково. – И, помолчав с минуту, сказал: – Соловья баснями не кормят. Я жду команды на ужин. И чтобы на столе стояла обещанная бутылка Хванч-Кары, которую ты спрятала за тридевять земель. Последние две недели ты держишь меня под прессом сухого закона. Так можно подсохнуть.
За ужином, когда выпили по бокалу вина, Сергей Николаевич как-то особенно подмигнул Калерии и, не дожидаясь ее вопроса о том, что бы означало его загадочное подмигивание, картинно разгладил усы и произнес:
– Мне в жизни крупно повезло!
– В чем?
– В том, что бог послал мне такую умную жену.
– Спасибо!.. – в тон ответила Калерия – И трижды спасибо за телефонный разговор с моим начальником.
Глава тридцать третья
Как на каторгу собиралась Калерия в пединститут, где она должна просидеть добрых полдня за чтением диссертации человека, к которому у нее после первой же встречи, в первые минуты разговора с ним сложилось предубеждение в его неискренности и непорядочности по отношению к жене и к Валерию. И какое-то особое чутье ей словно подсказывало, что по своей природе этот человек, если ему выгодно, может пойти на обман и на подлость по отношению к каждому, кто окажется хоть маленькой помехой на его пути. Особенно Яновского выдавали его большие темно-серые глаза, которые, как две огромные капли ртути, бегали на белом блюдце. Больше двух-трех секунд он не мог смотреть в глаза собеседнику, словно при этом остро чувствовал, что глаза его подводят и выдают мысли.
Мудр и опытен был человек, который первым выразил мысль о том, что глаза – это зеркало души. Этот афоризм пока еще не подводил наблюдательного человека. Умный человек не поверит крепкому пожатию руки, которым иногда пытаются прикрыть враждебное чувство; он почувствует фальшь в раскатистом искусственном смехе человека, желающего подхалимски подыграть начальнику, только что произнесшему плоскую остроту или шутку; он правильно прочитает заученную дежурную улыбку чиновника, пользующегося этой улыбкой, чтобы создать впечатление доброжелательности и душевной распахнутости. Но глаза… В глазах не спрячешь удаль, если она буруном кипит в душе отважного человека. В них не вспыхнет даже малейшего проблеска озарения и радости если душа человека томится под гнетом страдания или печали. Только у дураков и у тупиц, чей эмоциональный мир утонул в болоте физиологических инстинктов животного, глаза, как бильярдные шары, перекатываются в своих орбитах, ничего не выражая и ни о чем не заявляя. Этого божественного дара зеркальности души лишены также глаза совершенно слепых людей. В эти ничего не выражающие глаза трудно бывает смотреть. Пламень жизни в них когда-то однажды угас, и они навсегда остались на человеческом лице обуглившимся пепелищем.
Если бы не просьба профессора Угарова, так настойчиво убеждающего Калерию поступить в аспирантуру, и не ее обещание познакомиться с диссертацией Яновского и поддержать его на защите, она бы никогда не стала читать даже пустяковой статьи человека, к которому у нее сложилось чувство глубокого неуважения. Не верила Калерия и в прочность брака Яновского с матерью Валерия, молодость которой, как ей казалось, прошла не через одну тропинку женского и материнского прегрешения. А потом, что такое курортная любовь под знойным солнцем юга, обласканная плеском морских волн, заколдованная пением ночных цикад? Пальмы, море, молодое кавказское вино… – все это словно глухой завесой застилает суматоху докурортной трудовой жизни с ее волнениями на работе, заботой о хлебе насущном, магазинно-кухонной толчеей, неполадками в семье и всем тем, что изо дня в день мочалит человеческие нервы. Он же моложе ее на целых десять лет. Нужно быть Айседорой Дункан, чтобы, махнув рукой на разницу в летах, очертя голову броситься в пламень вспыхнувшей страстной любви! Но там была Дункан!.. Великая актриса, чей темперамент и природный талант не укладывались в привычные шаблоны, сработанные веками. Аномалии бывают не только в земной коре, они бывают и в человеческих душах. Дункан встретилась с солнцеликим поэтом, златокудрым голубоглазым Лелем, молодая стать гибкого и стройного тела которого могла свести с ума женщину пламенную и страстную. А здесь?.. Затурканная работой на двух ставках участкового врача мать-одиночка, с молодых лет в душе своей несущая тяжкий крест вины перед сыном, которого она лишила отца, и перед женихом-солдатом, обманутым и преданным в самом святом… Эти мысли точили мозг Калерии, когда она ехала в институт. И как ни старалась она отогнать эти мысли, они, как назойливая мошкара, кружились в ее голове. "Я бы на ее месте сразу же поняла, что нужно от нее этому альфонсу с мускулатурой атланта. В ней взыграла просто баба при виде породистого и сильного мужика. А в нем?.. В нем сработал тонкий и верный расчет. Москва, аспирантура, постоянная прописка… А там… Статистика последних двадцати лет утверждает, что каждый третий брак в нашей стране распадается. Одни не сходятся характерами, другие открывают в себе огромную разницу темпераментов и привычек, третьи вообще не созданы для семейной жизни… Причин развода можно назвать десятки, сотни. Они, эти причины, так же несхожи между собой, как несхожи отпечатки человеческих пальцев у всех людей, живущих на земле. И, как утверждает криминология, эти отпечатки не повторяются на земле в течение миллиона лет. Но есть… есть в этом сонме причин разводов супружеских пар одна такая причина, которую можно квалифицировать как преступление, хотя она пока еще благополучно пребывает в границах нравственности. В основе этой причины лежит карьеризм и предательство. Сергею легче жить, он твердо верит, что волны жизни, подобно морским приливам, рано или поздно выбросят на берег дерьмо и гнилушки и разобьют о скалы подлецов и негодяев. Он верит, что сколько вор ни воруй, а объятий уголовного кодекса ему не миновать. А мне вот иногда кажется, что такие, как Яновский, наловчились чутьем своим улавливать и обходить волчьи капканы и рассчитывать капризы стихий, чтобы не разбиваться о скалы. – Калерия вздохнула, закурила, пока светофор горел красным светом. И, мысленно споря с мужем, продолжала свивать в клубок невеселую думу. – Ну вот хотя бы я… Ведь мне неприятен этот Яновский, а я еду читать его диссертацию и, если найду в ней хоть крохотные зерна свежих мыслей и пользы практическим работникам, должна обязательно выступить и хвалить этого прощелыгу. А зачем?.. Зачем все это я буду делать? Из уважения к профессору Угарову? Или потому, что если надумаю пойти в аспирантуру, то в лице профессора Верхоянского я найду надежную поддержку? – Глубокий протяжный, как стон, вздох как бы сплелся с ее невеселой думой. В душе Калерии вспыхнул буйный и неожиданный протест. – Нет!.. Я должна походить на Сергея!.. Сергей на моем месте не стал бы петь дифирамбы недостойному человеку, если даже он как-то ухитрился выразить достойные мысли".
На кафедре Верхоянского Калерию встретила секретарь, уже далеко не молодая, но все еще молодящаяся особа, которая после каждых трех-четырех слов находила удобный случай бросить взгляд в небольшое зеркальце, висевшее на стене на уровне ее головы.
– Уверяю вас: защита обещает быть блестящей! Официальные оппоненты прислали такие отзывы, что диссертант, читая их, не нашел ни одной зацепки, чтобы вступить в полемику с оппонентами. – Мельком взглянув в зеркало и ловким движением пальцев поправив локон, закрывающий ухо, секретарша посмотрела на Калерию. – А вы знаете, какой он блестящий полемист! Я тридцать лет работаю на кафедре, за это время сменилось четыре заведующих, на моих глазах прошло более двадцати потоков аспирантов, а в ораторском искусстве равных Альберту Валентиновичу не было!.. При этом кроме безупречной логики, блестящего образования и молниеносной тактики в полемических баталиях Альберт Валентинович прекрасный артист. И я заметила, как в накале своих речей он иногда вдруг делает такую неожиданную и продолжительную паузу, которая приобретает особую силу воздействия на аудиторию.
– Такую паузу в ораторском искусстве некоторые называют "плехановской", – прервала назойливую трескотню секретарши Калерия. И чтобы как-то оборвать дифирамб Яновскому, она решила, что пора взять нить разговора в свои руки. – Историки и биографы Плеханова свидетельствуют о том, что сила его паузы иногда оказывала магическое действие даже на ярых его оппонентов. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в свободную минуту. А сейчас я очень прошу вас дать мне на несколько часов диссертацию Яновского. Меня просили прочитать ее профессор Верхоянский и Петр Нилович Угаров. А у меня так мало времени. Я с большим трудом отпросилась у своего начальства.
Секретарша была женщиной догадливой и, поняв, что ее похвалы в адрес Яновского Калерию уже утомили, быстро перестроилась на деловой и официальный тон.
– Мне только что звонил о вас Гордей Каллистратович и просил, чтобы я открыла для вас его кабинет. Вы можете уединиться, и вам никто не будет мешать. Там есть телефон, есть для заметок бумага, пишущая машинка… А если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, я к нашим услугам. – Секретарша достала из ящика своего стола толстую диссертацию, переплетенную в темно-вишневую ледериновую обложку и сверкающую позолотой тисненых букв на корешке, протянула ее Калерии и тут же, уловив на ее лице улыбку удивления, не удержалась: – Альберт Валентинович даже в этом эстет.
– Да-а… – протянула Калерия, – в таком оформлении можно посылать диссертацию на полиграфическую выставку.
Кабинет профессора Верхоянского был небольшим, но на всем лежала печать вкуса и строгого порядка. Книги на стеллажах стояли ровными рядами, расставленные по стенам полумягкие стулья темно-зеленой обивки гармонировали по цвету и фактуре ткани с портьерами. Ковровая дорожка, бегущая от двери к письменному столу, тоже частично вобрала в себя цветовые тона стульев, портьер и зеленого абажура.
Не тратя времени на разглядывание интерьера кабинета и книг, занимающих почти от пола до потолка глухую стену, Калерия, вооружившись ручкой и четвертушками плотной белой бумаги, лежавшей на письменном столе, приступила к чтению диссертации.
Введение, в котором, как правило, всегда ставятся вопросы, которые будут обосновываться и развиваться в диссертации, она прочитала бегло. А вот когда начала внимательно читать главы, то от страницы к странице стала испытывать непонятное ей чувство смятения, граничащего с тревогой. "А здорова ли сегодня я? Может, у меня в мозгу двоение?"
Через полтора часа, в течение которых Калерия прочитала около пятидесяти страниц, она сделала в диссертации закладку и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла. В эту минуту она сама себе вдруг показалась пассажиром, ехавшим в поезде из Владивостока в Ленинград. За несколько суток вагонной тряски и мелькания за окном всего того, что простирается на десятитысячекилометровом пути, она как бы сжилась с пассажирами вагона, сроднилась с приветливыми улыбками молоденьких девушек-проводниц, подрабатывающих в свои студенческие каникулы. А что касается пассажиров своего купе, то с ними переговорено столько, что биография каждого лежала у нее словно на ладони. Ничто так не сближает душевно открытых людей, как дальняя дорога. И вот на шестые сутки. Калерия приехала в Москву, распрощалась со спутниками по купе, с которыми успела чуть ли не сдружиться, поблагодарила милых девушек-проводниц, заметно уставших за дальнюю дорогу, и, сдав вещи в камеру хранения на Ленинградском вокзале, решила до отхода "Стрелы" поездить по столичным магазинам.
И все вроде бы шло своим чередом. Объехала на такси модные фирменные магазины и за час до отхода "Стрелы" приехала на Ленинградский вокзал. Взяла вещи из камеры хранения, сдала их носильщику и, следуя за его тележкой, подошла к своему вагону. И вдруг… Что это – наваждение или такое поразительное сходство? На платформе у посадочного тамбура стоят те же две милые девушки-проводницы, с которыми она ехала из Владивостока. Одна из них проверяет билеты, а другая стоит в тамбуре и, улыбаясь, приветствует входящих пассажиров. Проходя следом за носильщиком в свое купе, видит лица тех же пассажиров, которые шесть суток ехали с ней из Владивостока до Москвы. Она ничего не понимает, и ей становится страшно, уж не случилось ли у нее что-нибудь с головой? Но вот наконец она входит в свое купе, и ее смятение достигает предела: в купе сидят те самые три пассажира, с которыми она ехала до Москвы и при прощании (а все они ехали в разные города) крепко жали друг другу руки. Калерия, как во сне, рассчиталась с носильщиком и, поймав на себе отчужденные взгляды соседей по купе, лица которых она запомнила на всю жизнь, медленно опустилась на полку и закрыла глаза.
Сколько она сидела, откинувшись на спинку кресла, с закрытыми глазами, она не знала. Только теперь, справившись с чувством страха и опасением за свой рассудок, она поняла, что люди, о которых она несколько дней назад читала в диссертации Иванова, перекочевали со своими горестями и радостями в диссертацию Яновского. Пересев из поезда Владивосток – Москва в поезд Москва – Ленинград, они успели только сменить свои имена и фамилии, переправить в паспортах специальности и места жительства. А некоторые из них даже не успели сделать и этого.
Листая страницы диссертации, Калерия дошла до раздела второй главы, озаглавленного "Трагедии матерей-вдов". Глава начиналась почти теми же словами, что и раздел в диссертации Иванова, кем-то вырезанный из первого экземпляра. Кусочек этой главы она вчера вечером вслух читала мужу и даже трогательно прослезилась, дойдя до глубоко взволновавших ее стихов Марка Максимова о матери. Теми же стихами заканчивалась глава и в диссертации Яновского. У Иванова несовершеннолетний преступник Н-ов стрелял в мать и в ее любовника в шахтерском городке Донбасса, а у Яновского два роковых выстрела были произведены в одном из уральских городов. После трехлетнего пребывания в колонии заключенный Н-ов в диссертации Иванова уезжает в шахтерский городок Сибири, а у Яновского Н-ов находит пристанище и работу в небольшом шахтерском городке Донбасса.
Дальше Калерия читать не могла. Чувствуя нервный озноб, она встала, закурила и, терзаемая раздирающей ее сознание мыслью о том, что она должна что-то безотлагательно сделать, прошлась по ковровой дорожке. "Нет, молчать об этом нельзя!.. Пускать в науку таких проходимцев – это преступление!.." И тут же сердце захлестнуло незнакомое ей раньше чувство мстительного упоения, предвкушение справедливой расплаты, которая должна обязательно свалиться на голову нечестно преуспевающего Яновского. Глубоко затягиваясь сигаретой, сбивая с нее пепел прямо на ковровую дорожку, она взад-вперед ходила по кабинету, пока еще точно не определив своего дальнейшего поведения. "Медлить с этим нельзя!.. Защита диссертации назначена через месяц, нужно что-то срочно предпринимать! – Но тут же, стараясь подавить в себе вспышку гнева и возмущения, начала рассуждать: – А чего я, собственно, боюсь?!. Яновский обеими ногами попал в капкан. И если его публичное разоблачение состоится после голосования членов ученого совета и диссертация пойдет на утверждение в ВАК, то позор кафедры и факультета примет более широкую огласку, а сам диссертант попадет в центр такой скандальной истории, от которой он не отмоется всю свою жизнь…"
Чувство, охватившее в эти минуты все существо Калерии, чем-то напоминало ликование пиромана, пришедшего в экстаз при виде пожара, который принесет немало горя и лишений погорельцам. Участь Яновского, когда о его позоре узнают люди, будет куда горше, чем участь погорельца. И это наполняло Калерию каким-то полухмельным чувством предвкушения торжества справедливости.
Как всегда, когда в острых ситуациях Калерия не находила четких и точных решений и не знала, как поступить ей в положении, требующем немедленных действий, она позвонила мужу. Однако, боясь, что телефон у профессора Верхоянского сдвоен с аппаратом его секретарши, она открыла дверь и, убедившись, что секретарши на месте нет и никто ее не подслушивает, набрала номер телефона. Трубку Сергей Николаевич поднял сразу же, после первого гудка.








