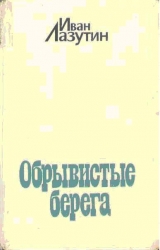
Текст книги "Обрывистые берега"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Глава двадцать первая
После того как Валерия арестовали, а Веронику Павловну увезла «скорая помощь», Яновский, пользуясь тем, что родители Оксаны отдыхали в Сочи, почти переселился на дачу своего научного руководителя. Даже в больницу к жене он приезжал с Оксаной, оставляя ее на полчаса в машине, где она с упоением читала журнал с романом Агаты Кристи. С ней же он ездил и в отделение милиции, чтобы узнать причину ареста Валерия. И когда ему сообщили, что пасынок его привлекается к уголовной ответственности за групповое ограбление квартиры по статье сто сорок пятой Уголовного кодекса РСФСР, он настолько удивился и возмутился, что следователю пришлось его успокаивать.
– Хотя он мне не родной, но я за него могу ручаться! Он никогда не позволит украсть копейку! Получилось какое-то недоразумение!.. Я прошу вас при расследовании подойти с максимальной ответственностью и благожелательностью.
– Все это будет сделано, товарищ, и без вашей просьбы. Этого требует от нас советское законодательство.
А когда Яновский узнал, что Валерия поместили в следственный изолятор на Матросской тишине, то он тут же не преминул поинтересоваться, сколько его там продержат.
Следователь пожал плечами:
– Вот этого я вам не могу сказать. Скорее всего, продержат до суда, потому что статья, по которой привлекается Валерий Воронцов, серьезная.
– А когда будет суд? – с выражением глубокой озабоченности на лице спросил Яновский.
– Когда закончится следствие и будет вынесено обвинительное заключение.
– Ну, все-таки: дня два-три, неделю, две недели или больше?
– Вы шутник, гражданин. Исчисляйте следствие не днями и не неделями, а месяцами.
Яновский задумался и, перед тем как уйти, спросил:
– А передачи?.. Можно передавать?
Следователь посмотрел в какой-то график, который он достал из стола, и сказал, в какие дни и в какие часы в следственном изоляторе на Матросской тишине принимают передачи.
– И только раз в месяц.
– Так редко? – удивился Яновский.
– Чаще не положено.
Когда Яновский вернулся к машине, Оксана, оторвавшись от книги, подняла на него свои большие глаза.
– Ну как?.. Где он?
– В тюрьме.
– За что?
– Влип в ужасное. Ограбление квартиры. Причем ограбление групповое. А это уже хуже. – И, помолчав, хмуро продолжил: – Я всегда чувствовал, что в крови этого недоросля подмешаны гены преступника. Еще не известно, кто его родной отец. Моя благоверная, сколько я ни допытывался, кто настоящий отец этого подкидыша, всегда плела мне сказку по-разному. И чтобы как-то оградить своего отпрыска, она старалась обвинить себя и возвысить свою первую любовь, вину перед которой ей никогда не искупить.
– Она просто хитрая и прожженная бестия. Другая бы так начала поносить и лить грязь на человека, с которым разошлась, а эта, видишь, нахваливает. И тебя-то заманила, разыграв из себя несчастную брошенку.
– Нет, ты напрасно так строго судишь ее. Она не подлая, она просто неинтересная. Ну а сейчас, когда она дышит на ладан, плохо говорить о ней – грешно и жестоко.
– И сколько же дадут ему?
– Это определит суд. Дежурный сказал, что до суда пройдет не один и не два месяца.
– И все это время он будет находиться в тюрьме?
– Естественно. Статья серьезная.
– А она? – Оксана завела машину и тронулась.
– Что она?
– Сколько она пробудет в больнице?
– Я говорил с лечащим врачом: месяца полтора-два, не меньше. И то это в том случае, если не будет ухудшений.
Оксана затаенно улыбнулась, и в этой улыбке Яновский прочитал многое: и то, что встречаться они будут каждый день, и не только день, но и ночь у них будет общая, и что арест Валерия тоже работает на ее планы.
– Куда мы сейчас? – спросил Яновский.
– У тебя есть деньги? – рассеянно спросила Оксана и резко затормозила машину перед красным светофором.
– Немного.
– Сколько?
– Рублей тридцать.
Оксана глухо рассмеялась.
– И это все, на что мы будем жить август и сентябрь? Нам на хлеб и сигареты не хватит.
Яновский ничего не ответил. Откинувшись на спинку сиденья, он поднял высоко голову и сидел неподвижно с закрытыми глазами.
– Что же ты молчишь, мой повелитель?
– У нее есть один резерв, но он для меня был всегда неприкосновенным.
– Что это за резерв?
– Целый год она копила сыну на мопед. В сентябре собиралась купить.
– Сколько он стоит?
– Что-то около трехсот рублей.
– Это уже сумма! – Прикурив от механического патрона, вмонтированного в машине, Оксана желчно улыбнулась. – В октябре – ноябре ее чадо будет возить тачки где-нибудь на рудниках или гонять вагонетки на шахтах. Так что объясни ей: пусть с мопедом пока повременит. Он заржавеет, пока дождется своего хозяина. Нам нужны деньги.
– Ты циник, Оксана.
– Я реалистка. – И, резко повернувшись к Яновскому, и упор, словно выстрелив глазами, посмотрела на него зло и осуждающе. – Ты, наверное, забыл, что были у нас денечки, когда я не боялась вторгаться в запретные резервы отца. И ты в этих случаях был олимпийски спокоен. Даже подбадривал меня.
– Ты меня ставишь в мерзкое положение, Оксана.
– А ты меня ставишь в положение погорельца. Послезавтра у меня будут просрочены все ломбардные квитанции.
Несколько минут ехали молча, каждый мысленно выискивал доводы своей правоты в неприятном и всегда унижающем человеческое достоинство разговоре о деньгах.
– Хорошо, я возьму часть денег, что она копила сыну на мопед, только учти: потом мне придется как ужу изворачиваться, чтобы объяснить, на что я их потратил.
– Почему часть? Нужно взять все деньги. Около трехсот рублей уйдет только на выкуп вещей в ломбарде.
– Мы их тут же перезаложим и вернем эти же деньги. Может быть, с разницей в восемь – десять рублей.
– Какой же ты умный!.. Какой ты у меня догадливый!.. Тебе можно без защиты диссертации присваивать доктора экономических наук.
– Прошу без злых шуток и не мешать мою диссертацию с ломбардными квитанциями.
Оксана посмотрела на Яновского так, что тот поежился. Последние два месяца она не раз говорила ему о беспокойстве отца за его диссертацию, о том, что "ВАК свирепствует", что "ученый совет при защите хвалит, а при тайном голосовании пускает черные шары", что последние три года все защитившие кандидатские диссертации с превеликим трудом получают в московских институтах места ассистентов с окладом в сто двадцать рублей…
– Не гневайся, мой ангел, что-нибудь придумаем, – умиротворенно сказал Яновский.
– Нужно не придумывать, а действовать!.. Через неделю я должна выехать в санаторий. Неужели ты хочешь, чтобы я была там как общипанная курица?!. – Оксана бросила руль машины, идущей на большой скорости, и судорожно поднесла к лицу Яновского руки с растопыренными пальцами. – Любуйся!..
Только теперь Яновский обратил внимание, что на пальцах ее рук не было ни одного перстня.
– А кого ты собираешься соблазнять и очаровывать там своими драгоценностями? – с язвительным подтекстом, в котором сквозила неприкрытая ревность, спросил Яновский.
– Кого?.. Ты не догадываешься, кого я собираюсь очаровывать? – Оксана искоса бросила насмешливый взгляд на Яновского.
– Да!.. Кого?!
– Песчаный пляж и Черное море! – Довольная своим ответом, Оксана рассмеялась. – Теперь ты успокоился, мой без пяти минут кандидат наук и без двух-трех месяцев мой законный муж?
– Да… Я успокоился… – с расстановкой ответил Яновский.
– Ну и умничка! А теперь поедем к тебе за пиастрами, которые мы вернем их владелице при первой же возможности. – После паузы тихо спросила: – Где на этот раз поставим машину? Как всегда, по-воровски в Пименовском переулке? – И, горестно вздохнув, отрешенно проговорила: – Ох, как мне осточертела эта мерзкая конспирация!
– Потерпи еще немного, милая.
– Так где мне остановиться?
– Давай во двор! Прямо к моему подъезду! – решительно сказал Яновский, по его пыл остудила Оксана.
– А дворник?!. Как он посмотрит на твое мужество? – Язвительный тон, с которым прозвучал вопрос Оксаны, заставил Яновского изменить решение.
– Не будем дразнить гусей. Ты права: наш дворник ехиден и злопамятен, как язва моровая. Он за мной следит. Я это почувствовал еще в прошлом году. Старик воевал в гвардейских частях и гордится, что всех жильцов своего дома он видит как под рентгеном.
И на этот раз Оксана поставила "Жигули" в Пименовском переулке.
– Пока ты ходишь за деньгами, я позвоню домой: узнаю, не принесли ли билет. Заказывала его на сегодняшнее число.
– А кому его передадут? Ведь дома ты осталась одна?
– Я попросила посидеть у нас тетю Лушу. Не могу же я из-за билета, без гроша в кармане, как привязанная собачонка, сидеть дома и ждать, когда агент принесет мне билет на самолет.
Пока Яновский ходил домой, Оксана зашла в магазин "Вино" и, прикидывая, сколько они могут потратить на спиртное из денег, которые должен принести Яновский, решила: "Две бутылки коньяка, полдюжины бутылок сухого вина и дюжину пепси-колы. Так, чтобы отшельниками сидеть целую неделю на даче".
Когда Оксана вернулась из магазина, Яновский уже прохаживался неподалеку от машины и о чем-то, судя по его виду, сосредоточенно думал.
– У тебя на лице печать смертного приговора! – пошутила Оксана. – Выше голову, рыцарь!.. У нас впереди вечность!.. Будут еще и не такие штормы.
– Тебе об этом говорить легко, – подавленно сказал Яновский. – А какими глазами я буду смотреть в ее глаза, когда она вернется из больницы? Чем будем отдавать?
– Во-первых, мой милый, это будет не скоро. Во-вторых, мы же договорились: мы взяли в долг. В до-о-олг!.. Ведь будут же у нас более лучшие времена в сравнении с сегодняшним днем. Пойдем в магазин. Я уже все выбрала. Целую неделю мы будем с тобой под крылом Амура.
Яновский восхищенно смотрел на Оксану.
– Тебя нельзя не любить. Ты – сатана!.. Боюсь только одного…
– Чего ты боишься, мой ангел? – Оксана взяла Яновского под руку и взглядом показала в сторону магазина "Вино". – Ну, говори, что тебя страшит?
– Боюсь, как бы на юге, на песчаном пляже Черного моря, тебя не украли у меня.
Оксане всегда льстило, когда Яновский ревновал ее.
– Вот теперь я вижу, что ты меня любишь, мой мавр. На дачу они приехали, когда уже совсем стемнело.
Оксана была возбуждена. Яновский давно заметил, что утром, просыпаясь, она почти всегда была разбитая после вчерашних вин и коктейлей. Голос ее сипло дрожал на расхлестанных басах, пальцы ее рук дрожали, до утреннего кофе она успевала выкурить несколько сигарет и всякий раз утром давала себе клятвенное обещание, что сегодня спиртного не примет ни капли. К полудню она постепенно оживала и приходила в себя. А когда наступал вечер, она словно преображалась: вместе с возбуждением в нее вселялась алкогольная тоска и диктовала делать то, что она отвергала утром.
Несмотря на то что в каждой комнате и на двух верандах дачи висели светильники и люстры, Оксана любила "кайфовать" при зажженных свечах. Для этого она ставила посредине стола два массивных бронзовых подсвечника и торжественно, словно священнодействуя, зажигала свечи, давала при этом Яновскому жестами таинственные знаки, прикладывала пальцы к губам, чтобы он молчал и тоже "включался". Подыгрывая Оксане, Яновский с замиранием духа ходил на цыпочках, все делал плавно, бесшумно, таинственно. Это правилось Оксане. Однако вся эта благоговейная торжественная тишина нарушалась после первых выпитых рюмок коньяка. Оксана словно преображалась, включала магнитофон, и начинались "ритмы века".
Оксана была уверена, что она "божественно" сложена, что на пляжах Черноморья ее не столько ласкают волны моря, сколько обволакивают взгляды отдыхающих, когда она картинно прогуливалась по пляжу, когда входила в воду или выходила из нее. Когда ей было шестнадцать лет (на юг в тот год она ездила с родителями), то эти прилипчивые взгляды Оксану смущали, ставили в неловкое, стыдливое напряжение. Когда же ей исполнилось восемнадцать, то она не просто смирилась с молчаливым мужским поклонением, но это стало наполнять все ее существо радостью и затаенным восторгом.
Яновский уже привык к тому, что после двух-трех тостов (а Оксана строго исповедовала принцип – "без тостов пьют одни алкоголики") она порывисто вставала из-за стола, подходила к нему, говорила нежности, возвеличивала его то в "гении", то в "рыцари" и, проникаясь чувством материнской нежности, еле касалась губами его щек, лба, называя то "милым мальчиком", то "непослушным малышом", то "озорником" и "шалунишкой"… Она знала при этом, а скорее чувствовала, что ласки ее постепенно разжигают в Яновском плотские страсти, которые в ней уже начали давать о себе знать, когда она видела перед собой алый, чувственный рот сильного мужчины.
Оксана наполнила рюмки коньяком, разломила пополам шоколадку, встала и замерла в торжественной позе.
– Мой лев!.. Мой могучий царь джунглей!.. Твоя покорная серна предлагает выпить за то, чтобы, как только в висках твоей буйной шевелюры засеребрится первая паутинка седины, ты уже стал бы академиком! Папа всегда говорит, что ты далеко пойдешь. Сейчас твоя стайерская дистанция только начинается!..
Оксана поднесла к губам рюмку, но ее резким жестом остановил Яновский. Тост Оксаны привел его в восхищение.
– А кто на этой мучительной марафонской дистанции будет рядом со мной? Кто будет давать мне силы?
Оксана вскинула голову и отступила на шаг.
– Твоя тень, твоя верная собака. Она будет бежать рядом с тобой от старта до финиша с высунутым языком!
Яновский встал, приложил руку к сердцу и поклонился. Прежде чем поднести ко рту рюмку с коньяком, он выразительно прочитал стихи Блока:
…За чарующий взор искрометных очей
Я готов на позор и под плеть палачей.
Оксана подошла к Яновскому, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку.
– Выпьем, мой мальчик! Пусть этот тост будет пророческим!
Они выпили. Вскочив на колени Яновскому, Оксана обвила его шею руками, ее тонкие, длинные пальцы заскользили по его упругой волосатой груди.
– Знаешь, кого ты иногда мне напоминаешь?
– Кого?
– Знаменитого Тарзана. В пятидесятые годы этот фильм вызвал целую эпидемию подражательства.
– Откуда ты знаешь? Ведь тогда ты была еще девчонкой.
– Мне об этом фильме рассказывали. Заинтригованная женскими ахами и охами, я месяц назад бросила все и полетела в кинотеатр повторного фильма. И вот там-то, сидя в затемненном зале, я видела не Тарзана, а тебя! Да, да, тебя!.. Как я металась после фильма, как я хотела почувствовать тебя, твое горячее, сильное тело, твои властные руки, но ты в это время уезжал в Одессу хоронить двоюродного дядю.
– И что же ты мне не сказала об этом, когда я прилетел из Одессы? – Сравнением с Тарзаном Яновский был польщен.
– На твоем лице после похорон дядюшки около двух недель покоился траур. А траур и любовь, наша любовь!.. – несовместимы!.. – На словах "наша любовь" Оксана сделала ударение.
– Мой ангел, не кажется ли тебе, что мы слишком глубоко нырнули в омут рассуждений и воспоминаний. Давай лучше любить друг друга. – Горячей широкой ладонью Яновский гладил обнаженную выше колена ногу Оксаны. Потом легко поднял ее на руки и, напевая мелодию вальса, сделал несколько кругов по гостиной. – Пока мы не будем пить.
– Нет, вначале выпьем сухого. У тебя тонкая фантазия! Ты у меня не просто Тарзан, а французский Тарзан!..
Яновский бережно посадил Оксану на диван, наполнил бокалы сухим вином. Чокнулись. Пили стоя, не отрывая друг от друга глаз. Когда Оксана поставила пустой бокал на стол, Яновский заложил в магнитофон новую кассету. Оксана начала танцевать не сразу. Окаменев на месте, она беззвучно что-то шептала.
Яновский сидел в глубоком мягком кресле, всего в двух шагах от Оксаны, глаза его блестели, весь он в эту минуту был сгустком плотской чувственности.
– Ну, что же ты?!. Что ты сидишь как каменный сфинкс?!. – еле слышно, с придыханием проговорила Оксана. – Неси меня в спальню!.. Ну, неси же!..
Но Яновский не торопился. У него всегда хватало терпения дождаться, пока она не бросалась к нему в объятия, и он нес ее в спальню. Не изменил он своим привычкам и на этот раз. Целуя, он на руках донес ее в спальню и положил на розовое пуховое одеяло. Когда Яновский включил люстру, Оксана замахала руками.
– Выключи эту иллюминацию! Принеси сюда свечи! Люби меня, как дикари любили своих женщин при свете костров в пещерах!..
Яновский принес из гостиной два бронзовых подсвечника, зажег свечи и выключил люстру.
– Ну, иди, иди же ко мне, мой мавр!.. – задыхаясь, шептала Оксана.
Глава двадцать вторая
Чувство солидарности, наверное, поселилось в душе человека с того момента, когда он с четверенек поднялся на ноги и его передние конечности стали выполнять те функции, которые с тысячелетиями, совершенствуясь в своих действиях от элементарных рабочих операций (добывание огня, метание стрел во время охоты, рыхление земли мотыгой…), дошли до филигранных операций на глазе при замене живого хрусталика искусственным, до создания шедевров скульптуры и ремесел.
Чувство солидарности, в обычное время дремлющее в душе человека, пробуждается и вспыхивает подобно пороху, на который падает искра, когда этой искрой служит пример другого человека. Вряд ли поднялась и пошла бы в атаку залегшая под губительным огнем врага стрелковая рота, если бы первым не поднялся солдат и не повел роту в атаку.
Стоит только в притихшем застолье или гульбище кому-нибудь вдруг затянуть протяжно "Из-за острова на стрежень, на простор речной волны…", как застолье оживает, глаза всех вспыхивают, и над столами, как в половодье Волга, широко разольется: "Выплывают расписные Стеньки Разина челны…" Дальше песня втянет в свою орбиту даже тех, кто по природе своей к песне холоден.
Из чувства солидарности не только идут в атаку и умирают, не добежав до передних окопов врага, не только, обожженные огнем похмельного веселья, идут в пляс или поют величальные, кручинные и ямщицкие песни… Из чувства солидарности и плачут. Плачут при виде близкого или родного человека, которого постигло горе, когда скорбная речь над гробом умершего падает искрой печали на душу человека, для которого умерший не был ни братом, ни другом, ни женой…
Это извечное чувство человеческой солидарности охватило обитателей камеры № 218, когда в ней появился Валерий Воронцов. До его прихода Пан, по чьей-то ошибке помещенный в камеру несовершеннолетних, что является нарушением режима изолятора, главенствовал в камере не только как старший по возрасту и как человек, прошедший "огонь, воду и медные трубы". Над разобщенными и разными по своим печальным биографиям подростками он буквально издевался. Смакуя, упивался своей физической силой и волевым превосходством. Семнадцатилетнему тонкому, как тростинка, Сергею Моравскому каждый день после завтрака приходилось чесать истатуированную пошлыми рисунками спину Пана. И чесать не просто поводя нажатием ногтей по его пахнущей потом сальной коже, а чесать виртуозно, то замедляя, то ускоряя темп. Когда Сергей Моравский уставал и делал паузу, то Пан, лежавший на прутьях железной кровати, рычал:
– Ну, чего затих?!.. Левую лопатку!.. Чего ты все по правой елозишь?!.
Черноглазый, низкорослый бутуз Костя Гаврилов, койка которого стояла рядом с койкой Пана, страдал оттого, что Пан ночью его несколько раз будил лишь потому, что Костя храпел. Причем храпел еле слышно, и храп его чем-то напоминал всхлипы плачущего ребенка. Будил его Пан изощренно: как только услышит звуки, похожие на всхлипы, он тут же протягивал свою широкую, как килограммовый лещ, кисть руки и опускал ее на полураскрытый рот Кости. Тот во сне задыхался, вздрагивал всем телом, пугался и вскакивал. А Пан, не довольствуясь своей жестокостью и издевательством над спящим подростком, злобно, сквозь зубы цедил:
– Когда же ты, падла арбатская, совсем захлебнешься?!
После стычки с Валерием, пригрозившим Пану, что он задушит его сонного, Пан вначале притих, словно переориентировался, а потом с еще большим азартом и изощренностью стал издеваться над соседями по камере, при этом совершенно не задевал Валерия. Этим самым он как бы давал знать Валерию, что он принял его условие угрозы, а поэтому оставляет его в покое. Так продолжалось трое суток. При виде издевательств Пана над его ровесниками, которых печальный случай ветром судьбы занес в эти мрачные, холодные стены, Валерий глубоко страдал. А Пан искал все новых и новых зацепок, чтобы поглумиться над себе подобными. Но всякому терпению бывает предел. И предел этот был приближен, казалось бы, совсем безобидной выходкой Пана, когда он решил потешиться над Хасаном Амировым, арестованным за то, что с группой таких же подростков, как он, залез в детсад и обворовал его. Мать Хасана, осужденная за спекуляцию на два года, отбывала срок исправительно-трудовых работ где-то в Средней Азии, а отец-алкоголик вот уже второй год по приговору суда проходил принудительный курс лечения в трудовом профилактории где-то во Владимирской области. Оставшись на попечении полуслепой старой бабки, Хасан бросил учебу в ПТУ и занялся воровством. Кража в детском саду была уже третьим случаем судебного разбирательства. В отличие от всех обитателей камеры, кому родственники приносили передачи, Хасану никто ничего не передавал. И он от этого глубоко страдал. Однако дух коллективизма живет не только в часы трудового азарта и в минуты праздничных торжеств. Этот дух живет и в тюремных камерах. Обитатели камеры с Хасаном делились: кто в день передачи отломит кусок колбасы (ничего режущего в камерах не водится), кто положит перед ним несколько пряников, кто даст допить пакет молока… Хасан молчаливо принимал эти знаки заботы и только кивком головы и смущенным взглядом выражал, что он глубоко благодарен за товарищескую заботу.
Если состояние всякого душевного страдания (горечь утраты, отвергнутая любовь, предательство друга…) является одним из тяжких проявлений и ощущений человеческой психики, то тюремная тоска есть тоска особая. В ней как бы спрессовано множество пластов человеческого страдания: потеря свободы, вина перед законом, позор перед друзьями и товарищами, боль, причиненная родным и близким… Не зря еще в предвоенные годы родилось понятие "небо в клетку". Небо – символ бескрайности, воли, свободы… Клетка – образ заточения, тюрьмы, ограничения… Для человека, заключенного в тюремной камере, улица не видна через зарешеченное под потолком окно, видно только небо. Но и то голубеет через железные прутья.
Больше всего Хасана давила тоска по свободе, по небу. А поэтому, чтобы как-то облегчить тяжесть тоски, давящую на его еще не окрепшую юношескую душу, он начал собирать фантики от конфет, которые в передачах получали обитатели камеры. За три месяца пребывания в следственном изоляторе, пока шло затянувшееся следствие, он накопил много фантиков от дорогих конфет, которые в жизни он никогда не ел: "Мишка на Севере", "Косолапый мишка", "Белочка", "Петушок", "Красная шапочка", "Каракум", "Маска", "Ну-ка, отними", огромный фантик конфеты "Гулливер" и множество других фантиков от конфет дешевле ценой. Он собирал их, копил, подолгу рассматривал, при этом мысленно переносился в совершенно другой мир, где нет серых стен камеры, нет зарешеченного неба и нет коварного жестокого Пана с его неистребимой фантазией на изощренные пакости. А однажды Хасана словно осенило. Аккуратно разложив на плахах некрашеного стола все фантики, он, сверкая глазами, разгладил их ладонью, несколько раз, словно в пасьянсе, перекладывал с места на место, будто решая какую-то художественную задачу, и при этом счастливо, с какой-то только ему одному известной задумкой, улыбался. Валерий сидел на ребрах железной койки и наблюдал за Хасаном, пока еще не догадываясь, чем так взволнован Хасан. Лишь после обеда, когда Хасан, нажевав мякиш хлеба, принялся приклеивать фантики к внутренней стенке дверцы шкафа, вмонтированного в толстую стену, Валерий разгадал намерение Хасана. На лексиконе камеры этот шкафчик звали "холодильником", в котором прибито столько полочек, сколько человек содержится в камере. Причем фантики Хасан приклеивал к внутренней поверхности дверцы "холодильника" в таком расположении, в каком они были разложены на столе. Эта работа у него заняла больше часа. Забывшись, он, как ребенок, которому только что подарили новую забавную игрушку, пыхтел у дверцы "холодильника" и самозабвенно делал свое дело. Когда фантики были расклеены, а те, которым не хватило места на дверце, были спрятаны в грудном кармане пиджака, он отошел к двери камеры и, счастливо улыбаясь, принялся любоваться своей "Третьяковкой". С дверцы, как с экрана, на него смотрели золотистая попрыгунья белочка на фоне зеленой листвы, справа от белки девочка в коротенькой юбчонке дразнила собачку, и на устах у нее вертелась фраза: "Ну-ка, отними!" Чуть ниже, почти в самом центре, в окружении смешных лилипутов возвышался благодушный Гулливер. Над Гулливером заблудился в белых торосах "Мишка на Севере", и, как бы контрастируя с северным медведем, рядом с ним по раскаленной пустыне двигался караван верблюдов. На самом верху "Третьяковки" с корзинкой в руке стояла и улыбалась "Красная шапочка".
– Ну как, Пан?.. Хорошо я придумал? – сверкнув улыбкой, спросил Хасан.
– Ты, Хасан, прямо как Репин. За час сварганил свою Третьяковскую галерею! По какой цене будешь брать за погляд?
– Бесплатно!.. – Широко улыбаясь, Хасан скалил свои белые красивые зубы. – А когда будет передача – по конфете с каждого.
Все последующие дни Хасан несколько раз в день, распахнув дверцу "холодильника", подолгу сидел на ребрах кровати и любовался своей "Третьяковкой". Валерию казалось, что в эти минуты Хасан светлел душой.
Капризному Пану радость Хасана вскоре стала надоедать, а может быть даже, в душе разбудила зависть.
– Хасан, сегодня любуешься своей "Третьяковкой" последний день. Завтра ее хоть языком слижи!.. Не получится языком – соскоблишь зубами. Твоими зубами можно решетку перекусить. Я не знаю, чего ты стесняешься. – Довольный своей "остротой", Пан сипло рассмеялся, оглядев при этом остальных обитателей камеры. Не рассмеялся один лишь Валерий, которому этот ультиматум распоясавшегося Пана показался мерзким.
– А ты, мой комиссар, не согласен с моим решением? – спросил Пан, бросив злой взгляд на Валерия.
Само слово "комиссар", произнесенное в стенах тюремной камеры, да еще таким человеком, как рецидивист Пан, Валерию показалось кощунственной издевкой, а поэтому ответил он не сразу. Валерий подбирал в уме своем такие слова, которые не вызвали бы гнев опасного рецидивиста и вместе с тем смогли бы дать ему понять, что он с ним в корне не согласен.
– Что же ты молчишь, коллега? – язвительно спросил Пан.
– Во-первых, я не ваш комиссар, а во-вторых, "Третьяковка" никому не мешает.
– Она не предусмотрена в режиме тюрьмы. Если завтра же Хасан ее не уберет – ее заставит смыть надзиратель! Я об этом побеспокоюсь. – Пан запыхтел и, задрав голову, заходил по камере. По глазам его было видно: встреться ему Валерий где-нибудь в другом месте – он задушил бы его. Так он был ненавистен ему. – Ну что ж, посмотрим, чья возьмет!.. – скривив тонкие губы, проговорил Пан и грузно сел на скелет железной койки.
Этот разговор был последней каплей терпения Валерия, которое пока еще не прорвалось, но решение было уже принято. От обеда он отказался. И когда разносчик пищи спросил, почему он отказывается от еды. Валерий резко бросил в дверное квадратное отверстие:
– С сегодняшнего дня я объявляю голодовку.
– Почему? – вытаращив на Валерия глаза, спросил бритоголовый разносчик пищи.
– Об этом я доложу начальнику изолятора.
– Может, вначале воспитателю?
– Только начальнику! – твердо проговорил Валерий. Такой ответ Валерия озадачил и насторожил Пана. Он сразу почувствовал, что Валерий задумал начать против него войну. А поэтому, тонко хихикнув, покачал головой:
– Ты прямо как революционер в Петропавловской крепости. Сразу объявляешь голодовку!..
На эти слова Валерий ничего не ответил.
Но Пан решил одержать верх в этой пока еще не вырвавшейся наружу вражде с Валерием. Он подошел к кованой двери и, к удивлению обитателей камеры, изо всех сил принялся колотить по ней кулаками. Его стук услышал надзиратель, и окошечко в двери распахнулось.
– Что стучишь? – зло спросил надзиратель.
– Начальник, зайди на минуту. Есть нарушения режима камеры.
– Какие? – последовал вопрос.
– Зайди, тогда увидишь.
Гремя ключами, надзиратель несколько раз повернул в замке ключ, открыл дверь и вошел в камеру.
– Что случилось?
Пан подошел к "холодильнику" и распахнул дверцу.
– Любуйся!.. Не камера, а Третьяковская галерея!
– Кто сделал?! – Надзиратель обвел настороженным взглядом всех, кто был в камере.
– Я, – робко ответил Хасан.
– Все счистить!.. Не счистишь – схлопочешь карцер!
– Почему счистить? – спросил Валерий.
– Не положено! – казенно ответил надзиратель. – Чтобы к вечеру на дверце ничего не было! Иначе доложу начальству. – Сказал и, перешагнув порог камеры, с грохотом закрыл за собой дверь.
– Ну как, голодовочник, заступничек, получил разъяснение, как нужно вести себя в камере? – давясь тоненьким смешком, просипел Пан.
– Это мы еще посмотрим! – В ответе Валерия прозвучал вызов. – А может, и разрешат.
Пан что-то хотел сказать в ответ, но в дверном замке загремел ключ, и через полуоткрытую дверь показалась голова надзирателя.
– Кодлов, к следователю!..
Когда Пап вышел и за ним закрылась дверь, несколько минут в камере стояло гнетущее молчание. Его нарушил подсевший к Валерию Хасан.
– Не связывайся ты с ним. Он страшный человек.
– Вот поэтому от него нужно избавиться, – сказал Валерий и закрыл дверцу "холодильника".
– А как? – Вопросительный взгляд Хасана остановился на Валерии.
– Я уже сказал: с сегодняшнего дня я объявляю голодовку
– А зачем? – удивился Хасан.
– Когда об этом узнает начальник изолятора, меня вызовут, и я расскажу ему, как над нами издевается этот рецидивист. А потом я попрошу начальника от имени всей камеры, чтобы не уничтожали твою "Третьяковку". Она никому не мешает.
И снова в камере повисло тягучее молчание. Спустя несколько минут из дальнего левого угла камеры донесся глуховатый голос Кости Чаврикова:
– Я тоже объявляю голодовку!.. Хватит, натерпелись от этого гада!..
– Я тоже!.. – не думая, запальчиво воскликнул Хасан, и глаза его сверкнули решимостью.
Голодать решили всей камерой. И когда принесли ужин – до еды никто не дотронулся. Ужин был отправлен назад. Надзиратель, считая, что протест арестованных вызван тем, что он приказал своей властью соскоблить с дверцы шкафа конфетные фантики, заметно испугался, а поэтому, стоя в дверях и покашливая в полусогнутую ладонь, проговорил:








