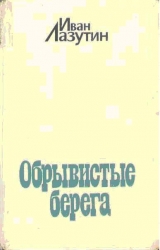
Текст книги "Обрывистые берега"
Автор книги: Иван Лазутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
"Интересно, что это за подглавка, – подумала Эльвира. – И чем она может оживить его диссертацию, которую он давно обещал дать мне почитать, как только завершит ее и переплетет. Ничего, прочту кусочек и непереплетенной". Эльвира взяла со стола рукопись, села в кресло, стоявшее рядом со столом, и принялась читать, время от времени прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестничной площадки: а вдруг, чего доброго, нагрянет Яновский и, забыв свое обещание дать почитать диссертацию, еще выговорит.
Заголовок был напечатан крупными буквами и подчеркнут: "Ложь во спасение". Уже сам заголовок заинтриговал Эльвиру. Она начала читать:
"В предыдущем разделе настоящей главы мы подвергли анализу случаи, при которых отношения родителей к детям строились без учета того, что ложь никогда не была методом достижения положительных педагогических результатов. Заведомая ложь, как это сотни раз доказала жизнь, рано или поздно детьми распознается, отчего страдает родительский авторитет, а также наблюдается срывы в формировании характеров подростка. В работе мы привели несколько примеров того, когда мелкая бытовая ложь ("в доме нет ни копейки денег, а ты канючишь велосипед…", "классный руководитель сказала, что если ты и дальше будешь ползти на двойках и тройках, то тебя после восьмого класса фуганут в ПТУ…", "обзвонила все магазины – нигде джинсов в продаже нет…" и т. д. и т. п. – и это в тех случаях, когда в доме были деньги, когда классный руководитель не угрожал "фугованием" в ПТУ, когда сердобольная матушка не звонила ни в один магазин и не спрашивала о джинсах), накапливаясь день ото дня, становится приемом защиты от требований подростка или методом назидания.
Но есть ложь другого рода. Ложь, которую в пароде называют "ложь во спасение" или "святая ложь". К ней родители иногда прибегают в сложных драматических ситуациях, сложившихся в семье. При работе над настоящей диссертацией нам пришлось не однажды побывать в инспекциях по делам несовершеннолетних, "клиентами" которых, как правило, являются "трудные" подростки. Из множества вариантов "лжи во спасение", как подсказывает опыт работы инспекций но долам несовершеннолетних, одним из самых губительных и влекущих за собой тяжелые последствия в судьбе подростка является ложь матерей, у детей которых в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк. Как правило, это дети случайной любви: любви уличной, "чердачной", любви "подъездной"… Дети этой любви первые пять-шесть лет еще не обременяют матерей назойливыми расспросами, кто их отец и где он сейчас находится. Им пока достаточно материнского заверения, что "твой папа в длительной командировке", или "служит в армии" (это на случай, если у матери есть надежда выйти замуж), или "папа погиб на фронте", "папа погиб в аварии…".
Но когда ребенок подрастает и начинает все острее и острее чувствовать, что кроме материнской ласки природа даровала ему еще и право опоры на твердое плечо отца, то огонь "святой лжи", бездумно зажженный матерью, начинает ее жечь все сильнее и сильнее. Кульминация драматизма этой "святой лжи" наступает, когда подростку (юноше или девушке) исполняется шестнадцать лет. Для получения паспорта (значительный и знаменательный рубеж в человеческой судьбе: вчерашний подросток начинает гордо носить имя – гражданин СССР) в паспортный стол отделения милиции нужно сдать свидетельство о рождении, а в этом документе в графе "отец" (этого документа завтрашний гражданин еще ни разу не видел, мать его прячет под семью замками) стоит небрежный прочерк черными чернилами. Отца нет. А ведь отец-то был. Не из ребра же Адама выточен завтрашний гражданин. И вот тут начинается то, что могло бы быть предметом шекспировских сюжетов.
При работе над диссертацией соискателю пришлось столкнуться с десятками изломанных юношеских судеб, черная полоса которых началась на перевалочном возрасте – в шестнадцать лет.
Для примера остановлюсь на типичном случае, который не могу не описать в настоящей работе. С юношей N-овым я встретился при посещении одного из московских изоляторов, где под следствием содержатся под стражей несовершеннолетние преступники. Учитывая, что для моей работы мне нужны были индивиды, преступления которых связаны прямо или косвенно с моментом узнавания ими, что они явились жертвами материнской "лжи во спасение", администрация следственного изолятора разрешила мне (по санкции свыше) встречу (в специально отведенной для этого комнате, где следователи допрашивают содержащихся под стражей) с одним из тех несчастных и жестоко обманутых родной матерью молодых людей, у которых на границе шестнадцатилетия светлая дорога обрывается и начинается мрачный путь за колючей проволокой…"
Чем дальше Эльвира читала подглавку диссертации, тем отчетливее и яснее представал перед ней образ Валерия. Отец – летчик-испытатель. Похоронен на кладбище в городе N-ске… "Негодяй!.. Хотя бы специальность "отца" изменил…" – кипела Эльвира. …Хождения матери но служебным инстанциям (роно, милиция, райисполком), чтобы получить новое свидетельство с указанием фамилии, имени и отчества в графе "отец"… "Он же подвергает Веронику Павловну публичному позору!.. – Эльвира задыхалась от злости и негодования. – Хвалился, что кафедра его диссертацию рекомендует к печати отдельной книгой в издательстве "Знание". Ведь на защиту диссертации придут Вероника Павловна и Валерий. Он же этой подглавкой убьет их обоих. И это после тяжелейшего инфаркта!.. Как ему сказать об этом?"
Чтение было оборвано длинным, напористым звонком в коридоре. Так мог звонить только Валерий, когда на него накатывалась волна озорства.
Положив на стол листы рукописи, Эльвира метнулась к двери. Руки ее дрожали, она не в ту сторону крутила защелку замка. Чувствуя, что Эльвира не может открыть дверь, Валерий нарочно, шутки ради, еще раз затопил пронзительным звоном гулкий коридор.
– Крути влево, влево! – кричал он через дверь.
Когда Эльвира наконец открыла дверь, Валерий остолбенел на пороге.
– Что с тобой?! На тебе лица нет.
Эльвира не знала, что ответить. И она солгала, прикинувшись виноватой:
– Ты не будешь сердиться?
– Что-нибудь кокнула?
– Нет, я ничего не разбила.
– Ну а что же?
– Я убрала бутылки. Туда, где они стояли. Я боюсь, что придет отчим и будет скандал!.. А тебе сейчас нельзя вступать ни в какие ссоры. Я знаю его, он человек коварный, он может причинить тебе неприятность. Пойми это, Валера…
– Ну ладно… Может быть, ты и права. От моего отчима можно ожидать чего угодно. А сейчас, миледи, мечи на стол все, что я принес! Ты не испугалась, что я так долго задержался? Такого винограда ты еще никогда не ела!.. Болгарский!.. "Кардинал". Крупный, как сливы. В двух гроздьях три с половиной килограмма! Будем сейчас пировать. Купил две бутылки лимонада!.. А торт твой любимый – "Прага"!
Как ни старалась Эльвира не показать вида, что она крайне обеспокоена и встревожена тем, что только что прочитала, у нее это не получалось. Позабыла посолить картошку, нечаянно уронила на пол солонку с солью и тут же, припав на колени, принялась собирать ее щепотками и сыпать в солонку, приговаривая:
– Неужели поссоримся? Это не к добру… – сокрушалась Эльвира. – Что-то у меня сегодня все из рук валится. Не знаю прямо, что со мной.
– Не кликушествуй!.. Хоть перебей всю посуду и переколоти весь хрусталь в серванте – не услышишь от меня ни одного сердитого слова. – Валерий опустился на колени рядом с Эльвирой и, зажав ее голову в ладонях, поцеловал в лоб. – Ну, что с тобой? Ты чем-то огорчена? Уж не звонил ли отчим? И не наговорил ли он тебе грубостей?
– Нет, нет… Никто не звонил… Просто я сегодня плохо спала. И вообще, пока ты был там, со мной творилось что-то ужасное.
Валерий встал и поднял Эльвиру с коленей. Остатки соли он смахнул веником в угол.
– Предрассудки!.. Никакая просыпанная соль нас не поссорит! Я в это верю!..
– Я тоже, – безропотно согласилась Эльвира. – Сказала просто потому, что есть такая примета. Ну а потом, не все же приметы сбываются.
Валерий ел картошку жадно, обжигаясь. И не сводил глаз с Эльвиры, пытаясь попять, что могло ее так взволновать, пока он ходил в магазин. Наконец про себя решил: "Может быть, она права. Просто сдают нервы. Две недели и для нее были испытанием и ожиданием всего самого скверного".
Эльвира мучительно думала о том, что она должна обязательно сделать, чтобы Яновский исключил из диссертации раздел о "святой лжи" или хотя бы переделал этот раздел настолько, чтобы при защите и публикации книги ни Валерий, ни Вероника Павловна не увидели в этой подглавке себя облитыми грязью.
И только после того, как попили чай с тортом, она наконец решила: "Напишу отчиму Валерия записку и подложу ему в ящик письменного стола. Валерий по его столам не лазит". Как решила, так и сделала.
Когда Валерий поливал цветы, стоявшие на подоконнике в кухне, она взяла со стола Яновского лист бумаги и, закрывшись в ванной, написала:
«Уважаемый Альберт Валентинович! Когда-то (а это было весной) Вы сами просили меня, чтобы я прочитала Вашу диссертацию до защиты. Пользуясь случаем, пока Валерий ходил в магазин, я взяла на Вашем столе одну из главок диссертации („Святая ложь“) и прочитала ее. Я пришла в ужас! Не знаю, как с точки зрения научной можно оценить ее, но для Валерия и Вероники Павловны она (эта главка или раздел) будет не просто позорной и оскорбительной, но и убийственной. За что Вы их так?.. Исключите, пожалуйста, этот раздел из диссертации. Ведь на Вашей защите будут Вероника Павловна и Валерий. Умоляю Вас об этом. Не забывайте, в каком состоянии находится Вероника Павловна. Уважающая Вас – Эльвира».
Эльвира вчетверо сложила записку, незаметно прошмыгнула в кабинет и в первую минуту растерялась: не знала, куда положить записку так, чтобы она не попала на глаза Валерию и чтобы ее как можно быстрее прочитал Яновский. И решила: "Положу в верхний ящик письменного стола". Так и сделала. Поверх всех бумаг в ящике лежал большой фирменный конверт со штампом издательства "Знание". Конверт был надорван. Тут же подумала: "Значит, в нем лежит какой-то важный официальный документ". Эльвира канцелярской скрепкой пришпилила записку к конверту и красным фломастером, лежавшим на столе, написала на ней: "Альберту Валентиновичу".
– Эля!.. Ты что там бездельничаешь? Давай помоем посуду! – донесся из кухни голос Валерия.
Эльвира, боясь, чтобы Валерий не застал ее в кабинете лазающей по ящикам стола, бросила тревожный взгляд на дверь, тихо задвинула ящик стола и вышла из кабинета.
Посуду мыли вдвоем.
– Ты знаешь, Эль, если бы мне сейчас предложили: выбирай одно из двух – или ты должен неделю просидеть в тюремной камере, или полгода с девяти утра до девяти вечера мыть посуду в какой-нибудь задрипанной окраинной столовой, – я выбрал бы второе. Удивляюсь, почему и раньше никогда не помогал маме мыть посуду. Это так приятно. Не веришь?
– Верю. А мне вдвойне приятней.
– Почему вдвойне?
– Потому что рядом – ты.
Когда помыли посуду, Эльвира позвонила домой и сообщила матери, что Валерия освободили, что она у него. Потом, прижав трубку к уху и молча кивая головой, она слушала мать. Лицо ее при этом постепенно тускнело, омрачалось.
– Хорошо, хорошо, мамочка, я не задержусь ни на минуту. Я скоро буду. Пожалуйста, не сердись. От радости, что Валера на свободе, я забыла все на свете.
– Что случилось? – спросил Валерий, когда Эльвира положила трубку.
– У мамы плохо с сердцем. Только что была "неотложка". Я же говорила тебе, что после того, как папа ушел к другой женщине, она глубоко страдает. Иногда доводит себя до такого состояния, что ей не мила жизнь. А однажды даже сказала мне, что если бы не я у нее, то она с облегчением ушла бы из жизни. Она такая несчастная, мне ее так жалко.
Попрощавшись, Эльвира остановилась у порога и смотрела на Валерия такими печальными глазами, будто они расстаются на долгие годы.
– Ты что так смотришь на меня? – спросил Валерий. – Должна радоваться: я дома, мы вместе.
– Меня томит какое-то недоброе предчувствие. – Эльвира тяжело вздохнула.
– Тревога за маму?
– Нет, за тебя. У тебя впереди еще столько неясного и запутанного, что я хочу одного.
– Чего ты хочешь?
– Быть всегда рядом с тобой. Чтобы ты не наделал глупостей.
– Ладно, ступай, тебя ждет мама. Передай ей привет. – Валерий проводил Эльвиру до лифта и не входил в квартиру до тех пор, пока не услышал хлопок двери лифта на лестничной площадке первого этажа.
После ухода Эльвиры на Валерия навалилась тоска. Мать тяжело больна, отчим завел любовницу и строит планы развода с матерью, самого его впереди ожидает уголовный суд… Он будет сидеть на скамье подсудимых рядом с закоренелыми преступниками, а потом сам факт, что он был в этот злополучный вечер вместе с ними, таскал награбленные ими вещи, пил вместе с ними в Софрино водку… "Отдал бы полжизни, чтобы никогда не бывать на улице Станиславского и в Софрино…" – казнил себя Валерий. При мысли о том, что на суд придут псе, кто подписал за него поручительство, ему стало страшно. Придет на суд и его тренер, Валерий Николаевич Чукарин, имя которого когда-то гремело среди московских мастеров-фехтовальщиков. Он тоже обратился с письмом-ходатайством о Валерии. Будет на суде и классный руководитель. Глядишь, придет и директор школы. Даже если и не захочет, то обяжут: его же ученик попал на скамью подсудимых, он же подписал поручительство. Особенно пугало присутствие на суде матери. Как она переживет это позорное судилище. Ведь она привыкла к тому, что ее сына всегда хвалили: на родительских собраниях в школе Валерия ставили в пример другим ученикам, на спортивных состязаниях она вся светилась, когда ее сын, победитель соревнования, под аплодисменты болельщиков поднимался на пьедестал почета; дворник дядя Сеня любил под легким хмельком поговорить с Вероникой Павловной и никогда не забывал сказать при этом, что у нее растет хороший сын: вежливый, обходительный, всегда опрятный. А вот теперь… Валерий рухнул на тахту, закрыл глаза. Из груди его вырвался протяжный стон. "Если бы не Смоленск!.. Откуда они взялись, эти сыновья и вдова летчика Воронцова? Что я им сделал плохого? Ведь мог же и я иметь такого хорошего отца? За что они меня так? Мама, ты передо мной ни в чем не виновата. Это из-за меня ты терпишь такие страдания. И я ничем не могу помочь тебе…"
Валерий думал о матери, а перед глазами как бы вторым планом вставали видения тюремной камеры, изрытое оспой лицо сержанта-конвоира, водившего его на допросы в комнату следователя, серые лица арестантов, с утра до отбоя не знающих чем заняться… Чтобы прогнать мрачные видения, Валерий порывисто встал с тахты, умылся в ванной холодной водой и долго рассматривал в зеркале свое подурневшее, осунувшееся лицо с темными провалами под глазами. "Вот так-то, дружище! Наверное, не глупыми были на Руси старики, которые сказали: "Не отрекайся ни от сумы, ни от тюрьмы". Сума в наше время ушла в предание. А вот тюрьма…"
Телефонный звонок, раздавшийся в гостиной, оборвал его мысли. Голос Ладейникова Валерий мог отличить из тысячи голосов: была в нем властная сдержанность и доброта.
– Ты что сейчас делаешь, Валерий? – звучал в трубке голос следователя.
– Я?.. Да ничего. Думаю во второй половине дня съездить к маме в больницу.
– Ты можешь сейчас подъехать в прокуратуру?
– А зачем?.. – Голос Валерия дрогнул. – Это обязательно?
– Обязательно! Я жду, – сухо сказал Ладейников и повесил трубку.
"Зачем?.. Зачем я ему понадобился? – сверлила мозг тревожная мысль. – Неужели опять что-нибудь не так? Когда же все это кончится?"
Как во сне Валерий спустился в лифте, в троллейбусе по рассеянности забыл купить билет, за что был оштрафован ревизором, перед входом в прокуратуру ему дорогу перешла женщина-маляр с пустым ведром, из которого торчали грязные кисти. Никогда не веривший в приметы, Валерий резко, словно перед разверзнувшейся пропастью, остановился. Стоял до тех пор, пока перед ним седенький старичок с вытертым портфелем не вошел в прокуратуру. При этом даже подумал: "Ему-то что – он уже прожил свою жизнь…"
Однако тревога Валерия была напрасной. Это он скорее почувствовал сердцем, чем понял разумом, когда вошел в кабинет Ладейникова и сразу же попал под обаяние его душевной улыбки.
– Садись!.. У меня для тебя подарок.
Валерий сел, не спуская глаз со следователя.
– Что за подарок? – тихо произнес Валерий и тут же подумал: "Не шутит ли? В таких учреждениях подарков не преподносят".
Но Ладейников не шутил.
– На, читай. – С этими словами он положил перед Валерием белый лист, на котором был текст, отпечатанный на машинке.
– Что это? – с испугом в голосе спросил Валерий. Взгляд его метнулся с листа бумаги, лежавшего перед ним, на следователя.
– Постановление. – Ладейников видел, как к щекам Валерия прихлынула кровь.
– Что за постановление?
– О прекращении против тебя уголовного дела. Весь текст можешь не читать. Фабула твоего деяния тебе известна. В протоколах допросов и очных ставок ты подписывался под ними несколько раз. Читай вот отсюда. Здесь главное, – Ладейников пальцем показал, откуда нужно читать.
И Валерий прочитал:
"1. Прекратить уголовное дело по обвинению Воронцова Валерия Николаевича в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 145 УК РСФСР.
2. О прекращении дела уведомить Воронцова В. Н. и дирекцию школы № 121 г. Москвы, разъяснив им при этом, что они могут в течение пяти суток с момента уведомления обжаловать настоящее постановление прокурору Фрунзенского района г. Москвы.
3. Копию настоящего постановления о прекращении дела направить прокурору Фрунзенского района г. Москвы.
Старший следователь прокуратуры
Фрунзенского района г. Москвы
юрист первого класса Ладейников".
Ниже, с некоторым отступом, стояла виза прокурора:
"Согласен.
Прокурор Фрунзенского района г. Москвы
старший советник юстиции Захаров".
Валерий, в душе которого чувство радости перемешалось с тревогой, широко раскрытыми глазами смотрел на Ладейникова и не мог понять: о каком обжаловании говорилось в постановлении.
– Что тебе здесь не ясно? – спросил Ладейников, догадываясь, что смутило Валерия, – Второй пункт постановления?
– Что это за обжалование? Какое может быть с моей стороны обжалование? Я не хочу никаких обжалований! Здесь все правильно!
– Успокойся. Так нужно. Эту формальность предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс. – Ладейников встал, подошел к Валерию и крепко пожал ему руку. – Поздравляю тебя, ты невиновен. Но пусть все, что случилось с тобой, будет наукой на всю жизнь.
Губы Валерия дрожали, он хотел что-то сказать, но не мог: так велико было его волнение.
– Езжай сейчас к матери и сообщи ей то, о чем я только что известил тебя.
– Хорошо… Я сейчас же поеду… – с трудом выговорил Валерий. – Спасибо…
Первый, кто бросился в глаза Валерия, когда он вышел из прокуратуры, была женщина-маляр в рабочей униформе и брезентовом фартуке, на котором не было места, где бы не проступала всех цветов краска. Присев на корточки, она широкой кистью красила низенькую железную оградку цветника перед окнами прокуратуры.
Прикинув, сколько у него с собой денег, Валерий при виде свободного такси, выехавшего из переулка, выскочил чуть ли не на середину проезжей части улицы. Шофер остановил машину так резко, что визг тормозов вспугнул голубей на тротуаре.
– Ты что, косматик, жить надоело?!. – зло пробасил пожилой таксист, когда Валерий распахнул переднюю дверцу машины.
– Прошу вас, довезите, пожалуйста, до пятидесятой больницы. Это на улице Вучетича. Очень прошу. Там у меня мама… С тяжелым инфарктом.
– Нужно быть осторожней, молодой человек, – уже другим, потеплевшим голосом проговорил таксист, трогая машину.
Глава двадцать девятая
По просьбе начальника районного управления внутренних дел Калерия месяц назад дала согласие выступить с докладом перед студентами пединститута, где ей предстояло рассказать о своей работе в инспекции по делам несовершеннолетних. С этой просьбой ректор института еще ранней весной обратился в районное управление внутренних дел, так как по разнарядке Министерства просвещения при предварительном распределении молодых специалистов институт должен был направить на работу в московскую милицию двадцать человек. И ректор опасался, как бы и в этом году не получился курьез при распределении, когда в ответ на предложение пойти работать в органы милиции студенты-выпускники делали такие глаза, будто их направляли на каторгу. Девушки плакали, а парни – кто ссылался на слабое здоровье, кто чистосердечно заявлял, что не справится с этой работой. Какие только не приводили доводы, чтобы не подписать назначение в милицию. Многих отпугивали газетные статьи последних лет, в которых часто писали о «трудных» подростках.
Калерии предстояло не просто рассказать о своей работе, о ее трудностях и сложностях (этим можно только отпугнуть студента-выпускника), а построить выступление так, чтобы пронизать рассказ идеей романтической героики и гражданского подвижничества. Ведь когда ей, выпускнице Московского университета, пришлось при распределении выбирать между аспирантурой и работой в милиции, она не колеблясь подписала второе предложение. И вот теперь не считала бахвальством упомянуть в предстоящем докладе о том, что диплом с отличием ей вручал под туш оркестра сам ректор университета академик Петровский. Ей хотелось дать понять студентам, что при распределении у нее было право выбора: аспирантура, школа, роно, милиция…
Чтобы не ограничиться в выступлении одними рассказами о своем личном опыте, Калерия считала необходимым начать его с теоретической преамбулы социально-философского плана. А для этого было необходимо освежить в памяти высказывания великих педагогов прошлого. И тут-то ее осенило… "Да что же я ломаю голову?.. В моей дипломной работе этих высказываний столько, что из них можно соорудить Монблан. Целый год выуживала их из чужих диссертаций и трудов классиков".
С этой мыслью Калерия выдвинула нижний ящик в тумбе письменного стола, который она уже не помнила, когда выдвигала. В ящике лежали связки старых писем и два семейных альбома с фотографиями далеких лет. Стоя на коленях перед письменным столом, Калерия с самого дна ящика, из которого пахнуло запахом залежалых бумаг, извлекла пожелтевший от времени напечатанный на машинке экземпляр своей дипломной работы, аккуратно переплетенный в выцветшую коленкоровую обложку. На титульном листе большими, в разрядку, буквами стояло: "Становление характера подростка, выросшего без отца". Горькая усмешка искривила ее губы. "И как только я посмела в свои двадцать два года, еще совсем не зная жизни, взвалить на себя такую тяжелую тему? Я и сейчас-то, когда уже семь лет проработала с тяжелыми подростками, иногда забредаю в тупики, из которых выхожу с трудом…"
Калерия раскрыла оглавление дипломной работы, потом пробежала взглядом лист с библиографией. Маркс, Энгельс, Ленин, Вольтер, Лев Толстой, Ушинский, Макаренко, Сухомлинский, Калинин… Три страницы были заполнены именами великих и выдающихся людей прошлого, из трудов которых, как ей казалось при работе над дипломом, она извлекала нектар человеческой мудрости и кристаллизовала из него свой первый студенческий научный труд. Высокую оценку диплому дал ее руководитель профессор Угаров, который на факультете университета слыл энциклопедистом и полиглотом. Была у него слабость, по поводу которой иногда не без желчи подтрунивали его коллеги-профессора: у студентов-иностранцев, говорящих на французском, английском и испанском языках, Угаров принимал экзамены на их родном языке. Всякий раз при этом лицо старого профессора молодело, морщины на нем разглаживались, глаза излучали сияние крайнего удовлетворения. И никто не помнил случая, чтобы студенту-иностранцу, сдающему экзамен на родном языке, профессор поставил отметку ниже пятерки.
После защиты диплома профессор Угаров предлагал Калерии подать заявление в аспирантуру при его кафедре, но она, устав от диплома и государственных экзаменов, отказалась, о чем потом, через несколько лет, не раз в трудные минуты жалела.
Больше часа Калерия листала свою дипломную работу, выписала из нее десятка два высказываний великих людей прошлого и все-таки осталась неудовлетворенной. Чем-то традиционно-старомодным повеяло от ее прежней работы. "И правильно тогда кто-то метко окрестил нас "мостовиками"… Мы мостили жалкие перемычки от одной цитаты к другой. Время прошумело дождями и бурями над нашими мостами – и все каменные быки мудрости классиков неколебимо стоят, как и раньше стояли, а наши ветхие перемычки, сооруженные по принципу "с миру по нитке – голому рубаха", рухнули, и их унесло течением. Не так теперь нужно писать диссертации и дипломные работы. А вот – как?.." Ответить на этот вопрос Калерия не могла, да она и не ставила перед собой этой задачи. Сейчас ее волновало одно: на ее докладе кроме студентов будут присутствовать преподаватели института и обязательно, как ей сказали, придет профессор Угаров. Уж перед кем, а перед ним-то она не должна ударить в грязь лицом.
Профессора Угарова Калерия видела последний раз пять лет назад на традиционной встрече выпускников факультета, которые ежегодно проходили в последнюю субботу мая. Он и тогда уговаривал ее пойти в аспирантуру, но она, отшучиваясь, ответила: "Вот поумнею еще немножко, поднаберусь опыта со своими сорванцами, тогда сама приду к вам, дорогой Петр Нилович". На эту отговорку седой профессор покачал головой, вздохнул и грустно ответил: "Не забывайте, голубушка, что мне уже давно побежал восьмой десяток. На моей кафедре сейчас почти все новые, молодые, они вас не знают…" Подошедший декан факультета прервал их разговор.
После этой встречи Калерия перед каждым Новым годом посылала профессору поздравительные открытки, на которые он аккуратно отвечал телефонными звонками, поздравляя ее, и всегда находил случай спросить: "Ну как, голубушка, поумнела? Теперь-то набралась опыта?" На эти вопросы Калерия проливала в трубку колокольчатый звонкий смех и в тон ему отвечала: "Еще немножечко-немножечко, и тогда приду к вам с заявлением…"
И вот теперь она вспоминала своего старого профессора. Решила позвонить ему, посоветоваться: что ей почитать, чтобы грамотно выступить перед студентами пединститута.
Как всегда, трубку взяла жена профессора, сухонькая старушка, оберегавшая своего мужа, как малое дитя.
– Татьяна Нестеровна, здравствуйте! Это вас беспокоит бывшая студентка Петра Ниловича, Калерия Веригина. Мне бы очень хотелось поговорить с Петром Ниловичем, он разрешил мне звонить ему домой. Если позволите…
Все, что говорила Калерия дальше, Татьяна Нестеровна не слышала, она пошла в рабочий кабинет профессора, где у него был спаренный телефон.
Прошло меньше года после того, как профессор поздравлял свою любимую студентку с Новым годом, а как изменился его голос! Он стал болезненно-глуше, надтреснутее, дыхания старика на полную фразу не хватало, а поэтому он рвал ее на части, чтобы перевести дух.
– Как же, помню, голубушка, помню. Теперь-то, я надеюсь, вы окончательно поумнели, а то ведь срок подачи заявлений на исходе. – Профессор еще долго говорил о том, что сейчас в науку по психологии идут люди с опытом работы, от станков, воспитатели из учреждений, где несовершеннолетние трудятся по приговору суда. – А вы-то, вы-то, голубушка, уже семь лет пропускаете через свою душу такие печальные биографии, что вам есть что сказать в науке. Я жду вас. А на ваш доклад в пединституте обязательно приду.
Когда Петр Нилович сделал паузу, чтобы передохнуть, Калерия нашла момент включиться в разговор.
– Дорогой Петр Нилович, спасибо, что вы так высоко цените меня, но я сейчас звоню вам по другому поводу. Мне нужен ваш совет.
– Я к вашим услугам, – прозвучал несколько окрепший голос профессора.
Калерия объяснила, что перед выступлением в пединституте ей необходимо познакомиться с последними работами по психологии, относящимися к "трудным" подросткам.
– Одного моего опыта недостаточно, мне бы хотелось расширить круг вопросов, с которыми я выйду перед студентами.
Профессор понял Калерию с полуслова, он даже оживился:
– Я горячо вам рекомендую поехать в Ленинскую библиотеку и познакомиться там с диссертацией молодого талантливого ученого Воронежского университета. Четыре года назад я был официальным оппонентом на его защите. Таких глубоких и оригинальных диссертаций за последние сорок лет я не читал. Написана человеком, знающим дело не из вторых рук, не из побочных источников, а представляет собой сплав прочной теоретической основы и глубокого опыта жизни. Причем, особо подчеркиваю, – современной жизни! А каким языком написано!.. Свежо, образно, оригинально!.. До защиты диссертации он восемь лет работал воспитателем в исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних. Удивительный умница и скромнейший из скромных! Ученый совет Воронежского университета рекомендовал работу к печати как монографию.
– Как его фамилия? – не выдержав пространного монолога профессора, спросила Калерия.
– Фамилия у него самая рядовая из рядовых – Иванов. Поезжайте, голубушка, не откладывайте, а когда прочитаете диссертацию, позвоните, пожалуйста, мне.
– Петр Нилович, а как зовут этого Иванова? Мой покойный дедушка говорил, что до войны в Москве проживало двадцать тысяч Ивановых Иванов Ивановичей.
Эти слова Калерии рассмешили старого профессора.
– Хотя я и не совсем верю в эту цифру, но она не далека от истины. А сейчас минутку подождите у телефона, я спрошу у Татьяны Нестеровны, она ведет дневник всех моих выступлений на заседаниях ученого совета.
Напрасно Калерия считала почти безнадежным делом так скоро узнать имя и отчество диссертанта Иванова. И каково же было ее удивление, когда минуты через три в трубке послышался дребезжащий старческий смешок.
– А вы правы, голубушка!.. Мой Иванов чуть-чуть не попал в число ваших двадцати тысяч Ивановых. Записывайте – Иванов Сергей Иванович.
– А вы не помните, Петр Нилович, как называется эта диссертация? – спросила Калерия.
– Как же не помню? В дневнике Татьяны Нестеровны все зафиксировано. Одну минутку. – Из трубки послышались приглушенные голоса профессора и его жены. А потом его голос: – Записывайте!.. На память не надейтесь. При выписке из хранилища диссертаций в заказе нужно точно писать названия. – Профессор почти по слогам продиктовал название диссертации: – "Эстетическая основа труда в условиях пребывания несовершеннолетних в исправительно-трудовых колониях". – Прокашлявшись, Петр Нилович сказал: – На защите был доктор философии Старченко. В своем выступлении он заверил ученый совет факультета, что Иванов достоин присуждения ему степени кандидата философских наук. – Передохнув, профессор продолжал: – Да, чуть не забыл. Неделю назад мне звонил профессор Верхоянский. Где-то осенью, в сентябре или октябре, в его институте должен защищаться его аспирант. Тема диссертации очень близка к вашей работе. Не мешало бы вам познакомиться и с этой диссертацией. Верхоянский очень хвалил своего аспиранта, говорил, что сатанински талантлив, просил меня быть оппонентом, но я до самого Нового года предельно загружен. Сейчас готовим новое издание учебника, а сроки дали наижесточайшие… Пришлось отказаться, хотя с Верхоянским у нас дружба сорокалетней давности.








