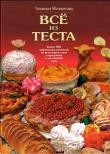Текст книги "Разновразие"
Автор книги: Ирина Поволоцкая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Последний Авангард
Острые худые лопатки, не разъелся за жизнь, а затылок мальчишки-подростка, и это уже до конца, пока не свалит, не сокрушит, не сомнет. Летом Авангард Краснознаменский любил ходить в клетчатой рубашке навыпуск, на ногах сандальи. Носки только хлопковые, отечественные, носкам ГДР не доверял, знал точно, что немцы обязательно сунут в нитку что-нибудь синтетическое. С химией у них хорошо, а с натуральными волокнами плохо. Это он понял сперва во враждебной, а потом уже оккупированной Германии, в которой служил еще целых два года после нашей Победы. Всем кепкам в жару предпочитал шляпу. Но не пижонскую мелкого плетения, а обыкновенную соломенную, которую теперь не купишь. А у него такая была. У него было много того, чего в мире уже давно не существовало.
В шляпе из соломки и в ковбойке и увидела его Любовь Петровна через дверной глазок, и обомлела. Только что проводила она племянника Борю с женой на Ярославский, а вот теперь этот, покойного мужа Васи двоюродный, Авангард. И хоть бы телеграмму дал или открытку какую-нибудь прислал, а то: «Здравствуй, Люба!» – двадцать лет носу не казал, а на ты, и мимо на кухню, как к себе домой, и гостинцы вынимает, а она вообще карамель не ест.
Каждый, у кого есть родственники в провинции, поймет бедную Любовь Петровну. Как только лето наступало, всем им позарез была нужна Москва, и они ехали по одному и семьями, и куда только детей тащат, ручки им повыворачивают в метро да в «Детском мире». Встают с солнцем, и уже в восемь утра у дверей какой-нибудь «Ганги» или «Власты», а дорогу не знают, и тащись с ними через всю Москву. А у Любы намечены парикмахер и кладбище, и потом дети из Крыма возвращаются, надо им квартиру убрать. Лиля, правда, оставила телефон какой-то Марии Степановны из «Зари», но разве чужая так уберет, как родная. Для своих мальчиков, сына и внука, Любе и жизни не жалко, а если Лиля рот скривит, так она восемнадцать лет рот кривит, как замуж вышла. Ну, вот зачем Любе сейчас Авангард?!
Это Любовь Петровна про себя думала, а встретила как положено, покормив, спросила привычно:
– ГУМ сам найдешь или отвезти?
Но Авангарду ГУМ был не нужен.
Он намекнул на какие-то сверхважные дела и исчез до вечера. Если бы не внешность – просто Штирлиц, а она думала, что Авангард давно на пенсии. Обедать он не пришел, а объявился только к программе «Время», из-за него Любовь Петровна прослушала погоду. От ужина наотрез отказался, и теперь пил сырую воду прямо из-под крана. Спать лег рано, но спал беспокойно. Хорошо, что у Любовь Петровны комнаты смежно-изолированные, но он ее и через стенку будил: щелкал выключателем, гремел посудой на кухне, потом пошел курить на балкон, а под утро, на ранней заре, стал кричать, да так страшно, что Люба никак не могла в рукава халата попасть, прибежала полуодетая, разбудила. Он вскочил сразу, по-военному, ноги на пол. Сидел на кровати в трусах, долго хлопал глазами, потом, застеснявшись, прикрыл колени. Объяснил:
– Сон снился, Люба… будто убегал я. От своих врагов убегал!
И сник, склонив голову набок, и стал похож на старую степную птицу.
Он был болен. Серьезно, так считали врачи, а соседи по забору, Мамичевы, купившие недавно новенький автомобиль под древним именем «Лада», считали, что он прежде всего болен на голову, а дочка жалела отца ночами, но злилась днем, что тот болеть не умеет. Но сам Авангард знал, что болен, хотя бы потому, что у него болело, но как настырный читатель всех газет и журналов, которые можно было выписать или приобрести в Новогорске, в том числе брошюр общества «Знание», считал, что болезнь его дело временное и происходит с ним исключительно от стрессов. Стрессы эти случались с ним постоянно, потому что комбинат имени Розы Люксембург не только утратил былую славу, но и вроде как рассыпался на глазах. Не работали фонтанчики с питьевой водой, и дверные ручки отваливались в туалетах, двери висели скособочившись, как хромые, и пахло кислым из столовой, штукатурка сыпалась на голову, а в Красном уголке рядом с бюстом Ильича вместо цветов поставили несгораемый шкаф, и Авангард сам видел, как председатель профкома Храмцов прятал в нем финский сервелат. Бежали с комбината люди. А когда заводской главбух Валентин Генрихович, тоже на пенсию выперли как Авангарда, привел того к странным геометрическим сугробам на заводском дворе и объяснил, сколько стоит на валюту этот позапрошлогодний снег, Авангард задохнулся. В ту же ночь увезла его «Скорая помощь». Через полтора месяца, цветущею весною, Авангард вышел из больницы в широкий и деятельный мир с ясным намерением избавиться от стрессов, то-есть решительно реконструировать комбинат по проекту инженера Лагутина, который, имея гениальную голову, был слаб мышцами и идейно, как многие новые. К примеру, поссорившись с тем же Храмцовым из-за яслей для своих двойняшек, инженер грозился уйти в сторожа продмага или спиться. Тогда и составили Авангард и Валентин Генрихович бумаги и письма, Валентин Генрихович был из немцев и умел это хорошо. С этими бумагами и подоспевшим направлением местных докторов в специальный Медицинский центр для обследования и лечения по надобности Авангард прибыл в Москву спасать здоровье. Ведь он с братьями бетон месил еще когда! Еще на безымянном комбинате!
А теперь о братьях Авангарда – Авангардах Краснознаменских.
– Никогда бы вас тут не узнала, Авангард, – сказала Любовь Петровна, когда тот достал из бумажника и протянул невестке желтое фото с надписью «Кисловодск, 35» – где он сам, молодой, кадыкастый, был снят картинно в профиль, будто оборотясь на зов ли, смех товарищей, а может, просто потому, что ему было хорошо глядеть на тех, а они в свою очередь, обнимая его за плечи, улыбались объективу в одинаковых футболках. Авангард тогда брился наголо под ноль, как Маяковский, и носил тюбетейку.
– Я тебе эту карточку не показывал? – обрадовался Авангард, – да ты посмотри, посмотри! Это мы после комсомольских крестин, когда стали мы все Авангардами.
Сегодня он никуда не бежал. То ли в деле была остановка, то ли подустал бегая, но засел на кухне прочно и как мог мешал Любовь Петровне, которая варила обед, а она не любила, когда у нее за спиною торчат. Откуда ей было знать, что в любой момент может появиться сам Лагутин. Тем охотнее разговаривал Авангард.
– Кисловодск. Санаторий Наркомтяжпрома. Теперь имени Серго Орджоникидзе. Санаторий, Люба, дивный! Одно слово – дворец. Мрамор, зеркала, пальмы. В ваннах нарзан! Хочешь – пей, хочешь – плавай. Честное слово! Сидишь в чем мать родила, а вокруг тебя пузырьки попыркивают. И сестрички в белых халатах, как рыбки.
И Авангард показал Любовь Петровне, даже со стула встал специально для такого дела, как ходили – плавали вокруг него молодого гордые медицинские сестрички.
– А потом, пожалуйста, хочешь – волейбол, хочешь – бильярд, или давай в автобус и кати к домику Лермонтова. А потом танцы, джаз-банда Остапа Поташника. Еще не запрещали! Но главное, Люба, мы все семеро вместе. Семь Авангардов, семь Краснознаменских, семь братьев. Ближе кровных! Вот ты, извини, Люба, с твоим покойным мужем сойдемся или там съедемся – и ни о чем таком серьезном, ни слова. Только: как тетя Шура, дядя Коля, как дети, ваш Игорек, моя Светланка, или там старшие сыны мои Витя с Валентином, ну, жены конечно, и все. Посидели разошлись. А мы, Авангарды, были как одно. Вот, Васька твой, я знаю, смеялся, со стороны оно может смешно…
– Вы Василия не трогайте, – обиделась Любовь Петровна, – Василий был человек занятой, инженер, а уж какой муж и не говорю. После работы всегда домой, собраний этих не любил. И вообще никуда без меня не ходил, и отдыхали мы с ним всегда вместе. И зарплату – до копеечки, – Люба нагнула голову, слезы у нее были близкие.
Нарочно не замечая, как хлюпает носом невестка, Авангард повел пальцем от одного Авангарда к другому.
– В Ленинграде живет. Политехнический в Горьком закончил и пошел. Главный технолог номерного предприятия. До сих пор в строю.
Белобрысый технолог улыбался во все тридцать два зуба.
– На артиста похож, – недоверчиво сказала Люба.
– Вот он, Люба, был бы артист! – Авангард ткнул пальцем в фото, – хохол! А у них голоса, сама знаешь. Погиб под Курском. А вот его, Люба, в Болгарии убили. Эх, хороша страна Болгария! И болгары в войну тоже против нас были!
Авангард задумался. И теперь уже сама Люба спросила:
– А он? – Он – в очках, на снимке с краю, во втором ряду. Толстый, круглый, безбровый. Было понятно, что и ростом не вышел. – Колобок, – усмехнулась Люба.
– Тут сложно, – вздохнул Авангард, – женился на одной. Хорошая вроде деваха, веселая, простая. Комсомолка. А отец у нее оказался троцкистом.
– Ну, – согласилась Любовь Петровна, – я вот сама кулацкая дочка, – и вдруг рассмеялась. Затряслась мелко-мелко, не поймешь, плачет, смеется, и бусы подрагивают на полной шее. Еще довоенные, из горного хрусталя, Васин подарок.
– Кулачка? – оживился Авангард.
– Да у нас всего одна корова была. Твоих-то троцкистов, небось реабилитировали?
– Жену. Родителя ее. Квартиру им дали отличную. В центре Алма-Аты. А нашего посмертно, – в груди у него что-то забулькало, – и могила неизвестно где. А в пятьдесят восьмом мы и комсорга нашего похоронили. Не на войне, но тоже от войны. Осколок в легких. Это он и придумал, что мы будем Авангардами.
В самом центре пожелтевшей фотографии, а понятно, что наш Авангард не расставался с нею никогда, и даже в больнице на прикроватной тумбочке всегда была с ним карточка братьев, где четверо сидят, трое стоят, а в самом центре – этот – бывший комсорг, обнимая двоих за плечи, он обнимал их всех, и защищал тоже, вроде наседки, а может, и орла. И руки его лежали на плечах братьев как крылья.
– А ведь что интересно, Люба, комсорг наш из поповской семьи. Отец его семинарию бросил и в революцию ушел, а дед – протоиерей. Во как! И фамилия у них – Знаменские. А мы все – уже Краснознаменские!
– Господи, – ахнула Любовь Петровна, – я думала, ты один Авангард, а вон вас сколько. Слушай, а как вы друг дружку-то звали, Авангарды?
Она опять готова была смеяться; отпятив локоть, глядела в упор не в карточку, а на самого Авангарда.
– А сколько мы вместе были, Люба? – Авангард вздохнул, задумался, – считай, год. А там двое – в Красную Армию, потом еще двое. А время – сама понимаешь! Халкин-Гол опять же. Одна война. Другая. А звали как? Так сперва ошибались, потом привыкли, и ничего. Но между собой больше по отчеству. Петрович, там, Степаныч, Нуруллиевич. Правда, накладка была: Петровичей двое. А так везде и на людях мы – Авангарды. Ясненько?
– Чего уж яснее. Значит, трое вас осталось.
– Трое. Я, вот он, – Авангард показал на технолога, – и он. У вас здесь живет. В Электростали.
– С усиками? Интересный.
– Семью в войну потерял, так и не женился. Остался одиноким, а теперь мы все сравнялись. Я без Зины пять лет.
Тут Любовь Петровна и заплакала.
– Ну, Люба, Люба, нехорошо, – забеспокоился Авангард, – держаться надо. Ты с какого года?
– С двадцатого.
– Я думал моложе. А я с семнадцатого. Еще в октябрятах на линейке вожатый крикнет: «Кто ровесник Октября?» Я сразу шаг вперед и руку тяну: «Я ровесник Октября!» – «Будь готов!» – «Всегда готов!». Я тебя с нашими познакомлю, Люба. Это такие люди. Сейчас у меня сложные дни. А потом махну в Электросталь. А может, и в Ленинград. К Авангарду Николаевичу.
– Слушай, вдруг спросила Люба, – а тебя по-настоящему как зовут?
– Авангард, – он удивился.
– Да я не о том, – она махнула рукой, – как мать крестила?
Тут он рассердился, крикнул:
– Авангард!
Все это время Лагутин жил на вокзале.
Вызванный в помощь через Валентина Генриховича, инженер ухитрился – таки, правда, опять со скандалом, оформить десятидневный отпуск за свой счет и прибыл в столицу. Жена Галя находилась в Луцке у родителей, двойняшки, конечно, при ней. У Гали отпуск был настоящий, и осторожный Лагутин позвонил ей уже из Москвы, наврал, что в командировке. Галя удивилась, но велела Лагутину взять ручку в руки и записать торговые поручения.
– Ты пишешь? – строго спрашивала Галя, – Лагутин, ты записываешь?
– Пишу! – весело говорил Лагутин и не писал. У него была замечательная память, это во-первых, во-вторых – денег не было, но жизнь была прекрасна.
Правда, его приметила милиция, но он поменял Курский на Киевский. У родственницы Авангарда останавливаться было совестно, а в общежитие гостиницы «Южная» не хотелось – там пришлось бы разговаривать с другими, такими же как он, а Лагутин заболел нагрянувшей свободой. Никто его не дергал, не посылал за молоком и картошкой, не говорил, что купленная им манка с жучками, и сам он не мучился своей бесполезностью в хозяйстве и не раздражал жену Галю, которая выбивалась из сил, борясь с Лагутиным и его детьми за порядок. А главное – голова вскипала идеями.
Поскольку начальники, к которым должны были попасть Лагутин с Краснознаменским, сперва уехали на необходимый симпозиум, а вернувшись, разбирались с необходимыми делами, и среди этих дел встреча с Краснознаменским и Лагутиным вовсе не была обозначена, инженер целыми днями слонялся по музеям или работал в тенечке прямо на лавочке. Лагутин так и не узнал, что полюбившееся ему место в столице называется Гоголевским бульваром. Это потом, снова попав в Москву, он вышел к бодрому памятнику и направился к тем же скамейкам, но обернулся, как будто его окликнули, а его, конечно, и не окликал никто, а оказавшаяся рядом невыселенная арбатская бабушка, безошибочно разгадав в нем провинциала из любознательных, объяснила, где он находится, и велела идти к другому Гоголю, который сидит во дворе поблизости. Он послушно перешел площадь и увидел того, другого, и в носу у Лагутина защипало, как от аллергии. Но вспомнил он не школьную программу, а Авангарда, потому что пожилые сидят похоже, когда у них болит что-нибудь. А в то лето – лето с Авангардом – когда ноги затекали, он вставал с лавочки и счастливый, то-есть свободный, шел куда глаза глядят, а глядели они сперва в крутые липовые аллеи, а на площади, где был вырыт бассейн, глядели или направо – и Лагутин сворачивал в музей, или прямо – и он спускался к реке. Обедал он в столовой, диетической, на проспекте Калинина, и там же встречался с Авангардом, стойко и постоянно дежурившим по министерскому главку.
Воспитанный на скудные средства матери-одиночки, Лагутин боялся и уважал женщин, а Авангарду доверял. Рядом с ним, колготным и несерьезным во мнении большинства, он сразу успокаивался, и казалось ему, что он многое может и что от его, лагутинского, таланта в окружающей и будущей жизни могут произойти прекрасные изменения.
– Здравствуй, Федор! – встречаясь ежедневно, всегда торжественно говорил Авангард, и они обменивались крепким рукопожатием мужчин. Затем они шли вдвоем по главному московскому проспекту. В отличие от Лагутина, которому все новые дома были на одно лицо, он родился и рос при них и с ними, блочными и панельными, каркасными и вибро, у Авангарда дух захватывало от открывающейся сердцу роскошной панорамы многоэтажного стеклобетона. И в какой раз шагая рядом с Лагутиным, сосредоточенно прыгающим по плитам столичного тротуара в пестрых кроссовках новогорского производства, он объяснял одно и то же, и самолюбиво выставлял крутой подбородок над несильною шеей в растегнутой от жары ковбойке:
– Это, конечно, только в будущем можно так всю страну застроить. Только в будущем! Сейчас средств нет. Но ведь умеем, когда хотим…
А будущее наступало ему на ноги. Наступало, обступало, теснило. Требовало дорогу. Посторонись! Посторонись! Стальная тележка – и кто врассыпную, кто к забору, к краю, а он, Авангард, знай вымахивает шаги, а походка, как под пионерский барабан, такой мужик был, не свернет, не оглянется, дурак что ли… Вот и Лиля, жена любимого Игорька, скривила рот, как Люба предсказывала, это когда Авангард обрадовался, что парень у них – металлист. Так и сказал: «А что! Молодец Вася! Тебя в честь деда назвали. Металлургия – дело горячее». А Любе, чтобы та не плакала, когда они домой вернулись, Любе:
– Лиля ваша на рыбку похожа!
– Да у тебя все рыбки, – отмахнулась Люба.
– В уксусе вымоченную. И закусить хочется, но опасаешься.
Ведь как они ей квартиру убрали, Лиле! Правда, случались неполадки: у трехногой табуретки с ногами-лапами зверя, наверное, льва, перекладина отпала сама собой; это когда Авангард тер шваброй пол профессорской квартиры; Любин Игорек профессор был, и что интересно – по Маяковскому, по Владим Владимычу, любимому поэту – «Я знаю город будет!..» Но и ворчал Авангард на профессора, что вроде в доме и мужик живет, а если живет, то негодный, безрукий, потому что бронзовая наклепка от шкафа для книг тоже отвалилась. Наклепку Авангард приставил, а вот с ножкой льва не получилось. А вообще, удался субботник. Вдвоем дело делалось у них ловко, согласно, это не перед телевизором спорить, кто лучше, Ротару или Толкунова Валентина; работали вместе как без труда, весело.
– Дирижабль запускаем! Три! Два! Один! – объявлял Авангард местным старухам с лавочки у подъезда и набежавшим городским детям, томящимся в ожидании родительских отпусков. И высоко взлетали, туго надуваясь от переполнившего их воздуха, одеяла и пледы, шторы и занавески. В крепких еще руках билась материя, как живая, пылал шелк пламенем, и старухи завистливо чихали от едкой портьерной пыли. И все-таки ввернул Авангард: «Кулачка!» – и с удовольствием ввернул: по два раза, сбиваясь, пересчитывала Любовь Петровна сыновнее имущество, коврики да занавески. И забыть чего можно, и для сохранности.
Она ведь знала Лилю. Та и не скажет ничего, а видно сразу – недовольна. Такой характер, а ведь неплохая и собой, и работа у ней в ВТО на Горького – сидеть, кофе пить да окурки гасить в тарелке с винегретом. Любовь Петровна один раз всего и была на работе у невестки, путевку у них получала в дом отдыха под Москву. Лиля устроила, ничего не скажешь, а потом в кафе повела, в том же доме кафе, где работа, и даже из подъезда выходить не надо. Сели они за столик вдвоем, Люба думала первый раз в жизни про жизнь поговорят, расспросить хотелось невестку, а налетели Лилины подруги. Тучей. Подружек этих у Лили видимо-невидимо. Налетели и зачирикали, ушам больно, каждая свое чирикает, а птичкам этим под сорок, а какой птице и больше. И любая Лиле дороже свекрови. А поблагодарила бы мать за мужа – профессора. Она ведь за профессора вышла; конечно, не всегда Игорек профессором был, но все равно получилось за профессора!
Еще от лифта Лиля с тоскою услышала за дверью урчанье включенного телевизора – и обернулась к окаменевшему от дорожной мигрени мужу.
– Ура! Бабка! – живо сообразил металлист. Но бабка была не одна.
Она и тот, другой, в ковбойке, даже не обернулись. Не услышали. Глядели концерт. Плечом к плечу на двух сдвинутых стульях сидели перед цветным экраном, где, точно как они, и тоже плечом к плечу сидели певец Богатиков и красавица-диктор Ангелина Вовк; только перед теми был не телевизор, а низкий полированный столик, на котором стояла хрустальная ваза с георгинами, и Богатиков пел прямо с места, громко и под оркестр.
Кто не любит Богатикова, тому, может, все равно, что Лиля телевизор выключила, когда здороваться и знакомиться стали, но спросить надо было, тем более, что человек старше, который смотрит. Правда, Лиля пригласила на кухню фрукты есть с юга, но Авангард к этому равнодушен был, у них на базаре узбеки еще слаще продают, а он все равно огурчик больше ценит. Но поговорить и посидеть с родственниками хотелось. Только профессор вместо разговору в ванную отправился. А Люба только что белье постирала и там развесила, стали белье на лоджию выносить, и увидела Лиля, что перекладина от табуретки отдельно лежит. Ну, Авангард объяснил, как можно табуретку починить, и, что, если бы он дома был, он бы сам починил, а здесь инструмент отсутствует, но если они достанут, починить легко. А Лиля эти речи – вполуха и стала у свекрови выпытывать про какую-то Марию Степановну из «Зари», что она ее телефон оставляла, а Авангарду все: «Ешьте, виноград, ешьте, пожалуйста!» – А конфорку подо щами не подожгла, а их Люба варила, мужикам голодовать ни к чему, так Любовь Петровна невестке и сказала, и огонь запалила. У Любовь Петровны характер, конечно, но разве мать виновата, если хочет, чтобы сын ее стряпни поел… Вышел профессор из ванны, Любовь Петровна тарелку на стол, а в дверь звонок, сосед с собакой пришел. Свет в окошках увидел и пришел, а собака – с медведя, и тоже на кухню. А тут и Лилины подружки подкатили. Какие уж тут щи? Какой разговор? Профессор вообще на подоконник уселся.
А Лиля:
– Гарюша! – это она так Игорька (Гарюшей), – Гарюша, может, ты немного в спальне полежишь. Гости тебя простят. У Гарюши мигрень такая!
Гости! А какие ж Люба и Авангард – гости? Вот сосед и его собака – гости. И подружки Лилины. И еще девушка, которая потом к Васе пришла, Вася-то ей по плечу – она тоже пока гости.
Встали Люба и Авангард, попрощались и поехали к себе с двумя пересадками. И никто их не задерживал, и никто провожать не пошел. Люба говорила, Вася бы обязательно их до метро переулками проводил, да внука Васи и его баскетболистки уже и следов не было – испарились оба.
– Дети, Люба, наше будущее. Так на это дело и надо смотреть, – успокаивал Авангард разбушевавшуюся Любовь Петровну, когда они после семейного ужина возвращались к себе с двумя пересадками.
– Да ладно! – Люба и пассажиров не стеснялась, до них ли ей, Любе, – стараешься из последних сил, а тебе одни тычки!
– Обидно, конечно, – тут Авангард не спорил, – но с другой стороны мы их воспитали в тяжелое время, и дело свое доверили. Тут надо шире подходить.
– А, – отмахнулась Люба, – я бы к тебе подошла и посмотрела, как бы ты со своими сынами и внуками вместе жил. Спохватятся, когда помрем. И пожалеют. Только не нас, а себя, что сироты. А так пугала мы для них огородные, – она даже обрадовалась, – пу-га-ла! Честное слово! И я, домашняя хозяйка, всю жизнь у плиты волокусь, и ты, партийный, сознательный, в своем строю трубишь, а из тебя уже песок сыпется. Мать моя, покойница, всегда на огороде парочку такую ставила. Один вроде мужик, а другая вроде баба, с метелкой, – и Люба вдруг стала хохотать, а отхохотавшись, сказала Авангарду, – иди ты лучше на пенсию, пока не попросили. Тебе ж повезло. Ты со Светкой вдвоем, а она женщина свободная, нестарая. Чего вам делить?
Теперь Авангард насупился, замолк. По его понятию, Люба расстраивалась из-за ерунды, как женщины вообще. Ну, утек, не попрощавшись, выпросив у бабки пятерку, Вася-металлист, ну, профессор не стал есть на ночь Любины щи, ну, ходила взад-вперед, без толку нося перед собою оторванную перекладину от трехногой табуретки невестка Лиля, а если львиная эта табуретка ей досталась тяжело? Хотя Лиля, неродственная, из-за нее не удалось, расспросить толком Игоря Васильевича, почему застрелился Маяковский, и потом, худобой и бесцветием, хоть бы губы накрасила, напоминала Авангарду нелюбимую им закуску, кто же сельдь в уксусе вымачивает, но Светкину жизнь Люба зря задела, да походя, как со зла. И про песок тоже вроде ни к чему.
И заболело у Авангарда сердце. И болело всю ночь, не отпуская. А когда огромный лохматый шар солнца выкатился навстречу Авангарду, а он, Авангард, уже давно поджидал его на балконе, завернувшись в одеяло поверх майки с трусами, не сошла к нему радость, и облегчение не наступало в этот самый любимый Авангардом час – время восхода. Наоборот, красное, как на плакатах, светило предвещало ветер и перемену погоды. Неумолимо начинался для Авангарда еще один столичный понедельник, но не было на него сил, а надо было сил, чтобы секретаршу спросить, когда, но и на когда сил у него не стало. И едва дождавшись семи утра, он позвонил в Электросталь, а потом в Ленинград, и долго звенели в утренней пустоте авангардовы позывные, но ни в Электростали, ни в Ленинграде никто не снял трубки.
А за понедельником пришел вторник.
– Вторник – потворник, – весело приговаривал оклемавшийся Авангард; их с Лагутиным, как две щепочки вертело в людском служебном водовороте. Обоих била дрожь, сказывалась-таки провинциальная оторопь. Секретарша вчера сказала Авангарду, что сегодня им назначено… Наконец вошли; милиционер, проверив список, узаконил их пребывание под этими сводами, а Лагутин присвистнул:
– Коммунизм!
И повторил: «коммунизм» – когда в местном буфете, а время им отсрочили из-за неожиданного визита чешских товарищей, съел подряд три пирожных, хитро выделанных под грибки-мухоморы с мармеладною шапочкой в сливочный горошек. А в коридорах нежно дули кондишены, и бесшумные лифты, сладким звоном отмечая прибытие на искомый этаж, возносили высоко и плавно опускали. А как пружинили под ногою мягкие синтетические ковры! Ходить по ним, не переобувшись в тапочки, честное слово, совестно было. А ведь ходили, бойко вкручивали в ковер острые каблучки местные бабенки, плотные, одна к одной, и масластые девицы, вроде той секретарши, которой каждое утро звонил Авангард.
Но случилась катастрофа! Храмцовская команда нанесла точный удар. К тем же лицам, между кабинетами которых вышагивал Авангард и ждал приема, а добившись, что примут, вызвал инженера, и они опять ждали в жару и на нервах, к тем же лицам прислали с комбината своего человека, но с официальными бланками, напечатанными по нужной форме и, главное, украшенными подписями самого и его шестерки, директора и главного инженера. И тоже про реконструкцию было в письмах, но безо всякого упоминания проекта Лагутина. А живого Лагутина принимавший их моложавый брюнет и не заметил, а Лагутину, если б не гениальность, в баскетбол играть, и кроссовки новогорские светились, а вот не заметил и Авангарду посоветовал как коммунисту и пенсионеру держаться поближе к трудовой и общественной жизни коллектива:
– А то можете гол забить в свои же ворота, товарищ Краснознаменский!
И предложил боржом. Боржом по новым веяниям, только боржом стоял во встроенном – пластик под дерево – холодильнике, тридцать бутылок бесподобного для понижения кислотности напитка пузырились, запотевшие. Но Авангард пить не стал, догадка осветила местность, как сигнальная ракета, и он увидел сам себя и Лагутина среди чуждого ландшафта и понял, что предали, и ударил кулаком по столу! И взвыли кондишены, отключился холодильник, застопорились лифты, устремленные в поднебесье и спускающие в вестибюль, где маялся здоровенный парень в милицейской форме. Ему ли списки сверять с паспортами? Нет! Ему рыть котлованы, прокладывать трассы, искать что-нибудь ископаемое, хотя бы снежного человека. И милиционер двадцати девяти лет, родом из Горьковской области, село Старосвятское, это понял – как ток прошел по электроцепи от нашего Авангарда, и самовольно покинув пост, парень рванул в соответствующее ведомство, чтоб увольняться. Но не прогремел Краснознаменский кулаком по столу. Только что пить боржом не стал. А как вышли, Лагутин сказал, что приезжает завтра в Москву из Луцка Галя с двойняшками. И еще сказал Лагутин:
– Все!
И купил себе мороженое.
Любовь Петровна Галю пустила без уговоров, потому что мужики, они всегда без соображения! Зато Галя выложила Авангарду, что она о нем думает, и что о нем думают некоторые, которых она уважает.
– Дайте людям пожить нормально! – кричала обезумевшая от мужниного непослушания женщина, и не так, как вы хотите, а так, как им хочется. Вот! Будущее комбината! Будущее! У меня ваше будущее вот где сидит! Мне свое будущее надо! Свое! И такое, как положено, как у нормальных людей, а не у этих, которые… Извините, конечно. А Лагутина я в Луцк отвезу. Пусть в таксопарк идет, и ему и семье на пользу, потому что он человек слабый. Он вообще ничего знать не может, – Галя выбиралась из стресса, куда ее ввергнул супруг, медленно, но неуклонно, как по спирали выбиралась, – а деньги, которые он тут проел, ему же на пальто были отложены. Вот тебе, Алексей, и будущее, – она наконец оставила Авангарда в покое, – теперь будешь в старом пальто куковать. А если еще раз кому скажешь, что в сторожа пойдешь, или с кем таким свяжешься, я тебя выгоню! Да! Не сама уйду, а выгоню, и детей своих никогда не увидишь. Я тебя, Лагутин, через суд от них отлучу, так и знай, Лагутин.
И она заревела навзрыд, но носом уже учуяла победу… Авангард вышел из комнаты. Молча мимо Любы, та была белее мела такой крик не утаишь, и на вокзал – брать Лагутиным билеты домой по удостоверению участника войны.
Билеты Авангард отдал Гале, и она их приняла, конечно: во-первых, Авангард был виноват, что Лагутин пальто проел, а во-вторых, Галя для себя давно решила, что тот относится к ее мужу – безотцовщине – как настоящий отец, а у родителей деньги брать не стыдно, на то они и родители. Она своим двойняшкам тоже будет все отдавать, когда вырастут. Авангард так и не увидел, как они шли по перрону, вяло доругиваясь, таща в руках двойняшек и вещи, он уже ехал в Электросталь к брату. Лагутин добил его, когда Галя орала. Разве Алексей Лагутин муж, мужик, если слова не проронил, а только носом шмыгал, как детсадовский и клонил к коленям немощную свою акселератскую головенку?
Галя, несмотря на ограниченность времени, с помощью той же Любовь Петровны успела-таки ухватить от столичной торговой жизни лыжи себе и Лагутину, детский велосипед – на вырост, электрическую мясорубку рижского производства, и для Москвы – дефицит. Галя была хозяйка, не в пример мужу, и двести рублей, торжественно врученные ей в Луцке, знала на что тратить для своей семьи. В купе они оказались одни: Авангард опять учудил, купил четыре билета! Москва еще тянулась вдоль железной дороги щупальцами бесконечных панельных кварталов, а может, это и не Москва была, хотя какая разница, но двойняшки уже посапывали, а Галя в импортном халатике ела Любин пирожок, аккуратно намазывая его маслом из банки, и запивала только что купленным молоком. Лагутин хмуро глядел в окно. Тогда Галя села рядом, повернула мужа к себе и они стали целоваться.
В Электростали Авангард узнал, что брата его Авангарда Краснознаменского по полной его непригодности к самообслуживанию сдал в дом престарелых внезапно объявившийся племянник из Минска. А главный врач этого скорбного заведения, порывшись в документах, объявил, что Краснознаменский умер еще в апреле. Теперь стало понятно, почему не пришло из Электростали поздравление с Днем Победы.
Какая-то совсем старая бабушка повела его на кладбище. Он так и шел за нею, с тортом и букетом пионов…