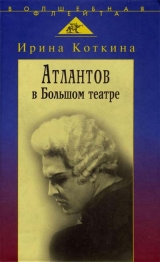
Текст книги "Атлантов в Большом театре"
Автор книги: Ирина Коткина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Если молодому певцу сразу с консерваторской скамьи в театре дают слишком сложные партии, должен ли он за них браться или ему стоит от них отказаться?
– Моя жизнь в театре складывалась так, что я пел то, что находил нужным и что хотел петь. Не считая того начала, когда меня поставили на Альваро или предложили петь Германа. Но это были удачные работы. Герман – вершина, которую всегда хотелось одолеть, Альваро очень итальянская партия. Конечно, желательно в театре начинать с лирического репертуара, чтобы театр смог оценить возможности певца, а певец сам для себя понять, что это такое – быть на сцене. Если молодой певец считает, что партия для него слишком сложна, он должен убедить дирекцию, что это преждевременно для его голоса. А если есть у артиста счастливое сочетание возможностей и средств к исполнению, то просто нужно не исполнять драматические вещи слишком часто, не садиться на драматический репертуар.
– У вас потрясающая кантилена? Как ее добиться?
– Я не могу сказать, что она у меня какая-то там потрясающая. Добивался я ее путем проб, путем плавного, незаметного соединения звуков, слов, из слов фраз, от музыкальной фразы переходил к более широкому музыкальному предложению. Мне кажется, если человек способен контролировать свои недостатки или знает, чего хочет добиться, то он больше должен думать не о том, что он многое может, а о том, что он многого не может.
– А как технически сделать кантилену? Есть ли приемы?
– Если ты находишься в окружении певцов, которые обладают кантиленой, ты начинаешь учиться этому, подражать кантиленному состоянию звуковедения, которое ты слышишь у других людей.
– У кого вы учились кантилене?
– Я? Впервые я услышал и осознал, что такое кантилена, у Лисициана. Меня она поразила. Я подумал: «Какая ровность звука, какое изумительное голосоведение, какая бесконечная кантилена, какое владение ею». Это и до сих пор для меня пример. Я не встречал подобной кантилены. Если вы пойдете к Лисициану, спросите у него про кантилену обязательно и передайте, что я его поклонник. Мне бы самому очень интересно было узнать, как он ее делал. Кантилена Карузо, Джильи. Когда мне представилась возможность их слушать, я слушал их часами, месяцами, годами. Просто слушал и стремился уподобиться этому. Как-то я не обращал внимания, что у меня какая-то необыкновенная кантилена. Я никогда не замечал за собой этого свойства. Но если оно есть, то я счастлив. Мне говорили со всех сторон, что у меня очень красивый голос. А кантилену я пытался, конечно, сделать. Я связывал, чтобы не было дырок в голосоведении. Позиция тут одна. Когда ты поставил голос, ты поешь «одним местом» и ты обязан придавать характер этому голосу. Кантилена – это тоже не постоянное и не естественное состояние. Можно показать ее, исполняя определенные арии. Опера часто требует отрывистого звучания. Просто нужно уметь в отдельных местах пользоваться как краской этой кантиленой. Есть кантиленные места. Кантилену надо иметь, она входит в набор оружия вокалиста. Не значит, что я постиг кантилену, а если вы это замечаете, то вы сделали очень приятное замечание в мой адрес.
– Как филировать звук?
– Вам это надо спросить у Тамары Андреевны, а не у меня. Она потрясающая мастерица. Это Божий дар, и она его развивала. Тамара рассказала мне, что однажды после простуды у нее произошло временное сужение дыхательных путей и она потеряла возможность филировать звук и делать пиано. Но потом, занимаясь, все восстановила. У нее это получалось замечательно. Я же в силу голосовой специфики, крупности своего голоса, драматического репертуара... Я пытался это делать, но не значит, что у меня это выходило. Иногда у меня даже получалось. В Ленском, там нет никаких особенных замираний, но «златые дни мо-о-ей весны», или «а-ах, я люблю тебя» – приходилось сфилировать. Бизе, правда, написал в арии Хозе: «Моя Кармен, навек я твой» – диминуэндо. У меня это никогда не получалось, я и не пытался. Я и не филировал. Может быть, в силу того, что у меня это не получалось, у меня была другая трактовка, скажем так, которой я придерживался и от которой я не отступал. Я выходил из положения, одним словом.
– А как сделать пиано? Как работать над пиано?
– Тренировка, тренировка, тренировка. Надо развивать длительность нот работой над дыханием. Если не заложено от природы в мышцах голосового аппарата, надо это находить и тренировать. Но есть певцы и певицы, у которых это есть от природы. Меня «не умудрил Господь», поэтому я эти места всю жизнь обходил, трактуя тот или иной момент исходя из своих возможностей.
– Владимир Андреевич, я знаю, существует такой дефект: у певца вроде бы громобойный голос, а через оркестр не летит. Что вы по этому поводу скажете?
– Потому, что он звук производит сам в себе. У некоторых это на слух воспринимаемый защечный звук. Есть просто свойство голоса: у одного полетный, у другого – нет. Если это не природный дефект, то значит, что певец не нашел нужные для своего голоса резонаторы и его громобойность заканчивается в нескольких метрах возле него самого.
Голос не собран, звук не сфокусирован, не летит, и он не может пробить оркестровую толщу. А небольшие голоса по силе, например Мазурок, прорезал за счет сфокусированного звучания любую оркестровку оркестра. Полетность зависит от собранности, фокусировки звука, тех резонаторов, которые используются певцом в первую очередь. А еще я бы послушал певца, у которого такая проблема есть, посмотрел бы, что у него с дыханием. Может быть, в этом проблема.
– Певец не слышит себя в зале. Он не знает своего результата. Нужен ли педагог, который бы все время следил за оперным певцом? Или певец может сам себя контролировать?
– Если певец может к себе относиться критически, если он не удовлетворен своим звучанием, он может записать свои спектакли на пленку. Но можно иметь маэстро, которому ты доверяешь, и обращаться к нему. У меня такого маэстро не было. Мама, только мама, которая достаточно строго ко мне подходила. Да и сам-то я строг к себе был. Некоторые любители давали мне пленки, которые они записывали на моих спектаклях. И я их прослушивал. Некоторые из моих коллег делали мне свои замечания, и я обращал на это внимание. Конечно, я очень слушал профессионалов. И даже высококультурных любителей.
– С какой степенью интенсивности использовать грудной и головной резонаторы? Или вы сразу пели всем капиталом?
– Не очень правильное, но очень широко бытующее выражение: «Пой процентами, а не пой капиталом». Когда ты выходишь на сцену, так называемыми «процентами» ты не поешь. Просто то умение петь, которым ты обладаешь, позволяет тебе петь не форсируя свой голос, не перенапрягая его. В просторечии это называется «петь процентами», а означает – просто бережно, умело обращаться со своим голосом, как с таковым: не перефорсировать его, не перерасширить его, не переорать его.
– Почему некоторые певцы выходят на сцену нераспетыми? Может быть, это средство и способ до конца сохранить голос на спектакле?
– Распеваться надо обязательно. Это правило гигиены голоса. Быть может, кому-то природа позволяет не распеваться. Живут себе, заходят в театр, открывают рот и целиком поют оперу. Я себя всегда готовил к этому.
– Как вы относитесь к многообразию в репертуаре? Нужно ли стремиться к максимально широкому репертуару?
– Вы знаете, это очень личностно. В принципе, было бы очень неплохо, неся преимущественно драматический репертуар, разбавлять это лирическими опусами. Это у нас можно совмещать французского, немецкого, русского композиторов, это у нас ты поешь по 5 разных названий в месяц. Здесь все не так. Ты приезжаешь на 5—10 спектаклей определенного композитора. И за 4 года уже знаешь, что ты будешь петь. Настраиваешь себя специально на эту оперу, настраиваешь свой голос таким образом, чтобы это соответствовало и стилю, и композитору, и времени. И поешь именно этот репертуар. Бывает, когда ты поешь серию спектаклей в одном городе, к тебе обращаются из другого города: там летит спектакль, нет исполнителя, тебя просят выручить. И ты позволяешь себе согласиться на это. Благо, что здесь в любое место лететь час—полтора. Но это редкий случай. Хорошо заранее настраиваться. Допустим, у тебя не получился из пяти один спектакль, но второй, третий обязательно получится, потому что ты поешь один и тот же спектакль в принципе очень хорошо, возвращаясь к тому уровню, который ты имел. От спектакля к спектаклю происходит тренировка, улучшение, совершенствование твоих возможностей. Это имеет для меня очень большое значение. А у нас, в русских театрах, ты поешь Мусоргского, Верди и Визе в течение месяца. Это сложно, мешается все в одну кашу.
– Как себя физически поддерживать певцу?
– Не предаваться излишествам во всех отношениях. Помимо всего прочего, это еще внешний вид. Но Кабалье, конечно, все опровергает. Я с ней пел в концерте. Все видели, какова она была. И я первый скажу: «Ну и что?» Я ведь совершенно обалдел от ее пения. Это не значит, конечно, что ее нужно выбрать примером для подражания. В конечном итоге, непрофессионально расплываться, просто неприлично, эстетика оперного зрелища утрачивается. Кабалье замазывает эти недостатки совершенно божественным пением.
– Кто на Западе из молодых драматических теноров вам кажется перспективным?
– Драматических? Сейчас таких нету.
– А из теноров?
– Мне очень импонирует Роберто Аланья. Очень музыкален. Если он удержится в возможностях своего голоса, своего амплуа лирического тенора, если он не начнет раньше времени проявлять себя драматическим тенором, то он войдет в историю как очень хороший, а главное – очень музыкальный певец. Варга – испанец или мексиканец – очень хороший тенор. Да и у нас очень хороший тенор, дай мне Бог памяти, Галузин. Володя Богачев занял свою нишу в театре.
– С кем вы еще занимались?
– У меня консультировался Таращенко еще тогда, когда я преподавал в Консерватории. Потом я ее оставил в связи с болезнью моей мамы. Тенор Мишенькин, который пел в Большом театре. Еще один баритон, но я не помню, как его зовут, и не знаю, как сложилась его сценическая судьба.
– Нужен ли на сцене контакт с партнером?
– А как же? Как же? Без этого вообще ничего не получается. Без контакта это – улица с односторонним движением.
– А для вас существует понятие «женщина» на сцене?
– Конечно. Как может сцена да еще без женщины обойтись? Вы что? Первейшее значение! Первейшее! Я не говорю о личных взаимоотношениях, которые существуют в жизни. Могут быть достаточно антипатичные отношения. Но на сцене волею спектакля ты сведен с этой женщиной и обязан как профессионал сделать все по первому сорту.
– А вы при этом задействованы эмоционально?
– Я профессионал. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Не должно ощущаться моего личностного, эмоционального отношения к ней на сцене.
Это отношения персонажей. И я должен убедить всех, и ее в том числе, именно в этом. Уже не говоря о самом себе. Это профессионализм.
– Вы с Тамарой Андреевной очень долго пели вместе на сцене. Такой семейный союз певцов, тем более таких певцов, не часто случается. Насколько эмоционально легко или тяжело вам было петь в одних спектаклях?
– Как с партнершей, мне было очень легко с ней петь. Я получал физиологическое удовольствие от ее голоса. Но было трудно, потому что я просто волновался. Волновался и за нее, и за себя, что я окажусь не на достаточном уровне по отношению к ней. Это было. Она пела, дай Бог каждому так петь. Вместе дома мы никогда не занимались. Если нужно было ей, она занималась. Если нужно было мне, то занимался я. В своей кухне, как говорится. У нас хватало такта и ума не мешать индивидуальным занятиям друг друга, но полное обоюдное доверие и уважение позволяло иногда давать друг другу профессиональные советы.
– А Тамара Андреевна не преподает здесь?
– Нет. Здесь она не хочет.
– Вы, наверное, никогда так не увлекались ролью, что забывали и о трудностях тесситуры?
– Должен сказать, вот так было с Дон Карлосом. Я одел эту партию, как пиджак, сшитый на меня. И ничего не надо было надставлять. А там он поет невероятное количество музыки, притом сложной, неблагодарной, высокой, с выходами на си-бекары. Партию я выучил быстренько и вошел в спектакль. И так же Альваро. Там столько этих си-бекаров, что Герману просто и не снилось. Но удобно. Верди прекрасно знал свойства человеческого голоса, прекрасно разбирался в этом, как маэстро пения. А наши гениальные композиторы сточки зрения вокала, школы пения были менее осведомлены. Поэтому итальянцев легче петь. Из-за перевода на русский итальянский язык в своей музыкальности теряет очень многое. И приходится обращать на это специальное внимание, когда поешь перевод. Это сложно. Приходится просто перепевать партию.
И еще, знаете ли, особенно у нас, особенно в Большом театре, безумно завышен камертон. Это как фуганком снимает стружку с голоса, с его тембра, с его металла. Взять бы и спеть оперу на полтона ниже. Ведь звучание композитора было рождено в иной тональности. Вы понимаете, когда писались произведения Верди, Пуччини, вся тональность была на полтона ниже. А это совсем другое ощущение! Несчастные дирижеры взвинтили это дело. Это ужасно! Теряются свойства голоса. Спинтовый голос мог бы великолепно справляться с си. Но до – это для крупного голоса уже спорт.
Я не понимаю, почему сейчас не могут поставить эксперимент: взять и какую-нибудь оперу сыграть и спеть в той тональности, в которой она была создана. Переписать партитуру на полтона ниже. А по звучанию она будет соответствовать тому, что было 100—150 лет назад.
Я думаю, что художественный орнамент благодаря снижению этого задранного тона был бы намного богаче. Но пока это не заинтересует дирижеров, наиболее настырную часть нашего творческого профсоюза, этого никто не сделает. Мы много об этом говорили с Пьеро Каппуччилли. У него была такая мечта. Если бы не случилась с ним катастрофа, он бы сумел настоять на этом своим авторитетом. Я ему всегда говорил: «Пьеро, если ты сумеешь где-то пробить идею такого исполнения, учти, что я с тобой». Он хотел спеть или записать «Отелло» или «Риголетто», «Трубадур». О постановке-то мы даже и не говорили. Нужен сначала ручеек, а потом уже река. Певцы здесь настолько ленивы и разобщены, что я думаю, у них просто не хватит ни времени, ни желания это дело пробивать. Очень жалко, что это не осуществится. Больше красок бы появилось, больше тембровых оттенков, больше баритональности, больше насыщенности, больше страстности, которую можно позволить себе в этой тональности и которую нужно постоянно сдерживать, зная, на какую высоту нам еще придется в исполнении той или другой партии забираться.
– Есть ведь так называемые «аутентичники», которые ставят спектакли именно в первоначальной манере, с оригинальными инструментами. Как вы к ним относитесь?
– Это очень интересно. Я не представляю себе, каков был оркестр во времена Моцарта. Я не представляю себе, каково было звучание инструментов в его время.
Тональность – это отображение эмоционального состояния композитора, его внутреннего напряжения. Эта тональность родилась в нем потому, что он ощущал данную ситуацию так. Это его уровень звучания. Это его высотность звучания. А мы сейчас это потеряли. Из-за завышенного строя появилось какое-то спортивное отношение: ах, возьмет он эту ноту или не возьмет. И дело ведь не в одной ноте. Дело в общей завышенной тесситуре. Певцы начинают больше думать о преодолении трудностей вокальных, а не о том, как показать состояние данного героя, который был изображен композитором 100—150 лет назад.
– Мне интересно ваше внутреннее ухо. Как вы себя на сцене слышали?
– Сначала я интересовался акустикой, а потом стал просто петь ощущениями, то есть наработанной автоматикой, которой доверял, которую приобрел не за 5 и не за 10 даже лет. Для меня уже не были проблемой размеры зрительного зала. Я уже знал, каким образом буду располагать звуковысотность в своем организме за исключением тех моментов, когда не был здоров. Тут уж надо было внимание утроить.
Нужно иметь, конечно, память очень хорошую, особенно слуховую. Потом должна быть память физическая, память ощущений. Многие студенты да и некоторые артисты интересуются, какое место лучше всего занять на сцене, чтобы голос звучал, какая акустика в зале. Для меня это тоже имело сначала значение. Контроль происходил только ухом. Aгa, ты услышал себя, свое эхо, вернувшееся из зала, значит все в порядке.
А ведь есть огромные залы, где сидит 20—25 тысяч человек, есть открытые площадки, например «Арена ди Верона». И вот там нужно петь физическими ощущениями. Я знал: выйду и вспомню свое физическое ощущение при исполнении этой арии, и она будет звучать так, как я бы услышал ее, находясь в очень небольшом помещении. Потом это переходит в так называемый автоматизм, в мышечную память.
– А насколько важны первые ноты? Некоторые певцы говорят: вот как первые ноты споешь, так и пойдет спектакль.
– Нет, это неверно. Иногда выходишь на сцену, как на Голгофу. И может быть, первые такты недостаточно хорошо звучат. А потом голос распевается, разогревается и получается очень неплохое выступление, бывает даже очень-очень неплохое. Распевка имеет большое значение.
– Знаете, музыканты говорят, что эмоция должна быть внутри, что слушатель должен только догадываться о том эмоциональном накале, который есть у исполнителя в душе.
– Нет. Эмоция обязательно должна быть в голосе. У нас голос – инструмент.
– Как вы пели ансамбли? Мало кто умеет петь ансамбли. Особенно с маленькими голосами. Вам, наверное, было трудно петь ансамбли.
– Трудно, одна из трудностей. Я просто старался умерить волну своего звука. Старался подчинить свой голос ансамблевому звучанию. В каких-то ансамблях какой-то голос должен быть ведущим, доминирующим. Если смысловая строчка в ансамбле приходится на твою партию, то ты ее поешь соответствующим звуком. Если же ты являешься фоном в этом ансамбле, то надо не выпирать.
– Как сохранить голос молодым?
– Это дает постановка, правильная постановка голоса. И верное место звучания. Конечно, режим. Голос, пение накладывает определенные обязанности, ограничения. Поэтому-то я не курил. Я бросил курить, когда почувствовал шипение в голосе. Это относится и к застольям, и так далее. Оперному певцу приходится вести определенный и достаточно ограниченный образ жизни, штука сложная и скучная. Приходится себе во многом отказывать. Но я никогда не был аскетом и не говорю, что певец должен стать монахом: ни тебе вина, ни всего остального. Нет, но в тех пределах, которые не наносят ущерба голосу. Как только ощущаешь влияние того или другого, надо очень быстро производить перемены внутри себя.
– Как вы гримировались? Или вас гримировали? Шаляпин себе даже руки сам гримировал.
– Ну, Шаляпин был великолепный художник. Это не всем дано. Как правило, меня гримировали. Это началось еще в Мариинке. Потом я самостоятельно добавлял себе черты, которые могут помочь не моему образу, а моему лицу.
Раньше я считал, что у меня курносый нос, и наклеивал себе горбинку и в Хозе, и в Германе. Потом, конечно, это отошло. Единственное, что я с удовольствием себе позволял и о чем просил гримеров, так это убрать мои щеки, чтобы были поменьше и повпалее. Но насколько это мне удавалось, я не знаю. Внутренне я выходил с тем, что напридумывал по поводу персонажа и его положения. Слава Богу, что нужен грим.
– А зачем вам это?
– Ну, очевидно, чтобы быть лучше, казаться лучше. Не быть, казаться.
– Вы себе нравились в гриме? Он помогал вам раскрывать образы?
– Ну, в принципе, грим-то был тривиальный. Мог я быть блондином, скажем, или брюнетом, скажем. Ну, с бородавками, скажем. Ну что же тут делать? По Пушкину-то у Гришки Отрепьева бородавки есть. Вот и рисовали. Черты оставались прежними. Я же не пел Риголетто. Вот так. Ну Отелло, конечно. Не выйдешь же белым в Отелло.
В Гамбурге у меня был поразительный гример. Наверное, он был художником. У нас бороду приклеивают целиком, а он, зная специфику пения, понимая, что артист довольно интенсивно артикулирует, делал бороду из кусков. Такая борода не отклеивалась. А сколько раз я в других случаях заканчивал акт, понимая, что один ус у меня на месте, а другой отклеился, и пребывая в раздумьях, что мне с ним, с единственным, делать.
Самсон требует совершенно особенного грима, особенно когда он ослеплен. Главное, грим должен быть в характере эпохи. Но роли белых людей, это роли белых людей. Так, глаза подведут, и выходишь.
Правда, Хозе, которого я спел очень рано, почему-то появлялся у меня в четвертом акте седым. Я очень любил седить себе волосы. Казалось, он так переживает, он так переживает, что даже поседел!
– Как вы себя ощущали в разных костюмах?
– Если костюмы были удобными, то прекрасно, а если неудобными, то, конечно, трудно. Артист проводит под юпитерами колоссальное количество времени. Но если костюмы безумно красивые, то закрываешь глаза на то, что в них неудобно двигаться.
– Раньше в Большом театре некоторые артисты специально учились носить костюмы. Максакова, например, рассказывала, как она училась носить платье Марины Мнишек со шлейфом. Вы учились носить исторические костюмы?
– Да нет. Специально я ничего не предпринимал. Мне кажется, я и так от природы умел носить исторические костюмы, а фрак мне просто идет. Но я представлял себе определенную походку. Например, каким должен быть Отелло в различных ситуациях. Когда из Венеции на Кипр к нему приезжают послы, я думал, каким образом он должен представлять свою значимость завоевателя. Такую походку, осанку, жесты я и изображал.
Мундир Хозе? Ну, не надо быть слишком одаренным человеком, чтобы представить себе, каков должен быть солдат на службе.
Не скажу, что мне было сложно, но как-то пришлось подумать о своем внешнем виде, когда я пел Паоло. Меня одели, как балетного. Ни дать ни взять – Зигфрид из «Лебединого озера». И в «Иоланте», и в Альваро я был в колете.
В костюмах я себя чувствовал свободно, кроме ужасных лат в «Отелло», в которых я выходил в берлинском спектакле. При этом они почему-то еще и плохо сгибались. И в Венской опере латы были тяжелые. Когда я поднимал руки, они почему-то подпирали под подбородок. Дышать было трудно, не то что петь. Я пытался всеми возможными способами ремешки на этих латах ослабить, чтобы они оставались на груди.
Кроме Гамбурга, где был удивительный гример, я на Западе везде гримировался сам. А в Большом театре меня гримировала Анна Ивановна Балашова, совершенно очаровательный, мягкий, необычайно доброжелательный человек с громадным опытом, знанием традиций, которые существовали в Большом театре. С этой гримершей я и начал свою карьеру в Большом. Она в свое время гримировала и Нэлеппа, и Ханаева. И она как-то своим присутствием удивительно успокаивала меня, психа ненормального, перед спектаклем. Конечно, она не могла развеять мой страх и ужас перед сценой, но эти бушующие волны она немножко утихомиривала. Вспоминаю ее с большой любовью и благодарностью. Когда я возвращался в Россию, меня всегда гримировала Аннушка. Я был совершенно спокоен, привык к этому. Поэтому мои первые пробы грима на Западе, я так могу предположить, могли весьма удивить моих партнеров. Но они были люди мужественные и снисходительные и не показывали этого. Это уже потом, когда я научился гримироваться, я понял все их благородство.







