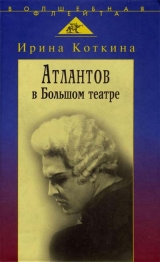
Текст книги "Атлантов в Большом театре"
Автор книги: Ирина Коткина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Вслед за возвращением Прокофьева сами собой, длинной и печальной вереницей, на ленинградскую сцену стали выходить и другие герои. И уже где-то снова шелестело имя Мейерхольда, предусмотрительно составленное из таких сочетаний букв, которые легче всего произносить шепотом.
Именно до конца не воплощенная творческая энергия культуры 20-х годов и питала ленинградские 60-е. Может статься, режиссерской и педагогической миссией Киреева и было воплотить нереализованный потенциал этой культуры. И Киреев осуществил ее. Он воспитал новое поколение Кировского театра, энергичное и артистичное, раскованное и свободное, умеющее постоять за себя, которому предстояло вдохнуть новую жизнь в старые спектакли. К Атлантову все сказанное выше имеет самое непосредственное отношение. Ленинград готовил Атлантову необыкновенную судьбу. Не случайно этот город всякий раз отбрасывает на рассказы Атлантова тень легкой ностальгии, будто до сих пор волнует память неосуществившимися возможностями иного сценария жизни.
Ленинград расставил на пути певца сначала в Консерватории, потом в Кировском театре людей, определивших характер десятилетия. Казалось, незаметное время суетилось вокруг этого певца с тем, чтобы он превратился в главного героя Кировской сцены. И хотя сам Атлантов отрицает то, что ощутил смутные призывы времени, его голос повиновался им и отразил их. Театральную, актерскую психологию Атлантова сформировал совершенно особый момент истории, ставший точкой отсчета нового оперного стиля, новой исполнительской эпохи.
– Если мне что-то удавалось сделать на сцене, то, очевидно, это заслуга Киреева. Когда вы будете беседовать с Образцовой, то услышите столь же признательные слова в адрес Киреева. К нему вообще стремились попасть практически все студенты, потому что Киреев был не только режиссер, но и музыкант, блестящий пианист, человек необычайно широких, энциклопедических знаний, такта и неизмеримого таланта. Мне кажется, что Киреева просто недооценили.
Я считаю, что он был единственным гениальным режиссером в мое время в Кировском театре. Я видел его совершенно феерический спектакль «Обручение в монастыре». В Большом театре, в постановке Бориса Покровского, было совсем не то. Художник был в Питере потрясающий. А весь спектакль – как шипящий бокал шампанского. Чудесная Дуэнья была Нинель Аксючиц, лирический тенор Иван Бугаев пел Антония, Лев Морозов – Дон Карлоса, Николай Кривуля – Мендозу. Сплошное наслаждение, искры юмора! Талант удивительной легкости.
В «оперном классе» Киреева я познал азы сценического рисунка, познакомился с тем, что такое драматургия сценическая и музыкальная, получил на всю жизнь способ работы над образом.
Это способ не только как можно глубже и шире познакомиться с образом, а представить себя в обличье того персонажа, которого тебе придется исполнять.
– А без Киреева вы это не освоили бы сами?
– Не думаю. Я отдаю Кирееву должное. Казалось бы, ничего особенного в его классе не происходило. Мы, как студенты-вокалисты, обсуждали, разбирали и исполняли оперы. Алексей Николаевич хотел услышать, что мы представляем по этому поводу, заставлял нас фантазировать, развивал наше воображение. Но не только, не это главное. Он много, очень много говорил. Я не все понимал в рассказах Киреева. Когда мне не ясны были его требования, я спрашивал: «А как это выполнить?» И вот этот маленький, корявый человечек с ужасно смешной походкой показывал. Он выходил на сцену, двигался, не пел даже, а просто говорил, все время объяснял, и я вдруг начинал понимать, что стоит за теми словами, которые он произносит. Я осознавал внезапно, какие у моего героя должны быть движения, выражение лица, фигура.
Я ведь совершенно не знал, как надо двигаться на сцене, несмотря на то, что сценическому движению нас учил знаменитый Александр Пушкин, в свое время преподававший в Вагановском училище. Но именно Алексей Николаевич Киреев приводил мое внешнее сценическое выражение той или иной роли в соответствие с моим внутренним состоянием. Именно он и сделал меня артистом. Таинственным каким-то образом вставил шестерню моей пластики в нужные пазы и сообщил движение всему механизму.
Всю партию Хозе Киреев прошел со мной, это его мне подарок. Когда я поначалу приступил к партии Хозе, то не понимал, как мне нужно ходить ногами по сцене, как у меня должны быть плечи опущены, куда мне деть руки, чтобы все было в соответствии с образом, с моим о нем представлением. Щенки легавых, вырастая, носятся как пули. А в детстве у них лапы заплетаются. Так вот и я на сцене был слепым щенком. Киреев же показывал форму. Форму, которую надо было наполнить тембром, красками тембра. Насколько человек талантлив, настолько разнообразно он и пользуется красками, которые у него есть в душе.
Я впервые увидел, как можно соединить музыку и жест. Сначала я подражал Кирееву и начинал ощущать совпадение. Мое сценическое движение стало соответствовать тому, что и как я хотел спеть. Как-то мне говорили, что я довольно естественно веду себя на сцене. Очевидно, это результат работы Алексея Николаевича Киреева.
Потом, когда начались мои самостоятельные шаги на сцене, мы стали жить в разных городах с моим учителем и я не мог к нему бегать за советом. Надо было самому делать роль в Большом театре сразу после назначения на партию. У меня ведь было не так уж много премьер. Меня вводили в уже идущие спектакли ведущие режиссеры театра. Конечно, по записям – каждая опера имела сценический клавир, где было записано точно и четко все то, что хотел режиссер-постановщик. Но наполняли эту форму мы собственным содержанием. Мне было просто, я в Консерватории был научен тому, как это делать. Не знаю, чем еще объяснить свои успехи. Один артист производит впечатление в роли, другой в ней же оставляет зал равнодушным. Я всегда работал честно, а в молодости и с большим энтузиазмом. И, наверняка, с ошибками.
Я никогда ничего не изображал на сцене, просто переносил на себя то, как бы я поступил в той или иной ситуации. Домысливать тут, я убежден, нечего. В оперной партитуре уже все написано композитором. Нужно своим певческим или артистическим обаянием, это уже зависит от даровитости, кто в какую меру одарен так называемым талантом, суметь захватить зал. Конечно, прежде чем приступить к роли, читаешь литературу, слушаешь разные исполнения, сравниваешь варианты этой оперы у различных певцов, у различных дирижеров, и постепенно складывается то, что в конечном итоге получается у тебя на сцене. А это основное. Понимаете, этот результат зависит главным образом не от начитанности и не от наслышанности, хотя и то и другое очень важно, а от «нутра», от таланта.
– У кого вы учились в Консерватории петь?
– Заведующим вокальной кафедрой был Евгений Григорьевич Ольховский, баритон с очень ровным, свободным голосом, сделавший хорошую карьеру в ленинградских театрах. Он определил меня в класс Петра Гавриловича Тихонова, бывшего тенора с неплохим вокальным уровнем, как я теперь могу судить. В молодости он исполнял ведущие партии: Германа, Канио в «Паяцах». Я не знаю, как складывалась его карьера в провинциальных театрах, где он провел большую часть жизни. Петр Гаврилович был по-старинному добродушен, благожелателен, и сначала у меня все шло хорошо в его классе.
Со мной вместе у него занимались Коля Громов, Витя Устименко, Гена Данилов, Миша Васильев. Честно говоря, они все были такими голосистыми, такими одаренными. Когда я приходил на занятие, то всегда думал с опаской: а я-то что тут делаю, как мне удалось сюда попасть, почему меня до сих пор не выгнали? Пение всех без исключения учеников Тихонова мне казалось божественным. Потом я понял, что Геннадий Данилов, например, обладал совершенно уникальным голосом, напоминавшим голос итальянского тенора Аурелиано Пертиле по формированию и эмиссии, даже по тембру – такой был круглый, как шар, звук у него с верха диапазона до низа. А у меня был просто тенор.
– Лирический?
– Да не то слово, какой лирический. У меня ультралирический был голос. А эти голоса со мной в классе были, мне казалось, героическими, драматическими. И тогда же, в Консерватории, начались мои первые театральные впечатления.
По радио я слушал Лемешева и Козловского. Правда, на сцене я их услышал и увидел только в Москве. Конечно, у нас в Питере рассказывали легенды и какие легенды о битвах между поклонницами Козловского и Лемешева. Это была притча во языцех. Певцы эти были для меня как Эверест – так же высоки и так же далеки.
В годы моей учебы стали бывать у нас на гастролях роскошные заграничные солисты: Рудольф Францл, Николай Гяуров, Димитр Узунов, Николо Николов, приезжали Джордж Лондон, Джером Хайнц, Гарбиас Зобиан, Зинаида Палли.
Кировский стал моим родным домом, начиная с Консерватории. С друзьями встречались по вечерам, шли «на прорыв» билетеров и дальше «рассасывались» по ярусам. Почти каждый день – в театре. Там я впервые услышал Гарбиаса Зобиана, Килико, Анджея Хиольского. Услышал, а потом и пел «Кармен» с феноменальным меццо-сопрано Зинаидой Палли.
Я ходил, слушал, смотрел, удивлялся. Жизнь моя была очень интересной в Консерватории, особенно до тех пор, пока у меня не начались вокальные проблемы да такие серьезные, что меня чуть не выгнали.
У меня голос отказывался идти кверху, не было верхних нот тенорового диапазона. Я воспринял это, как трагедию, и понял, что если не смогу преодолеть отсутствие верха, то я погиб.
– Значит у вас не было природной постановки голоса?
– Нет. У меня не было природной постановки голоса, и мое дыхание было неправильным. Если вы замечали, певцы, делающие большую карьеру, как правило, не поют в детстве и у них происходит нормальное, естественное развитие певческого аппарата, им легче начинать с азов установку певческого дыхания. А мне пришлось очень долго петь в хоре мальчиков. С шестилетнего возраста в Капелле мы все время пели какими-то вытянутыми голосами. У мальчишек ведь не было никакой постановки голоса. Нам развивали музыкальный слух, развивали интонацию, развивали музыкальность фразы. Но не было и речи о постановке правильного дыхания. Дыши, как хочешь! И навыки пения, которые были у меня для детского голоса, с которыми я пел 6 – 8 лет, перешли в мое послемутационное состояние.
– А в чем именно заключался дефект, мешавший вам брать верхние ноты?
– Я пел на поднятой гортани. Это наследие хорового пения. Я брал верхние ноты ключицами, не задумываясь о том, как это будет отражаться на моем голосе.
Проблемой был и мой небольшой голос. После ломки голос сделался довольно низким, несмотря на то, что до мутации я пел альтом, а не дискантом. Альт у мальчика – залог высокого голоса в будущем. Но я думал, что у меня – не тенор, а баритон. А когда начал заниматься профессионально, оказалось, что по масштабу, по силе звуковой волны мой голос – тенор, но не очень сильный, лирический. Меня же всегда тянуло на драму. Надо было думать о том, каким образом развить интенсивность звучания. И очень не сразу я довел голос до состояния, которое давало мне возможность петь любые драматические партии.
Я понимал, что если я не устраню свои недостатки, то мне придется опять переходить на хоровое отделение или становиться дирижером хора, потому что делать сольную карьеру я не мог. Единственное, на что я мог рассчитывать, – это быть в хоре театра. Я достаточно музыкален, могу вести группу теноров за собой. Все-таки я занимался с шести лет, быстро учу, правильно интонирую. Откровенно говоря, я настолько любил пение, то есть сам процесс звукоизвлечения, что я думал: «Господи, мне бы хоть в хор попасть, на сцену! Это уже было бы счастьем». Но я не мог смириться с неудачей.
– А каким именно способом вы стали бороться со своим вокальным недостатком?
– Сначала, когда я совсем не знал, что мне делать с моей гортанью, я просто подбородком ее опускал. Я нагибал голову, прижимал челюсть, обнажая нижние зубы, и таким образом опускал гортань. Но у меня сперва ничего не получалось.
Дело дошло до того, что меня вызвали к завкафедрой и сказали: «Еще один семестр с такими результатами и, Атлантов, к сожалению... Либо мы вас отчисляем, либо... Но вряд ли у вас получится...» Вот тут-то и наступил для меня мрак и ужас. Я стал пробовать различные способы улучшения этого верхнего регистра. Сам. Что я только ни делал, чего я только ни придумывал! Педагог мой мне бессилен был помочь. Он говорил то же, что и вся вокальная кафедра. То есть молчал.
Здоровый мужик, здоровый мужик... По фигуре я был похож тогда ну не на Шварценегера, но на атлета, я приходил домой и плакал. Просто плакал от бессилия.
Мама все видела и пробовала со мной заниматься. Она была замечательным педагогом, какие-то советы мне давала. Но что-то я как-то к этим советам... То ли я не понимал их тогда, то ли я считал, что мой организм особый. Я отдавал себе отчет о привычке моей гортани к звукоформированию, основываясь на несчастном опыте пения в хоре мальчиков, но не знал, как это исправить. И никто не знал.
В общем, работа моя была отчаянной, страшной, со слезами, с падениями, с взлетами. Я занимался дома, сам, когда мама была на работе, чтобы она все это не слышала. Просто орал изо всех сил разными способами, то есть пробовал все места в своем голосовом аппарате, чтобы определить, куда там что воткнуть, чтобы получилось именно так, как должно быть. Делая упражнения, я выстраивал свой голос, выстраивал место, помещение для него.
И вот в момент отчаяния, беспросветного отчаяния, я наткнулся на книжку, в которой был описан метод вокальной тренировки Карузо.
– Это была книжка 1935 года «Искусство пения и вокальная методика Карузо» в изложении двух авторов Фучито Сальва и Бейера.
– Не помню, по-моему, это было скорее дореволюционное издание на русском языке. Прежде всего я обратил внимание на упражнения на «у». Чтобы установить гортань в правильное положение, или в оперном просторечии «кадык» на верное место, я сначала пел на букву «у» быстрые упражнения: ноны (нона – это октава плюс секунда) от до до до октавы и ре, потом до, до, и от до до ля, а потом – эти же быстрые упражнения на все гласные. При этом формируется наиболее правильное и наиболее естественное положение гортани для звукоизвлечения.
Года через два после моей консерваторской «трагедии» у меня, наконец, кое-что получилось! Я прошел через слезы, через отчаяние, через Бог знает что. Сперва, когда я попробовал делать упражнения на «у», были лишь отдельные моменты правильного попадания, счастливого попадания в нужное место, счастливого запоминания этого места. Я старался их зафиксировать. Для этого нужно было иметь очень хорошую память – мышечную и особенно слуховую. Их обязательно нужно развивать.
– Вас все-таки не выгнали из Консерватории?
– Нет. Когда встал вопрос о моем исключении с факультета, я уже начал кое-что понимать. И минимальные, еле заметные положительные результаты у меня, благодаря Карузо, появились. В этот момент кафедра приняла решение перевести меня от Петра Гавриловича Тихонова в класс Натальи Дмитриевны Болотиной. Она – драматическое сопрано, пропевшая в Кировском театре весь крепкий репертуар.
Ее муж был в свое время очень популярным в Ленинграде оперным певцом. Павел Петрович Болотин пел баритоном. Я его впервые услышал в Троекурове в «Дубровском». Я Болотиных слышал уже в Кировском театре, а раньше они выступали и в Кировском, и в МАЛЕГОТе. У двух театров была одна оперная труппа. Потом она разделилась, и Наталья Дмитриевна осталась в Кировском и пела вместе с мужем. Хочу сказать, что это была женщина удивительной доброты, мягкости и интеллигентности. Я не знаю, на чем основывалась ее вера в меня, но она дала мне возможность продолжить мои поиски, не навязывая свой метод обучения. Благодаря мягкому, чуткому, ну просто замечательному отношению этой женщины, у меня оказалось время и я «дозанимался» до того, что меня оставили в Консерватории.
Почти год я не появлялся в классе у своего педагога. Ну а когда свободное плавание в Консерватории началось, к вокальным проблемам прибавились проблемы человеческие, проблемы общения с людьми, проблемы пола, естественно. Для меня ведь абсолютно новым было общение с девушками. Я до семнадцати лет вообще не видел девушек. Вы можете себе это представить? До семнадцати лет! Капелла была закрытым музыкальным заведением, где учились одни мальчики. Девочек вообще не было! А вокруг были нормальные школы, где мальчишки и девчонки учились вместе. Я даже и говорить-то с девушками не умел. В Консерватории я совершенно обалдел, что вокруг столько девушек. Я и предположить не мог, что их бывает так много.
Я быстро сообразил, что голос – это одно из средств, которое способно привлечь женское внимание. И, может быть (хотя сейчас я уже не помню тот ход своих мыслей), именно стремление понравиться в первую очередь сказалось в моем желании улучшить голос, поставить его так, чтобы он приобрел силу оружия. Оттого-то у меня и появилось упорство, упрямство и, пожалуй, даже одержимость в занятиях вокалом. Таки добился!
В юности мне очень понравился чувственный тембр, и я стал стараться, чтобы в моем голосе появился секс. Я страстно хотел, чтобы возможность производить сексуально окрашенный звук жила вместе со мной, чтобы она всегда была под рукой и я мог вытаскивать ее из моего вокального арсенала, когда захочу.
– Это, действительно, так важно для вас?
– Для меня? Это важно не для меня, а для вас, для тех, кто меня слушает. Мысль сделать свой голос максимально сексуальным впервые открылась мне после фильмов с Марио Ланца. Он ласкает голосом. Не руками, а голосом. Я вам говорю не о плотском сексе, а о сексе вокальном, духовном, если хотите. Чтобы понять, что это такое, послушайте, сколько страсти, сколько нежности и секса, именно настоящего секса, у Титта Руффо, у Джино Бекки. Очень много секса у Титто Гобби. У него не было колоссального вокального материала, но он умел его подать. Если бы у него секса в голосе не было, он бы был просто средним певцом. У Пер-толи столько страсти в голосе! В женских голосах – у Каллас, Тебальди.
– Мне казалось, что ваш тембр очень чувственен от природы, что это естественное и почти неосознанное вами свойство голоса. Оказывается, это не так и вы выработали такой тембр специально. А как этого добиться?
– Если петь бездумно, то это просто звукоизвлечение, а не опера. Пение – процесс физиологический, но осмысленный. Я не люблю пения без мысли. Оно никогда не будет чувственным, никогда.
Сначала я контролировал свое пение мозгами. Добивался путем бесконечных проб, исполняя десять вариантов одной и той же фразы и оценивая на слух, сексуально ли это звучит, да не сексуально даже, а, я бы сказал, неотразимо, покоряюще.
А потом иногда совершенно неожиданно на сцене рождалась новая интонация, рождался смысл. Вдруг происходило какое-то озарение, и я находил не то что новую краску, а вообще новый смысл фразы. Увы, так происходит не часто! Я пропел на сцене 35 лет, не знаю, сколько спектаклей спел. Но мне самому принесли удовольствие или даже наслаждение не больше 20-30 спектаклей.
– Карузо говорил, что пение – очень приятный процесс.
– Да, физиологически приятный. Особенно верхние ноты. Просто с ума сойти! Это как,., как... Даже не знаю, с чем сравнить. Это победа, просто победа, виктория! Я не могу тут ни прибавить, ни убавить.
– А вам не кажется, что намеренно чувственное пение с элементами секса несколько перекрывает подтекст, то есть то, о чем, собственно, поешь? Что вы, увлекшись этими сладостными переливами, пропускаете самое важное?
– Зачем? Нет. Это только одна из ипостасей. Отсутствие секса в голосе – большой минус. Но это не значит, что он – основное. Я не всегда пользовался такой краской, она не всегда являлась основным средством моего воздействия, если таковое было. Нет, нет. Есть масса тонких вещей, из которых сливается воздействие голоса. Это воспитание, начитанность, эрудиция.
– А что же девочки?
– Какие девочки? Ах, девочки... Стали присутствовать в моей жизни, когда я понял, какое оружие – пение, голос. В Консерватории я познакомился со своей первой женой. Но наш брак распался. У меня есть дочка и внук. А моя счастливая судьба – это Тамара Милашкина. Какие у вас еще есть вопросы?
– А кто из знаменитых впоследствии певцов учился с вами?
– Я учился вместе с Женей Нестеренко, с Леной Образцовой. Она была на другом курсе, но мы с ней встречались на занятиях сценического мастерства, в «оперном классе» у Алексея Николаевича Киреева. Там мы с Леной приготовили последнюю сцену из «Кармен».
– Как же закончилась в Консерватории ваша борьба с собой?
– В конце концов я докатился до того, что спев на переходном экзамене на 4 курс, я сделался достопримечательностью Консерватории, знаменитостью можно сказать. Слухи о моем удачном экзамене разнеслись во все музыкальные театры. Директор Мариинского театра Коркин как-то встретил мою маму и предложил: «Марья Александровна, я узнал, что у вас сын поет, слышал хорошие отзывы о нем, говорят, у него есть голос. Давайте-ка его к нам на пробу!»
Как только мама мне это сообщила, у меня внутри все и оборвалось. От страха. Страх этот я не преодолел перед сценой по сию пору. Не преодолел! Я нашел силы его скрывать, я научился не теряться от ощущения ужаса. Этот ужас сценический, кромешная штука такая, непередаваемая. Но тогда деваться мне было некуда, и в назначенный день мама меня взяла за руку и повела. Это было весной. По-моему, в мае. Вышел я на открытую и пустую сцену Кировского театра и спел.
– Синодала?
– Нет-нет. Синодала я тогда не пел, из-за Синодала меня вышибли из театра. А при поступлении я пел Германа «Прости небесное созданье», пел из «Тоски» «Таинственна гармония» и арию Хозе «Видишь, как свято». Тембр голоса у меня в ту пору слегка изменился. Он из крепкого лирического стал переходить в спинтовый, но все еще, конечно, оставался по сути лирическим.
Видимо, спев, я был в таком состоянии, что директор спросил у мамы, как она мне потом рассказывала: «Можно ли с ним разговаривать откровенно?» И только получив утвердительный ответ, сказал: «Молодой человек, ко мне в кабинет!»
Я, как во сне, зашел к нему, но вижу, что это не провал, уже ощущаю. Какие-то капилляры в моем теле, какие-то клеточки мне подсказали это. И директор подтвердил: «Молодой человек. Так вот. Я вас принимаю в театр. Вы будете получать 150 рублей. Когда вы найдете себя внутренне подготовленным к роли, которую выберете, вы мне скажете, мы вам дадим репетицию – оркестровую, сценическую, и вы будете петь. Но я бы хотел, чтобы вы как можно чаще бывали в театре, на всех оперных спектаклях». Я пролепетал какую-то благодарность.
Потом я стал ходить в театр. Там был, был, был, был и, не знаю отчего, выбрал Синодала. Видимо потому, что Синодал – это невысокая партия, недлинная партия, а я этого боялся.
Стали мне давать уроки сначала, потом дирижеру я все сдал, назначили оркестровую. Все нормально, спокойно, все артисты вокруг меня в костюмах, по сто раз пели этого «Демона». Сцена пустая, вот ужас, абсолютно пустая сцена и деревянные выгородки. Тут вот какая-то скала. Отсюда он выходит, тут он стоит, тут он ложится, тут он что-то поет и туда он уходит. Загримировали меня. Дали вот такую вот папаху, саблю, какой-то палаш настоящий, таких в театре ни-
когда и не было, откуда-то с фронта что ли принесли. Черкесску одели, бурку какую-то. Кошмар какой-то!
Но я до сих пор не знаю, отчего... Может быть, от страха. А может быть, я был нездоров, а я не знал еще, что это значит.
– Провалились?
– Нет, да нет, я не провалился. Я вышел, спел... Но спел так себе... Не сказать, чтобы плохо... Но после того, как я пел при приеме в Мариинку, это было просто на среднем уровне.
Потом, когда я со сцены ушел, мне сказали, что я к суфлеру обратился весьма раздраженно: «Вы что, все время будете со мной разговаривать?» Он мне сказал: «Я не разговариваю, это слова вашей партии». И тогда я ответил не без гордости: «Спасибо. Я партию знаю наизусть». Вот так!
Надо сказать, что именно в это время, в июне или в июле, балет Мариинки выезжал на гастроли. И на этих гастролях Рудик Нуреев остался работать за границей. А в те времена было принято за такое снимать головы. Директора Коркина сняли с работы. Меня принимал именно он, и после его ухода у меня начались нелады с администрацией. Она не скрывала своего отношения ко мне, что, может быть, сочеталось с честолюбием других артистов. Я был каким-то лишним в театре.
Вышло так, что с новым начальником я поругался. В театре был заведующий режиссерским управлением, который позволил какое-то резкое, грубое высказывание в мой адрес, а я находился среди артистов и, естественно, ответил ему прямо, очень непосредственно. Когда сместили Коркина, этот зав. режиссерским управлением на время стал заведовать оперной труппой и вообще театром. И вот после своего несчастного «Демона» я как-то прихожу в театр, подхожу к доске, где висят расписания, приказы... Ну и там висит все, что полагается.
Убрали меня из театра, и начался пятый курс, оказавшийся для меня наиболее значительным в начале карьеры. Тогда-то я и спел свои первые настоящие роли в Оперной студии при Консерватории.
Какой это был зал! У меня просто нет слов. Прежде это была итальянская опера, которую сами итальянцы и построили: с зеркалом во всю стену зрительного зала, с ложами, облицованными специальным деревом для лучшей акустики. А для потолка было привезено из Венеции особенное стекло. Был там не глухой потолок, а звонкий хрустальный купол. Итальянская опера, одним словом.
Мне было 22 или 23 года, когда я спел три партии, одну за другой, в очень короткий период времени: Ленского, Альфреда и Хозе. Я имел тогда первый театральный успех и понял, что могу быть настоящим оперным певцом. Конечно, успех растет не на пустом месте. Вы знаете, сколько консерваторий было в Союзе? Знаете, сколько театров? Знаете, сколько человек каждый год кончало консерватории и музыкальные училища? Тьма! А становились заметными солистами единицы. Я убежден, что все зависит от воспитания, от того, как человек себя ведет, как он поворачивает голову, словом, от определенных врожденных способностей и адской работы.
Удача – это труд и везение. Я просто трудяга. Я решил, как будет, – и вперед, шашки наголо, в плен не брать, назад не отступать. Наверное, мое достоинство в умении концентрировать все силы на чем-то одном. А кроме того, не забывайте, что я пришел в оперный мир уже очень музыкально подготовленным. Я с шести лет трублю в музыке. К моменту поступления в Консерваторию у меня уже была развита не только очень хорошая музыкальная память, но и музыкальный вкус. То, на что у других уходило очень много времени, занимало у меня гораздо меньше благодаря той счастливой случайности, что я в музыке с шести лет. Поэтому-то я и говорю, что моя жизнь – это сплошное везение.
– А вы помните ваш первый спектакль, самый первый?
– Да. Это был «Евгений Онегин». В Питере проходил какой-то городской фестиваль, в котором участвовали творческие вузы, в частности Консерватория делала молодежный спектакль. Я попал в хор в оперу «Евгений Онегин». В ту пору я еще был студентом, кажется, второго подготовительного, нет-нет, уже первого курса Консерватории. Когда на мне был грим, когда я костюм надел в первый раз, я трепетал, вибрировал. Станцевал какой-то вальс, то ли мазурку с какой-то девочкой на балу у Лариных.
Потом поднялся занавес, хор поклонился. Это был мой первый поклон на сцене. Счастлив был, конечно, безумно: костюм, грим, сцена, рампа. Тот первый выход на сцену в хоре для меня так и остался – самым-самым. И ощущение, что вот оно, начинается! Наконец-то, наконец-то, я выйду на сцену в гриме и костюме! Это чувство осталось со мной и по сей день. Тогда мне было 20 лет. Так я попал на сцену. Очень просто. У меня все и всегда в жизни происходило очень просто.
– А какой спектакль был первым, когда вы уже стали солистом?
– Тоже «Евгений Онегин». Я был Ленским. Я вообще не верил, что спою. Все было, как в тумане. Костюм и грим у меня был тогда самый традиционный, постановку эту я видел много раз. Но когда мне пришлось петь самому, я все увидел как будто впервые и только одна мысль стучала в голове: «Мать честная, допеть бы мне до конца спектакля!» Я думал, что мне голоса не хватит.
Вообще, чтобы понять, как партия устраивается в моем певческом организме, я ее выучивал и пел подряд, сцену за сценой, залпом все свои куски: арии, речитативы, дуэты без партнеров, сжимая четыре акта в 20-30, 40-50-60 минут. И это мне давало представление о моих вокально-физических возможностях. Если у меня не выходило сразу, но я чувствовал, что в перспективе роль может получиться, я над ней работал, спрессовывая партию в один кусок времени. Я всю жизнь потом готовил свои роли именно так.
Когда я учил Ленского по своей спрессованной технологии, мне иногда удавалось допеть до конца, а иногда у меня голос садился. Я был и боязлив, и смел одновременно: боязлив потому, что не знал, хватит ли мне голоса, и смел потому, что все-таки решился.
Я помню, что мамы в тот вечер в зале не было. Я ее практически никогда не пускал на свои спектакли. Иначе мне пришлось бы волноваться и за себя, и за нее. Ярче всего мне запомнились именно мои ощущения.
На сцену выйти всегда страшно. А тут у меня просто ватные ноги были. Но тем не менее трусцой я выкатился. Картина была не самая яркая по свету: не бал у Лариных, не греминский бал, а сад. И все-таки я был моментально ослеплен огнями рампы и не видел ничего, ни дирижера, ни партнеров. Дирижер, очевидно, был тоже из студентов. И оркестр там, кажется, тоже был. Но я этого не помню.
– А Ольга?
– Ольга была. Была, была, это я заметил. Сначала Ольга вышла, потом образовалась Татьяна, сгустилась из темноты. Я даже слышал шаги Онегина, который вошел за мной. Я на все смотрел как-то со стороны. Это, мол, не со мной происходит. Это «он». Вот пусть «он» там и срывается, петухи дает.
– И давал «он» петухи?
– Нет. Это все у «него» прошло. Вообще, конечно, петухи я давал. Нормально. Тенор без петухов – это не тенор. У нас в Консерватории бытовала очень мудрая фраза: «Там, где петух, там правильная нота». Я все-таки спел тогда свой первый спектакль верно от первой до последней ноты. Но потом дня на два, на три у меня голос совсем сел. Я не мог говорить, не знаю отчего. То ли от волнения, то ли от перенапряжения.
– Вторым спектаклем была «Травиата»?







