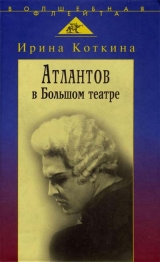
Текст книги "Атлантов в Большом театре"
Автор книги: Ирина Коткина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– Хорошо, возьмем Наталию Шпиллер. Помните, что она писала: «Не может не заботить нас... судьба Владимира Атлантова. Особенно насторожили первые концерты артиста. Купаясь в волнах своего роскошного тембра, певец рассыпал свое звуковое богатство щедро и бездумно. Повышенная звучность высоких нот, чрезмерная широта звучания среднего регистра, недостаточная заинтересованность в исполнении лирики, в поиске тонкой нюансировки, в изучении замысла композитора и.т.д. Все шло от любования голосом...»*.
* Н. Шпиллер. «Ответственность таланта». «Советская культура», 11 мая 1968.
– Кажется, Шпиллер написала статью про концерт, который я по болезни отменил. Наверное, все, о чем она пишет, имеет место быть. Каждый из нас несет бремя своих достоинств и своих недостатков. Однажды в басне кто-то нарисовал картину, а потом пригласил своих коллег.
– Это был слон-живописец.
– Да, так вот. Артисту нужно обладать скромностью по поводу своего величия, но он не должен, не имеет права терять свой стержень, свой принцип, свою убежденность в том, что он делает и как делает. Надо все впитывать. Надо уметь певцу прислушиваться и выбирать из советов и пожеланий людей те, которые ты ценишь и в которых ты нуждаешься. Надо знать, кого слушать. И потом самое страшное – потерять свое лицо. Так можно раствориться в общей массе артистов.
– Ну, вам-то с вашим голосом это не грозило!
– Я вам могу сказать о таких голосах, что не мне чета! Но Каллас была Каллас, и она была одна. Вы знаете, сколько она пела? Всего 10 лет. Но зато никогда ни под кого не подстраивалась. Мне было всю жизнь стыдно не сделать по-своему. Я слышал на пластинках певцов, которые были на 100 голов выше меня. Но я всегда делал по-своему. Если иначе, значит, я бездарен. Я знаю певцов, которые один в один слизывали музыкальную фразеологию с пластинок.
– Владимир Андреевич, в 1976 году поставили в Большом «Каменного гостя». Вы за этот спектакль получили Государственную премию РСФСР им. Глинки.
– Я и не думал никогда, что «Каменного гостя» можно поставить в Большом. Но опера появилась. Правда, не для меня и не для Тамары Милашкиной, а для разгрузки театра. Я даже не знаю, шел ли этот «Каменный гость» когда-нибудь. Нет-нет, кажется, он когда-то шел в Большом. Но когда я служил в Мариинке, этого спектакля не было ни там, ни в МАЛЕГОТе. После десятилетий, когда опера не шла, ее наконец поставили.
– В Мариинке ее ставил Мейерхольд, а Иван Алчевский пел, у него был вполне лирический голос. Раньше партию Дон Жуана доверяли лирическому тенору.
– Неважно, лирический тенор ее поет или драматический. Важно, чтобы исполнение было убедительным. Мне кажется, что есть определенного масштаба роли, на которые должны быть привлечены определенного масштаба голоса.
Конечно, никто Тристана не станет петь лирическим голосом. Или того же Отелло, или Германа. В жизни, конечно, все может быть. Сейчас все поют все, а это опасно для певцов. Но мне кажется, что главное – это драматическое ощущение внутри певца, конечный результат работы. Необязательно обладать каким-то громобойным голосом, но достаточно убедительным по объему, силе. На это, конечно, надо обращать внимание. Но если человек умеет строить свой вокальный образ драматично с тем материалом, который дал ему Бог, ну что же, тогда вперед!
– Владимир Андреевич, а как петь речитативы? В чем отличие итальянского речитатива от русского?
– Я не пел речитативных опер.
– А как же «Каменный гость»?
– Для меня это была не речитативная опера. Речитативные для меня россиниевские и моцартовские вещи. Именно при работе над образом Дон Жуана я использовал тот чувственный звук, о котором мы говорили.
– А какие особенности русской речитативной оперы?
– Я не знаю, каковы особенности итальянской. Я ее не пел.
– В чем специфика пения такой оперы, как «Каменный гость»?
– Для меня ее не было. Я Дон Жуана пел, как Германа.
– Но это совершенно разные оперы!
– Но голос-то мой, опора звука одна и та же, технология одна и та же. Просто ситуация другая. Там я выступал в роли соблазнителя, а в Германе в роли страдающего человека. Правда, мне всегда казалось, что Дон Жуан очень искренне любит Донну Анну.
– А Лауру?
– Нет, Лаура – это приятное воспоминание. Это очень приятное воспоминание, к которому он может вернуться с удовольствием для себя.
– А Инезу?
– А Инеза – это было просто что-то необычное в его биографии, женщина, которая чем-то отличалась от других. Поэтому он, закатывая глаза, говорит об Инезе. Может, она была аморфная, холодная, как лед. Но это известно только ему. Он почему-то придает особенное, невысказанное и необъяснимое значение именно этой Инезе. Вот всплыла в памяти!
– Что в Дон Жуане хорошего?
– Для меня искренность. Я хотел показать, что он любит по-настоящему, увлечен, влюбился в Донну Анну. Может быть, это было на один день или на два, не умри он. Для меня как для Дон Жуана, костюм которого я надевал и чью бородку и усики я приклеивал, этот герой не врет. Он говорит очень искренне и горячо. И результат налицо.
– А чем интересна для вас была эта опера?
– Гением Пушкина, гением Даргомыжского и стремительностью действия. Все собрано в два дня: приезд Дон Жуана, встреча с Донной Анной, приглашение Командора, ночевка у Лауры и на следующий день, вечерком-с, обусловленный визит к Донне Анне. Может быть, это произошло даже за 24 часа.
– А какие у вас впечатления от партнерш?
– Тамара Милашкина была моей первой и единственной Донной Анной в жизни. Замечательной! Она прекрасно спела эту партию, а по тембру голоса я не встречал равных Тамаре никогда ни до, ни после. А Синявская была моей Лаурой, и это было очень точное попадание.
– Владимир Андреевич, каковы приемы вашего подхода к вводу, когда вы попадаете в старый спектакль, как в «Пиковую даму» или «Садко», и к совершенно новой работе, какой был, например, тот же «Каменный гость»? Как вы взаимодействуете с режиссером, который вас вводит, с партнерами, которые давно спектакль поют? И отличается ли это от того, как вы работаете с коллегами над новой постановкой?
– Дело в том, что я, как и дирижер, которому передается не им поставленный спектакль, прихожу со своей концепцией, со своим видением. У меня никогда не было такого, чтобы я открывал совершенно новую для себя роль. Я всегда знал, приступая к работе, что я хотел бы сделать на премьере. Я никогда не был чистым листом. Это относится и к «Отелло», и к «Тоске», и к «Иоланте», и к «Каменному гостю», то есть к тем спектаклям, которые были для меня премьерными. Если мне предлагали более интересные вещи, я их с удовольствием брал для себя. Также и в старых спектаклях.
Когда готовишь новую партию, надо прочесть литературный источник, если он есть. Это необходимо так же, как вымыться утром и почистить зубы. Еще посмотреть, как это трансформировал композитор. А потом понять, как это соединено. Это те вопросы, которые профессиональный человек не должен себе задавать, это естественно. Определенный общеобразовательный уровень культуры человека обязывает его знать очень многое. Таково нормальное отношение. Но вокалисты не всегда нормальные, они довольно редко читают. Например, никто не знает, что Яго у Шекспира давал понять своим клевретам, что Отелло был в интимной связи с его женой.
– Да, он говорил: «Отелло испачкал мне простыни».
– Но вы спросите об этом у людей в зале, спросите! Никто из пришедших в оперу этого не будет знать.
– А изменилось ли ваше отношение к какому-нибудь персонажу после того, как вы прочли источник?
– Как-то не надо мне было к ним обращаться перед самой премьерой, я их читал раньше, вот читал. Если что-то надо было освежить в памяти, я к этому обращался. А еще я хочу сказать в отношении новых партий, что масштаб голоса должен соответствовать той роли, которую ты исполняешь. Например, многие хотели, чтобы я пел Вагнера. Находили объем моего голоса соответствующим его операм.
– Но вы ведь так и не спели ни одной оперы Вагнера?
– Нет, нет. Меня волнует земное. Пока еще – земное. Человеческие, нормальные чувства. А там все чересчур божественно. Поэтому я остался верен своим привязанностям. Так Вагнера я и не спел.
– Вы брались за Пушкина, вы воплощали на сцене шекспировский образ. Вы как-нибудь готовили себя к ним как артист? Или вы считаете, что быть артистом в опере не обязательно, достаточно быть певцом?
– Нужно быть и тем, и другим. Вы знаете, опера – это настолько условно. Условней, чем балет, может быть. Вот эта условность должна быть сразу принята, она не требует никаких объяснений. Есть вещи, с которыми ты сразу соглашаешься без комментариев, а иначе не надо идти в оперу. Опера насквозь условна от самого первого до самого последнего момента. Но ты согласился с этим в начале своей жизни раз и навсегда и посвятил себя этому. Нужно находить способы убеждения, моменты реалий и смысла в часто немыслимых вещах, чтобы зрительный зал, пришедший тебя слушать, поверил. Масса бессмыслицы в опере есть, конечно.
– Я хотела бы спросить, перевоплощались ли вы на сцене? И как вы вообще относитесь к идее перевоплощения?
– Перевоплощался, насколько я мог, не знаю, насколько мне это удавалось. Но стремился я, Атлантов, ощутить и передать состояние моего героя, представить и изобразить, как бы я действовал в подобных ситуациях. А это значит, найти в себе разнообразные краски.
– Хозе, Отелло, Самозванец. Это совершенно разные мужские типы. Как вы подходили к этим образам?
– Я думаю так: когда мы говорим о чувствах, то знаем, что все люди по-разному любят, но чувство-то у них одно – любовь. Главное, что делает эти образы разными, это время, в которое они жили. Нужно, очевидно, просто посмотреть на эпоху. Атак Хозе ведь находился в том же состоянии, что и Отелло, что и Герман, то есть страдал и любил.
– Чувство любви на сцене. Вы драматический тенор, все время находитесь на сцене в этом состоянии. Удавалось ли вам ощущать себя с партнершей наедине на сцене? Всегда ли вы помнили про публику?
– Нет, я никогда не забывался на сцене, никогда не забывался. Я всегда ощущал эту черную дыру, в которую смотришь и ничего не видишь. Она всегда присутствовала, и этот страх перед ней я не сумел преодолеть.
– Страх?
– Это не страх, это какое-то бешеное волнение перед выходом на сцену. К ужасу сцены нельзя привыкнуть. Всегда испытываешь очень сильное смятение всех чувств: не знаешь, что будет, как будет, что получится, что не получится, что может с голосом произойти. В конце карьеры я выходил, уже зная, как обходить места, которые представляют трудность для исполнителя, если в моем организме было не все в порядке, если я был не очень здоров. В этом смысле я был немного спокойнее, но вокруг меня все равно до самого конца дрожал воздух.
– А были ли у вас на сцене такие минуты, когда вы верили, что вы – Герман, что вы – Отелло?
– Нет, никогда, никогда. В силу своего голоса, масштаба его, я должен был следить за ним четко и внимательно, чтобы не растратить его слишком щедро до конца спектакля. Голос тяжелый, большой, в нем достаточно баритональное звучание. До последнего дня моей артистической деятельности я себя ограничивал. Всегда, кроме тех редких моментов, когда Бог посылает возможность полной вокальной свободы.
Кстати. Часто так бывает, чувствуешь себя замечательно, ни насморка, ни фарингита, ни трахеита, ни бронхита. А спектакль не идет. А другой раз выходишь на сцену и думаешь: сейчас будет Голгофа. Подсвязочный трахеит, и тебе хрипы в бронхах, насморк начинается или кончается. И вдруг спектакль получается на редкость удачным. Это от Бога. Конечно, труд. Но труд – это фундамент. Правда, вокальный материал может быть не всегда очень интересным. А здание может получиться или Парфеноном, или развалиной. Удача – это то, что не купишь никакими деньгами, никакой работой. Было у меня около 30 спектаклей, замечательно спетых от первой до последней ноты. И даже я тут говорю: все! Не потому, что нельзя лучше, а потому, что здорово.
На сцене я делал всегда то, что должен был делать, просто не всегда у меня получалось. Результаты-то бывали разные. Но я старался изо всех сил. И я никогда не забывал, что я на сцене. А там, в зале, люди, как в операционной вокруг стола, смотрят, что с тобой делается. Я знал всегда, что публика может причинить и принести обиду или зло. Не приняв, не оценив или просто выражая свои эмоции неудовлетворения по поводу того или иного исполнения. Это я знал. Публика агрессивна. Артист нет, он эмоционален. А публика по своей природе агрессивна, она несет в себе опасность для артиста. Публика по ту сторону, а мы по эту. Публика чревата, я бы сказал так. И нужно победить ее, заставить ее принять тебя, вот принять тебя! Наверное, удавалось. И, наверное, не удавалось. Все было.
Поклонники? Да, когда я выходил, я видел, что у театрального подъезда, у Большого театра, стояло очень много народу. В любой мороз. Боже мой, в эти московские морозы! Люди стояли. Конечно, это и умиляло, и волновало, естественно. Я был безумно признателен этим людям, я ценил их, так сказать, стойкость, проявленную по отношению ко мне. И всегда казалось мне, что я этого не стою.
– А когда вы сменили эту публику?
– Как сменил?
– Нашу на западную.
– Я с западной публикой знаком с 69 года. Публика везде публика. Когда ты поешь так, как следует петь, везде творится то же самое: те же крики, и топот, и ор. Нормально! Если что-то есть и не пропало, значит, оно и там одинаково, и здесь одинаково. Ну что тут делать? Это только у нас, в России, могут говорить, что черное – белое и наоборот. Здесь нет. Правда, и здесь случается «раскрутка» в прессе и так далее. Но тут вообще немножко другой подход к рекламе, чем был у нас раньше. Здесь люди оплачивают свое «паблисити», фотографии в газетах. Этим занимается команда людей вокруг артиста, который платит им, и так далее.
– Вы этим не занимались, когда вы здесь оказались?
– Нет, что вы, с ума сошли, что ли? Даже когда ко мне приходила клака, в «Ла Скала» до сих пор она ходит, конечно, я ничего не платил. Нет, я через это не мог переступить. Единственное, что я не покупал себе, так это успех. Никогда! А здесь это часть жизни. Та часть жизни, с которой я никогда не соглашался, не соглашусь, не пойму и никогда не приму, никогда не оправдаю. Кстати, по поводу криков «браво» в Большом театре. Я знаю, как артисты покупали их. В театре общеизвестно, кто этим занимался. Этого не спрячешь, потому что люди знают, кто как поет. А здесь «паблисити» – часть профессии и совсем не считается аморальным, но ведь это же все равно что клаку нанимать. У нас в России были другие идеалы. И для меня они идеалами и остались. Я не представляю, до какой степени нужно низко пасть, чтобы покупать себе аплодисменты!
– Как вы ощущаете удачу?
– Редчайшие посещения этого. Об этом мне говорит мой внутренний голос, а отчего приходит ощущение удачи, я не знаю. Может быть, когда мне и вокально, и сценически удается полностью осуществить свое представление о роли. У меня это было, когда я пел «Кармен», «Пиковую», «Отелло», Ричарда, Самозванца, «Паяцы», «Тоску», Альфреда.
– Вы перечисляете почти все партии.
– Что значит все партии? Вы спросили бы, сколько раз это было за 35 лет. Всего раз 20 – 30. Это в лучшем случае! Еще точнее, скажем, раз 30, когда бы я не мог к себе придраться.
– А скажите, какова роль вдохновения... Приходит ли оно на сцене?
– Вы знаете, приходит. Я не знаю, что приходит. Вдохновение ли, кураж, или ты в ударе. Бывает такое ощущение, когда голос тебе полностью подвластен, когда любые свои фантазии, даже самые смелые, ты можешь претворить в жизнь: не только вокальное, но и драматическое воображение. Когда ты себя чувствуешь в прекрасной вокальной форме, ты и в драматическом смысле раскрываешься на сцене. Неожиданные интонации находишь и т.д. Ты свободен!
Что такое свобода в пении? Это значит, что твои возможности позволяют осуществить вот сейчас, прямо на сцене, все твои мечты, связанные с этой партией. И все это оказывается сделано со вкусом. Если есть какие-то результаты, если я чего-то добился, то это работа, ничто никогда на меня не падало с неба. Раз, и все в порядке! И никогда ничто у меня не получалось сразу. Никогда! Несмотря на то, что партии у меня в уме уже были готовы чисто музыкально. Все равно что-то улучшалось именно в процессе работы. Если говорить уж совсем прямо, то от количества спетых спектаклей. А то, что мы выходим в не очень хорошем состоянии... Что тут делать? Страшно, сложно!
Сцена привязывает к себе, привязывает. Как бы мне хорошо или плохо ни удавалось спеть, я счастлив, что она подарила мне возможность осуществиться таким образом, а не иначе. Это подарок судьбы, колоссальный подарок. Может быть, мною совершенно не заслуженный. Вот с этим ощущением я и тогда жил, даже когда пел. И сейчас живу.
– Часто ли вы в памяти возвращаетесь к тем удачным спектаклям, которые вы пели?
– Зачем мне к ним возвращаться? Я рад, что они у меня были. Редко вообще бывает совпадение того, что ты хочешь, с тем, что ты можешь. Уровень, конечно, у меня был определенный. Нельзя падать ниже какого-то уровня, раз ты идешь по лестнице, а не по равнине. Был момент, и это я помню, когда я прикидывал в уме и в уме решал для себя, какими голосовыми красками я буду пользоваться. Это было тогда, когда я для себя самого просматривал партию Отелло и мечтал о ней. Но я думал, что все нормально выучил, а на самом деле только сцена может выявить те моменты, которые нужно дорабатывать, и те, над которыми надо просто работать.
Довольно большим событием для меня стала опера «Отелло» в концертном исполнении. Мне было 30 лет, когда это случилось. Одни мне говорили, что голос у меня уже таков, что можно. Другие, что Отелло – это конец жизни: «Сорвешь голос к ядрене фене. Могила, гроб, какие песни!»
Пели мы в БЗК. Галина Вишневская Дездемону, а Олег Кленов, солист театра Станиславского, Яго. Мы пели по-русски. Тогда и разговора нельзя было заводить об итальянском. Дирижировал Евгений Светланов. Светланов – необычайной мощи музыкант. Редко выпадает удача иметь в стране такого дирижера, как Светланов. Мравинский, Светланов, теперь – Темирканов, Гергиев. В общем-то, такого калибра дирижеров я больше назвать не могу. На нашей равнине это Монбланы. Счастье было для меня работать со Светлановым.
Как работа проходила? Ну, я открывал рот, издавал какие-то звуки, а он мне говорил: «Потише». В принципе, у меня никогда не было с дирижерами так называемой «работы», только с Симеоновым. А после я обычно приходил и предлагал то, что я мог и что мне хотелось. Если наши желания не совпадали, то я дирижера, конечно, выслушивал. 1адо всем я работал самостоятельно. В контексте всего спектакля приходилось, конечно, входить во что-то общее, но так, чтобы не потерять индивидуальное.
Отелло можно петь, если голос без труда преодолевает удивительную эмоциональность, страшную эмоциональность этой партии... Это не предельной вокальной сложности партия, но она забирает столько эмоциональности. Столько ты на нее должен тратить крови, души своей, что она превращается в удивительной сложности партию. И сколько я знаю людей, которые себе свернули на ней шею! А я столько раз спел Отелло и ничего вроде бы себе не сорвал. Правда, мое первое исполнение Отелло было в концерте, а это легче, потому что там нет сценического движения. Ведь это громадная физическая нагрузка, двигаться во время пения. Сцена – это на самом деле громадное расстояние, которое приходится преодолевать. Четыре акта ты двигаешься, не по воздуху летаешь, нет. Ты бегаешь! А в концерте выходишь себе во фраке, становишься на одном месте и докладываешь что-то. Но зато есть свои, и очень большие, трудности концертного исполнения. Певцу просто не за что спрятаться: ни за грим, ни за костюм, ни за свет. Но потом мне пришлось вышибать, вышибать из Большого театра постановку этой оперы. Не хотели ставить «Отелло», и все тут. У Покровского, в его планах этой оперы не было. На осуществления этой мечты было потеряно восемь лет.
– А каким образом вы этого добивались?
– Постоянно говоря об этом, постоянно поднимая этот вопрос в течение восьми лет. И, наконец, только в 1978 году спектакль поставили. Но, слава Богу, вовремя.
Моя певческая жизнь – это сумасшедшая лестница. Когда начинаешь взбираться по такой лестнице, оказывается, что она имеет не только ступеньки, площадки между ними, этажи. Нет! Это лестница, которая меняет крутизну своего направления. Ее ступеньки довольно часто ведут вниз или в сторону. Иногда так круто! Я так и не привык к этому до конца. Но, раз ступивши, надо иметь мужество, во-первых, идти, а во-вторых, держаться на ней. Если ты забираешься все выше и выше, ощущение потери равновесия и быстрого, катастрофического скатывания вниз присутствует все больше и больше. Чем удачливее складывалась моя карьера, тем больше меня охватывало волнение, граничащее с легкой паникой, с ощущением, что вот-вот что-то случится. И не знаешь, что. То ли тебя приподнимет, то ли скинет. Но катастроф на сцене не было.
В самой середине карьеры меня поджидала другая катастрофа – потеря голоса. Я шел по лестнице и вдруг увидел, что впереди – стена. Единственное, на что у меня хватило мужества, не повернуть и не спускаться по тем же ступеням. Я просто застыл перед этой стеной с очень трудной задачей ее преодолеть, не зная, что мне делать. Я потерял возможность петь, когда ушла мама. Я, конечно, никогда в жизни не привыкну и не смирюсь с тем, что мамы нет. Это невозможно! Это самая страшная потеря в моей жизни из тех, что были. Мама заболела раком языка. Я был с ней все время, всю ее болезнь. Я возил маму в больницу, сначала на лечение, после на радиационную пушку, а потом на химиотерапию. Иногда мама так плохо чувствовала себя после химиотерапии, что ей приходилось ночь провести в больнице. Но мы были все время вместе. Я жил с мамой, наблюдал, что с ней происходит в течение двух лет. Это страшная болезнь! В январе 78 года я спел Отелло, а в феврале мамы не стало.







