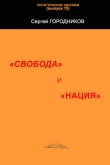Текст книги "Наследники минного поля"
Автор книги: Ирина Ратушинская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
ГЛАВА 10
Город казался тихим и мёртвым. Будто осатанелые зимние ветры вымели с обледенелых улиц все население. Легковесных местных жителей – во всяком случае. Более упитанные немецкие патрули оставались. Они теперь всех проверяли, даже румын и даже своих. На Пересыпи и на Молдаванке они, впрочем, старались не появляться. До сих пор гадательно, было ли в Одессе серьёзное коммунистическое подполье, а вот блатной мир в городе был очень серьёзным. Неосторожных немцев попросту убивали, при этом редко когда полиция могла найти труп, чтобы знать, какие дома казнить.
Казнили теперь как попало. В пригородных селах могли попросту перестрелять всех, кто пришел на воскресную службу. В самом городе – нахватать заложников на базарах. И тоже перестрелять. Городскую тюрьму уже всю расстреляли, независимо от сроков заключения.
А сверху Одессу бомбили уже наши. Опять было затемнение, и горели дома, и кто-то выл и метался в пламени, так и не дождавшись освобождения. Все, кто выправил документы на выезд в Румынию, уже уехали. Ещё месяц назад метались по улицам от одного учреждения к другому очень озабоченные "лучшие парижские портные", владельцы казино, дамочки в сбившихся от хлопот чалмах. Теперь было пусто.
Румынские военные части тоже сворачивались, одна за другой.
Капитан Тириеску этим вечером попросил Анну зайти в его комнату. Иона не было, окно было завешено шторой, как положено. Витой рояльный пюпитр был откинут, и по бокам горели свечи: две настоящие и две – отражением в темной полировке. Ещё горела керосиновая лампа, тоже отражаясь в рояле. Тириеску явно не знал, как начать, крутил в пальцах пустую папиросную пачку. А потом глубоко вздохнул и посмотрел на Анну очень прямо. Весь он был сейчас перед ней: со своими седыми висками, черными глазами, сухим раздвоенным подбородком, в безупречно опрятном зеленом мундире с узенькими погонами. И Анна уж знала заранее, о чем он будет говорить.
– Мадам, я возвращаюсь в Румынию. Раньше я не смел об этом… Может быть, я был малодушен. Я так дорожил отношениями с вами – теми, что есть. И опасался утратить их, только поэтому. Но теперь мой последний случай, и я посмею. Вы меня лучше теперь знаете, вы не смотрите на меня, как на врага… Уезжайте со мной. Берите детей, и уедем все вместе. Я вдовец, и нет никаких препятствий. Мы завтра же можем обвенчаться. Нет, я не так… не то… Я люблю вас, Анна, вы же знаете, что я вас люблю!
Он смотрел на Анну с мукой и надеждой, и она, не выдержав, отвела глаза. Она знала давно: какая женщина может этого не чувствовать? Взять его седеющую голову, прижать к себе, расправлять морщинки на впалых щеках… Целовать этого грустного человека, неудачника с королевским именем, пожилого капитана отступающей армии, не выслужившем себе ни новых погон, ни крестов. Ничего, кроме горькой, неудачной последней любви.
Так она и сделала, вопреки тому, что собиралась, вопреки заранее продуманным словам. Так не должно быть, но случилось, и что уж поделаешь. Свечи догорят, и он уедет, а она останется, и зачем же скрывать, что обоим будет больно. Раз так уж случилось… Хоть назвать его по имени на прощание, это же их прощание.
– Михай, вы знаете, что я тоже… нет, я скажу. Я вас полюбила, не знаю, как это случилось… но это нельзя. Нельзя, мой хороший, мой добрый… вы же всё понимаете. Судьба, такая судьба…
Она уже бормотала по-русски, но он понимал, и послушно кивал, как ребёнок. И плакал, они вместе плакали, потому что в пятьдесят лет слезы ближе, чем в двадцать, и их меньше стесняешься, если это слезы от любви.
Ещё он не сдался совсем, он пробовал ей объяснить, что боится за неё и за мальчиков: именно за то, что с ними будет, когда придут русские. У неё ведь нет иллюзий, она должна понимать, что такое "свои". Свои – это её соседи, не только домоуправ Бубырь, до него ещё двое прибегали потихоньку доложить, что она прячет евреев. Он назвал имена: от одной соседки Анна как-то ещё могла этого ожидать, а от другой уж – никогда бы не подумала. Он и тогда за неё волновался, но как он мог предупредить, он же их совсем не знал тогда. Все тут доносят на всех – вот было первое его впечатление. Он успокоился только, когда они подняли ночью возню в подвале… да, было очень слышно, но Ион – славный человек, преданный. И какое было облегчение знать, что этих людей увели, и неприятностей больше не будет. А ей теперь с этими же соседями дышать одним воздухом? Да они же и коммунистам на неё донесут, найдут, о чем. И что будет с детьми?
Это все было правдой, но и с этой правдой ничего нельзя было поделать. Всё равно мир поделен на своих и чужих, и так уж тому и быть. И судьба им врозь. Свои – были не только соседи, и не только те, кто арестовал Павла, но и сам Павел, и Олег, неизвестно, живые или нет. И даже мёртвых их нельзя было бы предать.
Они посидели ещё тихонько, держась за руки. Анна поможет ему собраться завтра утром. Она будет за него молиться, чтобы всё, всё у них с дочкой было хорошо. Чувствуя, что опять подступают слезы, она поцеловала его в голову и выскользнула к себе в "холодную".
Алёша ровно дышал на своем диванчике, Андрейка – в кровати Анны, куда перелезал с раскладушки при первой возможности. Он никак не мог привыкнуть спать один.
Света побаивалась теперь смотреть в шар. Иногда он показывал страшные вещи. Но она всё больше тосковала по матери, сама не зная, почему. Ей нужна была мать, и вспоминалось только хорошее из их отношений, и даже ссоры казались хорошими и смешными. Как она, бедная, старалась не избаловать Свету!
Как папа ей купил в универмаге на Пушкинской роскошную, очень дорогую куклу, и она уже перед самой дверью стала торопливо доставать её из коробки, чтобы скорей показать маме – и уронила, и разбилось все куклино лицо! И папа, видя Светино отчаянье, тихонечко увел её от двери, чтоб мама не знала. И повёз покупать точно такую же куклу. Два заговорщика, они прекрасно понимали, что мама бы этого не позволила, и маме ничего не сказали. А кукла все равно разбилась во время игры в Чапаева, когда она должна было изображать Анку-пулеметчицу и свалилась с тачанки.
А когда они были уже бедные, как она старалась учить Свету и шитью, и хозяйству. Как заставляла ноги мыть, и проверяла, и ругалась, если всё равно грязные!
Мамочка, я теперь выросла, я понимаю. Ругайся хоть каждый день, только будь рядом! Куда они тебя увезли? Что они с тобой сделали?
В конце концов, боясь узнать, но и не выдерживая больше неизвестности, она стала смотреть в шар. Вот о чём говорила баба Груша, наставляя: "не бойся, спрашивай". Потому что шар мог и ответить.
Картинка была странная: женщина в белом халатике видна была со спины. Она мыла какую-то белую дверь или шкаф. Света не сразу поняла, кто это, потому что мама никакого отношения к белым халатам никогда не имела. Но, когда та локтем отвела волосы со лба – Света узнала. Ещё до того, как мама повернулась. Худенькая, какая она теперь худенькая… Это – тюрьма? Рядом со шкафом была вешалка, и на ней висела чёрная телогрейка с номером на спине, но что это значило – Света не поняла.
А картинка замутилась и уплыла, и только через пару недель Свете удалось опять "поймать" маму. Она, всё в том же халатике, открывала дверь высокому парню в телогрейке. Парень был сероглазый и улыбался, и мама улыбалась тоже.
Больше ничего не удавалось увидеть, но Света была теперь уверена: мама жива. Наверное, она работает в какой-то больнице. И, конечно, не может писать в оккупированный город. Ну да, её же увезли ещё до оккупации, а потом, наверное, разобрались и выпустили, и она работает в больнице, а этот парень, наверное, наш раненный боец. А наши скоро придут, и мама вернётся, и как мы тогда хорошо заживем! Мама будет довольна, как она сберегла Андрейку.
Муся радовалась: девочка повеселела, стала даже снова напевать, тормошила малышей. Уж когда Свете было весело – всем становилось весело вокруг, это она умела. И ещё одна тревога миновала: у девочки, наконец, пошли месячные. А Муся уже давно втихомолку волновалась, потому что давно бы пора, а всё не было. Может, он недоедания? Или застудилась?
Конечно, девочке было больно, и тот февраль сорок четвертого был не лучшим для этих дел временем в смысле гигиенических условий. Но Муся знала, что житейские проблемы как-то утрясаются. И всё лучше их решать, чем волноваться, почему их нет. Она порвала что могла на тряпочки, и Света приспособилась стирать их снегом.
А в шаре Света с этих пор больше ничего не видела. Никогда. Что ж, баба Груша и говорила: "вырастешь, перестанешь видеть…" Вот, значит, она и выросла.
Марки дешевели ото дня ко дню, и огромная сумма, оставленная дядей Пашей, уже превратилась бы в пшик, если бы Света, поколебавшись, не вошла в заговор с Алёшей. Без него бы не удалось во-время накупить запасов. Объясниться с ним удалось на удивление легко. Света решила: начнет приставать с расспросами – так она его сразу пошлёт. Далеко, и не по почтовому адресу.
Но в катакомбах, она и раньше замечала, ссоры как-то не возгорались. Вроде они были заговорщики, и заранее заодно, как только начинал биться по неровным сводам привычный уже жёлтенький огонек. А где ещё было говорить о секретных вещах, чтоб никто не приставал?
– Слушай, Алёша, у меня куча марок, вот глянь.
– Уй ты!
– Ты только ни о чем не спрашивай. И чтоб никто не знал, понял?
– Ага.
– А мне наружу нельзя, я не знаю, насколько. А то меня найдут, и будет мне хана. Так что накупи всего побольше, пока за них ещё что-то дают. Тут спрячем, а потом понемножку будем доставать.
– Ага.
На том разговор кончился, и Алёша исполнил все наилучшим образом. А потом, когда марки уже были легковесней серпантина, у них марок не оставалось. Зато запасы были – любой барсук бы лопнул от зависти. Хотя, конечно, не на пять лет и не на десять. И даже не на год, но всё-таки…
А дурачить взрослых – знали бы эти взрослые, как легко! Просто Алёше начали выдавать зарплату в мастерской полезными вещами и продуктами. Натуральный обмен, нормальное дело. А на несчастную зарплату тёти Муси, пока не закрылось её кафе, Алеша делал гениальные закупки. На все ахи и восторги только пожимал плечами:
– Торговаться надо, вот и всё. Вас просто торговки дурят, тётя Муся, они всегда в десять раз запрашивают. А у меня на них характера хватает.
Тириеску оставил Анне свои часы: перебиться в трудное время. А для мальчиков – по армейскому биноклю, в одинаковых футлярах из упоительно пахнущей тугой кожи. Андрейка был на седьмом небе, когда Анна ему этот бинокль вручила. Протирал линзы тряпочкой, смотрел в обе стороны с восторженными стонами, даже спать с собой этот бинокль уложил.
Алёша молча взял и вышел во двор. Из палисадника донеслось металлическое цоканье. Когда Анна выглянула, Алёша уже докрушил молотком линзы и остервенело плющил неподдающиеся трубки. Кирпич, на котором он это проделывал, уже треснул пополам и весь был покрыт мелкими сколками защитной эмали.
Он почувствовал взгляд матери и поднял голову. Лицо его ничего не выражало. Он смотрел на Анну, как на неодушевленный предмет.
Муся, оставшись без работы, все время проводила с детьми. Высовываться из дому было опасно. Грохотало и днем, и ночью, а когда стихало, на улицах слышались выстрелы. Она сидела, накрыв руками их головы, все разом, когда бомбили. Угадает – так пускай хоть всех. Конечно, тут глубоко, лучше любого бомбоубежища. А всё-таки и отсюда слышно, как бухает глухо, и валятся иногда со свода мелкие кусочки камня, вроде лепёшек. Она помнила рассказы Якова: катакомбы непредсказуемы, и случаются обвалы. Они как-то там взорвали вагоны с боеприпасами, ещё в гражданскую. Весь город тогда тряхнуло, так несколько лучших ходов к морю от этого сотрясения завалило. Детям она, конечно, этого не рассказывала: зачем пугать? А сама боялась ещё больше, чем в любой из этих дней оккупации.
Так ужасно было бы не дожить такую чуточку до возвращения Сёмы и Якова. Она почему-то представляла, что они вернутся сразу же, и в один день. В конце концов, оба поехали в Москву. А Яков невоеннобязанный со своим коленом, а Сёма, хоть и был там записан в военное училище на после школы, но школу-то не кончил, ему же целого года не хватает, не могли же его послать на фронт. Она помнила его семнадцатилетним: невысокого росточка, с веснушками. Он уморительно брился папиной бритвой, для взрослости, потому что нечего было там еще скрести.
Когда вышел приказ всем сидеть по домам, двери закрыть, к окнам не подходить – конечно, под угрозой расстрела, иначе эти сволочи у своей мамы не привыкли – все уже понимали: вот-вот. Немцы уходят! Они уходят, а наши придут! День-два продержаться, и всё. Муся и матрасы в катакомбы стащила, и одеяла. Немцы вполне могли напоследок пройти по квартирам и всех перебить, или позажигать дома. А говорили ещё, что у них какие-то специальные азиатские части для этого: если оставляют город, то чтобы всё население вырезать напоследок. И, видя, что дети так и вьются от возбуждения, приказала радостно и звонко:
– Ну, подпольщики, давайте праздновать свободу! Света, зажигай ещё и свечку! В мою голову, гуляем! Петрик, Маня – быстренько на стол те коржики, сразу всё сьедим, чего беречь. А у меня знаете, что есть?
Она достала из кошелки тёмную, жидко блеснувшую бутылку.
– С прошлого года берегла. Всем дам глотнуть, по такому случаю можно! Миша, что ты там возишься в темноте, сколько можно ждать, иди сюда! Миша…
Миша уже был далеко, за второй развилкой. Светин парабеллум крепко тяжелил руку, унимая возбуждённую дрожь. Света думает, что она такая умная с её секретами. Сама на улицу без пушки не вылазила, думала, Миша слепой. И знала ведь, что Мише надо убить немца, а всё равно не сказала, даже сегодня. Ну и молчи, принцесса Турандот. Миша твою заначку ещё с зимы знает, всё ждал, может, у тебя совести хватит. А не хватило – так и спрашивать тебя нечего. Оно и лучше, а то бы ещё увязалась. А своего немца Миша должен сам. За маму и за тётю Бетю, и за всех, кого стаскивали на тот пустырь, и там они лежали прямо под снегом, а их ещё обыскивали уже мертвых, и зубы проверяли. Когда Миша об этом вспоминал, у него начинало все внутри дрожать. А сейчас, наоборот, вспомнил – и дрожь успокоилась. И вообще стало так спокойно-спокойно и даже тепло.
Все заранее он продумал, только ждал, когда немцы побегут. Тогда они за дохлого фрица никого расстрелять не успеют. А вот только не поздно ли? А вдруг там, на Ришельевской никого уже не осталось? И мотайся тогда по улицам, ищи. И ещё он волновался, если не удастся выследить одного немца и придется стрелять по нескольким – так чтоб не сбиться со счета патронов, один приберечь. Это он знал по книгам, что последний патрон надо обязательно оставлять для себя.
Он вернулся ближе к утру, когда уже грохотало со стороны Пересыпи, и ничего не рассказывал. Брякнулся на одеяло молча, лицом вниз. Муся кинулась к нему с упрёками и причитаниями, но он как не слышал. Она ухватила его за плечи, развернула к свече. Посмотрела ему в лицо и, ничего больше не говоря, уложила и укрыла второй половиной одеяла. Он вроде бы заснул, но скоро забился и закричал. Господи, опять… А она-то уже год думала, что кончились его припадки, что это было возрастное.
А просто Миша не знал, что когда стреляешь немцу в спину – так он не сразу падает мёртвым, как в фильмах про испанских антифашистов. Что он ещё вскрикивает тонким голосом, а потом, скрючившись, вьётся, и вьётся, страшно выгибая голову, и скребет руками по битым кирпичам. И что после этого всё, как чужое: и руки, и всё. А внутри почему-то как металлический метроном из музыкальной школы, холодно щёлкает: убил. Убил. Убил. Без упрека и без похвалы, но всё время. И никак тот метроном не заткнуть и не остановить.
Наши шли по Приморской, а они стояли на тротуаре: и Муся с Анной, и дети, и ещё много народу. У Миши, Петрика и Мани, на солнце видно, лица серые и чуть одутловатые. Сколько времени почти без света. У Алёши шея в фурункулах, и один на щеке. Света – выше мальчиков теперь, и волосы потемнели, уже не медовые, а просто русые. Один Андрейка сохранял ангельскую миловидность, вертел кудрявой головкой. Одетые как попало (прихорашиваться будем потом), и даже пока не очень шумно ликующие, ещё не успевшие опьянеть от радости – стояли и смотрели. Как наши идут. Крепко усталые, со щетиной на лицах, в грязных сапогах, тоже не успевшие навести красоту после боя, что кончился только утром. Первые наши, вошедшие в город.
А уже через полчаса детей было не удержать, они разрывались от восторга и не могли просто так стоять рядом с мамами. Первыми – впрочем, не расцепляя рук – затесались в толпу Маня и Петрик. Муся сделала движение их задержать, а потом засмеялась и махнула рукой: что теперь с ними случится плохого? А они, охмелев от апрельского солнца, от блеска военных медалей, от счастья у всех на виду мчаться по улице, прыгать и орать – бежали по Преображенской, а там уже тоже шли наши: так много! так много!
К вечеру обе мамы были в причёсках и платьях, и так и не открытая Мусей в ту ночь бутылка стояла на столе в "холодной" комнате, откуда убраны были ширмы. Праздновать надлежало там же, где их застала война, где они обе сидели в обнимку на диванчике, проводив Семёна, и утешали друг друга, что как-нибудь не пропадут. Стол был застелен чисто выстиранной простыней: скатерти были проданы ещё в сорок первом. Дети, умытые и усталые от беготни, сидели чинно, впечатлённые торжественностью. Тарелки перед каждым и вилки, и вино, и свечи жёлтого воска, сразу девять штук, укрепленные на треснутом фарфоровом блюде. По одной свече на каждого, включая Гава, молотившего тут же хвостом по паркету. Только Филя, бедный, не дожил. Потому что у морских свинок век короткий, короче оккупации, и тут уж никто не виноват. Все подняли "бокалы": чайные чашки, эмалированные кружки – кому во что было налито. И даже Андрейке налили вина в крышку от румынского термоса.
– Ну, чтоб все наши вернулись!
Вот бы стук сейчас в дверь, и они бы вошли, все разом: отцы, и старшие братья, и мама Марина! Видимо, все думали об этом, потому что Маня сказала:
– Мама, мы же можем теперь вернуться к себе? А то папа и Сёма не будут знать, где нас искать.
Анна засмеялась:
– Ну, сюда-то забежать догадаются. А правда, Муся, давайте перебирайтесь. Только я хочу при этом быть, чтобы видеть морду Бубыря!
Она такая красивая была в этом платье с кружевным воротником из протёртой диванной накидки, так лихо, по-мальчишески, сказала про морду Бубыря, что Алеша смотрел на свою храбрую маму, как прежде: влюбленно и гордо. Почти как прежде. И дал себе твёрдое мужское слово не помнить того её разговора с румыном. И чтоб она никогда не узнала, что он это слышал.
Андрейка объяснял Петрику, что у наших погоны уже давно, с сорок третьего, и ранги теперь другие, и что значит сколько звездочек.
Миша сидел задумчивый. От вина метроном вроде щелкать перестал, но на Ришельевскую он сегодня не смог пойти: дошел до угла и повернул назад. Хотя оттуда слышны были звуки гармошки и пенье, и даже два выстрела. Видно, там шло большое веселье.
– Маня, спой, детка, – попросила Анна. И Маня ломаться не стала. В полный голос петь прямо так, в комнате, и пускай слышат снаружи, через открытую форточку – это надо было почувствовать, какое счастье.
– Там вдали, за рекой, загорались огни, – легко брал её чистый голосок, и все сидели тихо-тихо, когда и песня уже кончилась.
А тут вдруг со стороны Соборки послышались выстрелы, и все сначала дёрнулись, а потом рассмеялись, сообразив, что это наши стреляют из ракетниц. И дети умчались к воротам смотреть, как чертили густо-синее небо красные и зеленые огни.
Все улеглись ночевать у Петровых. Но не как прежде, как ночевали до войны: Маню, Петрика и Алёшу уже было вместе не уложить. Мане было одиннадцать лет. Петрик-то всегда под боком, она привыкла. И к Мише привыкла, когда все-то вповалку спали под одеялами и пальто. А Алёши стеснялась теперь. И он, кажется, тоже. Выросли, как же они выросли, дети… Мише уже четырнадцать, и Алёше скоро будет, а осенью и Свете. А вымахала – почти с Мусю ростом. Уже барышня. Муся обхватила Анну, завертела по комнате:
– Дети выросли, а мы не постарели, правда, Анечка? Знай наших!
Наутро Муся прошла по двору к своей квартире на первом этаже. Мадам Кириченко, в красной косынке, пропела с другой стороны дворового садика:
– Ой, Мусечка, с возвращением! Как я рада вас видеть!
Но Муся не повернула головы. И шедшие за ней Маня с Петриком – тоже.
Квартира была пуста: румыны съехали, а больше никто туда не успел заселиться. На полу валялась бумажная рвань, дверь была не заперта, но окна целы, так что можно было начинать жить.
– А ну-ка, Маня, к тете Ане за веником и тряпками! Выметем всю эту пакость, чтобы всё блестело!
Света драила окна, Муся с Анной – полы, мальчишкам велено было носить воду. Так что почти все они были в квартире, когда в распахнутую дверь постучали. На пороге топтался Бубырь собственной персоной. И морда, которую так хотела видеть вчера Анна, была самая приветливая:
– Мусенька, я вам мебелёчки поберег, пока вы уезжали… Ну, что румыны побили-увезли, за то я не ответчик, а что мог – поберег. И комодик, и зеркальце… Усё в целости.
И все они вдруг захохотали, и хохотали долго, до слез. А Бубырь терпеливо стоял и продолжал приветливо улыбаться.
А ещё через несколько дней Света шла вместе с Гавом – просто так, чтобы идти и чувствовать в спине щекотные пружинки. И радоваться, что пробился из почек зеленый пушок, и всё теперь можно, даже на улицу без парабеллума, а на солнце не холодно и без кофточки. А прошлогоднее платье с разводами плещет по коленкам, и только чуть-чуть жмет в груди, а так – как на неё шито. Она накрутила волосы на тети Мусины бигуди, и даже подвела карандашом брови. Красота! Знай наших!
На Дерибасовской шло гулянье, какие-то девушки пели и плясали, а пацаны приставали к солдатам:
– Дяденка, дай стрельнуть!
Некоторые давали, направив пацанячью лапу кверху стволом:
– Ну, давай, сынок. Па-а фашистской авиации – огонь!
– Дяденька, дай ещё разок!
– Во деловой нашелся! Я первее тебя попросил!
По Польской улице вели пленных немцев, и даже почему-то нескольких румын, хотя откуда еще оставались румыны – было непонятно. Ребятишки свистели им вслед, наслаждаясь безнаказанностью.
У подьезда с каменными рожами по бокам компания красноармейцев пела под баян. Они, видимо, уже хорошо успели принять, потому что голосили вразброд, и все блестели красными лицами. Один из них ухватил Свету за локоть, потянул к себе:
– А ну, кудрявенькая, потанцу-ем!
Света дернулась, вырываясь: она пьяных боялась ещё с довоенных времен.
А то, что ее ухватил, в линялой гимнастерке с медалью, вдруг озлился:
– Овчарка немецкая! Под фрицев небось ложилась, а теперь брезгу-ешь!
И перехватил уже повыше локтя, больно. Света закричала, забилась, и тут их обоих сшибло серым вихрем, и Света откатилась в сторону, и один за другим треснули выстрелы – три или четыре.
Она обнимала Гава, плача, целовала в простреленную голову. Но он уже не дышал, и глаза закатились. А ей, вжимающейся в его теплую ещё шерсть, было всё равно: пусть и её застрелят вместе с ним, пусть, что хотят… Румыны не убили, немцы не убили… Гавчик мой, Гав, я тоже не хочу… не хочу жить! Она повернула к этим пьяным зарёванное лицо:
– Ну, стреляйте! Стреляйте, сволочи!
А они вроде как протрезвели, потоптались неловко и ушли в подворотню. И она осталась одна, над коченеющим под весенним солнцем Гавом, и не слышала уже ни стрельбы, ни смеха, ни музыки.