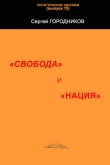Текст книги "Наследники минного поля"
Автор книги: Ирина Ратушинская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
ГЛАВА 7
Алёшу все больше и больше раздражал этот капитан Тириеску. Всё в нем было противно: и фуражка-тарелка, и три медных полоски на узеньких погонах, и даже то, что у этого были не обмотки, а сапоги. Лаковые. Он, подлец, хитрый был: давил на симпатичность. Даже пробовал их своей едой угощать – ну, от этого уж они с мамой отказались. Не хватало у оккупанта куски сшибать. Так и то он сделал культурный вид: вроде не обиделся. Приволок откуда-то настройщика, тот привел рояль в порядок, и стал румын по вечерам наигрывать вальсы: усёк, гад, что мама музыку любит. И разговоры их по-французски становились всё продолжительнее. С чего бы, спрашивается?
Еще понятно, когда Маню с Петриком прятали – мама должна была с ним любезничать. Из осторожности. А теперь-то с чего? А Тириеску грустным голосом рассказывал маме, как он скучает по своей маленькой девочке, и как эта девочка ждёт его домой: не нравится ей жить у тетки. И что жены у него нет, умерла жена при родах, и жили они вдвоем с дочкой, и продолжали бы жить, если бы не война.
Маме везло в последнее время: стала приходить дамочка-перекупщица в оранжевом пальто и с лисой на плечах. Она приносила то связку немецких армейских одеял, то нитки, ставшие за последний год недостижимой роскошью. И брала недорого. А мама радовалась: шила из тех одеял куртки, и выгодно продавала. Только пуговиц у неё не было, но и без пуговиц куртки прямо расхватывали. Теперь мало у кого пуговицы оставались, и люди просто подпоясывались ремнями.
А потом Алёша увидел, что Тириеску с этой перекупщицей о чем-то разговаривает, и не в доме – хитрый какой! А на углу, на улице. Сразу стало подозрительно, почему она продает маме так дешево. А что докажешь?
Денщик Ион у Алёши злости не вызывал: сразу видно, что человек подневольный. Румыны своих денщиков запросто по мордам били. И, хоть Ион был добродушный корявый мужик с улыбчивой мордой в веснушках, Алёше иногда хотелось, чтоб Тириеску ему врезал пару раз, и чтоб мама увидела. Тогда бы небось не смеялась его шуточкам. Но Тириеску твердо держался своей коварной политики. Он на денщика даже не орал, не то, чтоб пальцем тронуть. И, что самое противное, Алёша сам стал понемногу поддаваться на капитанскую симпатичность. Уже поймал себя на том, что отвечает этому оккупанту на улыбку.
А тут ещё началась ранняя оттепепель, подуло теплом, и мама, ни с того, ни с сего, стала ладить себе шляпку из неизвестно откуда взявшегося куска серо-голубого бархата. Ещё и рассказывала Алеше, как в гражданскую войну её тётя Геля научила шляпки делать, и они одно лето в Киеве этим кормились, и Олега маленького кормили. Зачем в Киеве были нужны шляпки в гражданскую войну, Алеша не понял. А по тому, как мама примеряла своё изделие перед высоким зеркалом, что стояло в простенке между окнами, очень даже понял: не на продажу эта шляпка. До того мама стала в ней красивая. Даже в жакетке из серого одеяла.
А капитан Тириеску, конечно, припёрся во время примерки и проходил через их комнату в свою. Обычно он очень быстро проходил, деликатным прикидывался. А тут остановился и стал восхищаться: какая мадам волшебница, да какой шарм. Он так и не знал, что Алёша понимает по-французски. Смотрел на маму, как пацан на карусель. И Алёша вдруг увидел, что он вовсе не старый, этот румын, хоть и с проседью. А мама мило и смущённо улыбнулась и ничего не сказала.
Что Алёше больше всего хотелось – так это застрелить Тириеску из его же пистолета. Утащить у него пистолет было бы плёвое дело. Но за убитого фашиста казнили четыре дома, всех подряд. Так что все они были заложниками друг за друга.
И тут Алёше пришла гениальная идея: не стрелять! Зачем? За утерю личного оружия, он знал, в советской армии не миновать было загреметь под трибунал. А там разговор был короткий. У них в классе был Сенька Вороненко, так с его батей была такая история. И остался Сенька без отца. С мамой и бабушкой.
А эти ж – фашисты, они тем более Тириеску расстреляют, даже, наверно, и без трибунала. Сами по себе. И туда ему и дорога, а мы ни при чём.
Но, оказалось, не каждая кража – плевое дело. Чёртов Тириеску заметил-таки, и погнался за Алёшей.
Так что теперь Алёша сидел с пистолетом на узком карнизе над вторым этажом дома напротив, и солнце по-весеннему слепило ему глаза радужными кругами. А Тириеску топтался внизу и уговаривал, упрашивал, умолял: спуститься вниз. Тихонько спуститься, осторожно. В шахматах такая ситуация называется пат.
А карниз был, чёрт, скользкий, с ледяным наплывом по краю, с сосульками. И куда было по этому карнизу уходить? Алёша поддразнивал румына пистолетом: вот-вот, мол, уронит. А сам соображал: стрельнуть – нельзя, тогда и маму повесят. Слезть и сдаться? А что этот гад с ним сделает? Вот-вот кто-нибудь из румын появится во дворе, и тогда кончится пат. Застрелят Алёшу, как жестяного зайчика в тире, прямо на карнизе.
Тириеску, мешая румынские и французские слова, продолжал уговоры. Пистолет заряжен… Это не игрушка, это опасно… Пускай гарсон кончает шалить, и мы забудем эту историю. Пускай слезает очень осторожно.
Алёша подумал, что если кинуть пистолет подальше в глубину двора, где каштаны, то румын побежит его подбирать, а тогда он успеет соскочить вниз, а там в другую сторону, за угол, и в подвал бабы Дуси. Но он ничего не успел. Он увидел, как из подъезда входит денщик Ион, и дёрнулся, уже не размышляя. Так не размышляет заяц, когда видит гончую, хотя у него тоже, может быть, есть варианты. Он не удержался на карнизе, и по хребту шарахнула дикая боль: от ноги в затылок.
Это было так больно, так больно, что он, даже открыв глаза, не понимал, почему он на руках у Тириеску, а мама держит его за руку, и все трясётся и цокает. Потом был какой-то дом, белые халаты, и Алёшу положили на неприятно пахнущий стол. А уж там сделали больно до того, что он завыл, и стало темно.
– Мадам, умоляю вас, простите. Я глубоко сожалею… Я должен был ни на минуту не упускать из виду этот проклятый пистолет. Бедный мальчик… Какое счастье, что так обошлось. Мадам, вы поняли, что сказал доктор? Там две кости, там не может быть сдвига… Никаких последствий… О, какой же я осёл!
Это все говорилось над диваном, где лежал Алёша, уже с загипсованной ниже колена ногой, а Анна молча катила слезы. Все кончилось, и теперь можно было. Она подняла заплаканное лицо:
– Господин капитан, это я должна… спасибо вам… вы благородный человек…
Она ещё не вполне пришла в себя, у неё ещё плыл в голове перепуг, и всё помнилось кусками. Как Тириеску нёс Алёшу в пролётку, как он, с дергающимися губами, пытался по дороге объяснить Анне, что произошло, а Алёша поскуливал на каждой выбоине, что попадалась под колеса. И у неё сердце обмирало на каждой выбоине. Как они сидели в приёмном покое госпиталя, как накладывали гипс и утешали Анну, что ничего опасного. А потом ещё оформляли какие-то бумаги, и тут уж Анну спросили, где её муж.
– В армии, – ответила Анна, думая, что тут же её с Алёшей отправят за одно это в тюрьму. Но тот, кто спрашивал, без дальнейших разговоров отметил что-то в тонкой тетради, и Тириеску тем же порядком отвёз их домой.
А теперь ещё и извиняется, будто не у него украли пистолет, и не он их спас от последствий этого дела. И ясно, что никому не словечка не скажет. И смотрит виноватыми чёрными глазами… Человек в румынском мундире. Анна протянула ему руку, и Тириеску, склонившись, её поцеловал.
Алёша провалялся три недели. Нога страшно чесалась под гипсом, но болеть переставала, и Алёша чувствовал себя последним дураком. Мать, когда он стал поправляться, начала было ему объяснять, что сделал бы любой другой на месте Тириеску.
– Мам, не надо… Я понимаю, – сказал Алёша с такой мукой в голосе, что Анна поверила и продолжать не стала.
Он послушно ел всякие вкусности, которые мать ему давала для поправки. Даже банку сгущённого молока: в день по три ложки. Прекрасно понимая, откуда эти вкусности, но не споря, без разговоров. Приходилось признать, что Тириеску неплохой мужик, хоть и румын. И стыдно было выламываться, когда он подходил к Алёшиному дивану, трепал по волосам и приносил то леденец, то заграничный карандаш. Алеша брал, потупясь, говорил "мерси". По своей же вине он был теперь связан с врагом благодарностью, а это нелегкий груз.
Дядько Йван вывел Мишу в лесочек, когда уже темнело. Сунул ему узелок:
– От, Христина тоби наскладала. Бижи, хлопче, бо вернеться той гад Мыкола з полицаями – то пизно буде. Ты на еврэя не схожий, це тильки тут кожна собака знае, бо гетто осьде. А так нихто не пизнае. Ну, щасты тоби.*
И, перекрестив, подтолкнул в заросли.
Они были добрые, дядька Йван и Христина, они б Мишу у себя оставили. Если б не тот Мыкола. Был бы он их хлопчиком, и сидел бы сейчас на крытом цветной дорожкой сундуке, и печка бы грела, а Христина кормила бы его слоистыми коржами, да ещё что-то бы приговаривала. А не продирался бы мокрыми зарослями, чавкая по грязи и прошлогодним листьям, на ту сторону лесочка, где была уже дорога. Сзади залаяли собаки, и Миша дышать перестал. Нет, это из села слышно, это не за ним. Его не поймают, он придет к тёте Нине, он помнит, где её квартира. И они хорошо заживут. У неё есть пианино, и она будет учить его музыке. Она не еврейка, и он не еврей. И это будет неправда про гетто, и как мама страшно хрипела и рвала одеяло, а потом у неё вывалился язык.
Он заскулил и помотал головой.
– Не надо это вспоминать, – сказала ему тогда тётя Бетя, – а то ты опять будешь биться, и станешь совсем припадочный.
Он не будет вспоминать. Он ни о чем не будет думать, а пойдет, как учил дядько Йван: лесочком, потихоньку, вдоль той дороги. А если кто будет ехать – то в лесочек. Хотя он и не похож на еврея.
Света увидела этого чокнутого, когда он сидел прямо на мокром тротуаре под стеной облупленного дома и даже милостыню не просил. А икал и давился от рыданий, как маленький. Он уже больше ни на что не надеялся, и ничего не хотел, и ничего не боялся. Так, подвывая и захлебываясь, он и пошел за Светой, с мокрым от сидения пятном на заду коротких, на ладонь не достающих до щиколотки штанов. Когда он встал, то оказался чуть не на полголовы выше Светы.
Понять его поначалу трудно было: он смотрел, как ненормальный, и лопотал что-то про тётю Нину. Мол, у этой тёти было пианино, и поэтому она не могла никуда деться. Света прикрикнула на него:
– Уймись ты с пианино! Вытри вот морду и лопай. Это мамалыга, нажимай давай. Мы уже ели, правда.
Он с недоумением посмотрел на кастрюльку с кашей, будто не знал, что с ней делают. Света сунула ему ложку, уже сомневаясь: может, он и правда, псих, и ложку не умеет держать? Но нет, умел. И заработал со скоростью нормального человека, который не жрал ничего самое меньшее два дня. А то и все четыре. Был он тощий до голубизны, и губы были тоже голубые. А жёсткие волосы – где чёрные, где белые, клоками. Глаза он прятал, пока усердствовал с кашей.
Что с ним теперь делать – было непонятно. Все пацаны, которые остались без дядь – без тёть, не говоря уже про пап и мам, давно растасовались, кто куда. Из выживших в эту зиму только самые неудачливые осели в сиротском приюте. Там, по слухам, румынские воспитатели били их по щекам, и не только. Под присмотром благотворительных дам.
Все остальные были уже учёные, умели выживать и без приютов. Тем более, что почти на каждого, раньше или позже, находились-таки добрые люди. Или подкармливали, или давали работу. Или вообще брали к себе, и не делали разницы, своё оно или чужое. Это в спокойные времена ещё бы долго думали, а когда смерть рядом ходит – все всё понимают. Когда одно горе на всех: и на взрослых, и на пацанов.
Так что это мальчишкино отчаянье в конце февраля сорок второго выглядело уже странно. Будто его выдернули из осени сорок первого и перебросили через зиму в банке консервов. Света спрашивать его ни о чём не стала. Пускай посидит, опомнится, пока тётя Муся не придет. Он и сидел, смотрел на жёлтенький газетный календарик, прилепленный на стенку. И ничего не говорил.
Тётя Муся, к удивлению Светы, обошлась с этим чудиком без затруднений. Скоро уже оба сидели на матрасе, его голова была у тёти Муси под крылышком, а она ворковала что-то успокоительное и бессмысленное. И она всё поняла из несвязного его бормотанья: и про маму, и хутор с печкой, и про всё остальное. Это был мальчик из гетто, и она, конечно, не отпустит его болтаться по улицам Одессы, где давно уже на каждом подъезде меловой крест, означающий, что тут нет евреев. А то он найдет-таки знакомых на свою голову. Она никуда его не отпустит. Боже мой, её Маня и Петрик могли бы тоже быть такими… такими… Если ей пришлось бы отвести их в гетто собственными руками.
А еще через полчаса Миша катался по тому же матрасу от боли в животе. А тётя Муся то над ним хлопотала, то Свету ругала: нельзя же было сразу давать ему столько каши!
Когда Алеша появился, наконец, на Старопортофранковской, он про Мишу ещё не знал. Света забегала посочувствовать, но не болтать же о мальчике, бежавшем из гетто, в квартире с румынами! А вдруг они больше понимают по-русски, чем показывают? Так что знакомиться им предстояло только теперь. Света Алёшу предупредила, что Мишу ни о чем расспрашивать не надо, потому что у него очень страшно умерла в гетто мама. Заболела от холода и недоедания. Потому что у них не было никакого золота. А что у него седые волосы кое-где, это, тетя Муся говорит, ещё может пройти со временем. Потому что он еще растет. Ему тринадцати ещё нет, только в следующем месяце.
Вся компания устроилась на двух матрасах, задвинутых рядышком в угол. В той комнате, откуда дверь в чулан. Муся, убедившись, что все умеют исчезать мгновенно и бесшумно, позволяла теперь им там играть. Только не больше одной куклы чтобы было в комнате! А то как на Андрейку кукол свалишь, если кто придет!
Но Муся была на работе, и её дочка бессовестно нарушала запрет: вытащила из катакомбного коридора и шёлкового клоуна, и куклу Наташу из штопаного носка, и мамзель Фифи из флакончика, завернутого в голубой лоскуток. Потому что они тоже хотели послушать, как Миша рассказывает про капитана Дрейка.
– Он был самый смелый пират на свете, и окрывал новые земли, и никто его не мог поймать! А ему взяли и поставили памятник вовсе не за это, а за картошку. Потому что он в Америке картошку открыл. И её научились разводить, и не умирали с голоду. А то без картошки еды не хватало.
– А давай мы будем играть в пиратов! – загорелся Петрик. Мы будем пираты, и откроем новые земли, и найдем новую еду. Маркошку, да? И всем уже всегда будет хватать.
– И она будет сладкая, как мятные пряники! – подхватил Андрейка.
– А Миша будет капитан, – льстиво вставила подлиза-Маня.
Миша, так и быть, согласился, и они подняли одеяльный парус, и отправились за маркошкой.
Тут-то и заявились Света с Алёшей. Чин чином Света изобразила два кашля, а с коротким перерывам ещё один, пока открывала дверь. Это был условный сигнал, что прятаться не надо: свои. Можно было и не кашлять, а стучать, только Света с условным стуком путалась пока: ти-ти, та-та-та или, наоборот, та-та, ти-ти-ти?
Алёша смотрел на Мишу с некоторым разочарованием. Герой, бежавший из гетто, обошедший все патрули, пострадавший человек, переживший ужасы, о которых нельзя спрашивать – сидел по-турецки на стеганом одеяле, а в руках у него была швабра с навязанным на перекладину вторым одеялом, байковым. И лицо у него было не трагическое, а вполне довольное, и к Свете он повернулся весело:
– А, принцесса Турандот! А мы тут в пиратов играем!
Увидел Алёшу и замолчал.
– Это свой, – сказала Света. – Алёша, я ж тебе говорила. Пожрать мне что-нибудь дадут в этом доме? Устала я, как собака. А тебя, Гав, я завтра с собой не возьму. Ты мне всю торговлю портишь. Я тебе сколько раз говорила не скалиться на покупателей? А, собачья морда?
Андрейка загремел чайником, Гав немедленно полез на одеяло и повалился кверху лапами: пожалейте, мол, добрые люди! Добрые люди Маня с Петриком наперебой стали его жалеть и обнимать. А Миша с Алёшей приглядывались друг к другу. Сложная вещь – первый мальчишеский взгляд. Даже при готовности на дружбу в нём кроется естественный интерес: кто из них будет главный?
Капитан Тириеску сообщил Анне новость: скоро откроются гимназии и вообще учебные заведения. И он очень рад за мальчика, что он сможет опять учиться. Анна, честно говоря, тоже обрадовалась. Бог знает, чему их там будут учить, в этих румынских гимназиях, но возлюбить короля Михаила или новый режим Алёше явно не грозит, а по улицам всё же он будет меньше болтаться. А то ведь от рук отбивается, и страшно подумать, каких ещё выходок от него можно ждать.
А Алёша восторга не проявил. Ещё в гимназию ходить, когда он придумал такую замечательную коммерцию! У Сашки Мышенко, оказывается, была банка мебельного лака ещё с довоенных времен. И никак его маме не удавалось её продать: какую ещё мебель было лакировать в ту зиму? Всё, что могло гореть, жгли, а не лакировали.
А у Алёши завалялся набор детских кубиков, он и забыл о нем совсем. И там были такие кругленькие брусочки, довольно много. И, если их распилить на ломтики, и в каждом просверлить две дырочки, то получатся замечательные пуговицы! Инструменты в доме были, от Олега остались. И тисочки, и ножовка, и напильники, и даже набор для выжигания. Когда Олег занимался в авиамодельном кружке, папа ему на инструменты ничего не жалел. Конечно, младшего братца Олег к своим сокровищам не подпускал. А теперь это всё – Алёшино. Пока, во всяком случае. А пуговицы, если войти с Сашкой в долю, да их отлакировать, на базаре с руками оторвут! А кончатся брусочки – можно будет веток насушить подходящего диаметра!
И вообще, столько дел, гораздо более интересных, чем гимназия. Говорили, что скоро снова пустят трамваи. Значит, дадут электричество, а, значит, можно будет сообразить, где подключить в сеть приёмник. Приёмники румыны велели сдать ещё осенью, сразу, как вошли. Алёша охотно вызвался отнести его, а сам, конечно, припрятал в катакомбах. Только без электричества приёмник все равно не работал.
А самое скверное – что, если румыны открывают гимназии – то, значит, устраиваются надолго. Алёша почему-то надеялся, что весной наши перейдут в наступление и выбьют эту сволочь из города: и румын, и немцев, и этих, недавно появившихся в синей форме – уж вообще непонятно кого. Ещё открытие театров, кино и магазинов с яркими вывесками его надежды не поколебало. Но гимназии…
– Мам, наши что, насовсем нас бросили?
– Грех тебе так говорить, Алёша. Бои идут, люди гибнут, а ты такое городишь. Слышали бы папа с Олегом.
– Наши ещё придут, правда, мама?
– Молись Богу, сыночек. И имей терпение.
Да, молиться Богу – это надо было иметь большое терпение. Потому что Его было не понять. Нет, Алёша уже не был тем малышом, который, услышав от мамы, что молитва горы сдвигает, немедленно попробовал сдвинуть Жевахову гору. Но уж слишком у Бога была широкая натура, если Он в Своих неисповедимых целях допускал то, что творилось вокруг.
Алеша продолжал молиться. На всякий случай. Но детской теплоты и утешенности при этом уже не чувствовал. Он вообще ничего не чувствовал, шепча привычные слова. Только скучно было, и слова, как назло, путались.
Мадам Кириченко подловила Анну во дворе:
– Анна Ивановна, на одно словечко!
Она, это было видно, не слишком процветала: в неумело залатанной телогрейке, в подвязанных верёвками разлезшихся ботинках, с обвисшим, как тряпочный мешочек, подбородком. Видно, всю приличную одежду выменяла за зиму на еду. При новой власти ей от политически благонадежных разговоров, как и при прежней, оказалось выгоды ни на грош. Горестно склонив набок голову, она вполголоса завела:
– Анна Ивановна, вы таки имеете влияние… Я же, посмотрите на меня, кругом больная женщина. Я же нажила себе артрит еще при этой большевистской сволочи, я еле двигаюсь. Куда мне на трудповинность, это же недоразумение! Румыны же любят порядок, ну не как немцы, но все-таки… Они же могут отличать больную женщину от здоровой… Если попросить…
– Кого попросить? – не поняла Анна.
– Ой, вы же понимаете. Капитан Тириеску такой человечный господин, сразу видно, что настоящий румынский офицер, несет новую культуру. Его все так уважают… За ним все жильцы, как за каменной стеной, – понесла она уже невесть что, даже сама заплелась языком и запнулась. Но сглотнула и продолжала:
– Если вы походатайствуете, он вам не откажет. А я буду вам благодарна, – со значением произнесла она.
Ах, вот оно что! Действительно, не успел стаять снег, обнажая вывороченные столбы, кучи мусора и битого камня – у них в подъезде был наклеен приказ, предписывающий всем жильцам собраться в такое-то время для расчистки улицы, имея при себе удостоверения о трудповинности. Было ясно, что население заставят чинить мостовые и заграждать щитами развалины, пока губернатор Алексяну не будет удовлетворен внешним видом города. Тут уж сдачей шерстяных носков или рукавиц не отделаешься.
Анна развела руками:
– Вы что-то неправильно понимаете, мадам Кириченко. Какое у меня влияние? Я тоже завтра выхожу, ничего не поделаешь. Я не слышала, чтобы для кого-то делалось исключение…
Назавтра Анна, таская носилки с камнями под окрики Бубыря, с греховным удовольствием слушала оханье и кряхтенье мадам Кириченко. У неё, похоже, действительно был артрит: она ковыляла, вся выкривившись на правую сторону. Ничего, голубушка, потерпишь. Мусе хуже пришлось по твоей милости. Наслаждайся новым порядком, – усмехнулась Анна про себя. Ей даже весело стало: может, от этих охов, а может, от белёсого пара, поднимавшегося с мостовой. Хотя носилки прямо руки отрывали, особенно когда с ними выпрямляться. Но Анна выпрямлялась: подумаешь, камни таскать. Напугали… Выше голову держать, вот и всё. Весной пахнет, ах, как пахнет весной! И воробьи орут дерзко и радостно, как при всех властях во все вёсны: "выжили! выжили!"
К дому в это время подходил капитан Тириеску. Лаковые его сапоги тоже реагировали на весну: плескали веселые блики на ясном солнышке. Он увидел усмешку Анны и отвел глаза.