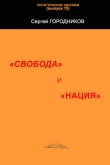Текст книги "Наследники минного поля"
Автор книги: Ирина Ратушинская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Как – с женихом?
Марина смотрела на дочь, будто она невесть что услышала. Но, чем больше смотрела, тем яснее становилось: конечно, что удивительного? Девочка уже взрослая, и хорошенькая выросла. Худенькая, правда, и глаза диковатые, и движения резковатые, но это само собой пройдёт. Когда девочка поймёт, что хороша. О, Марина знала в этом толк: есть такая счастливая порода женщин, что не останавливаются хорошеть до самой старости – как раз те, что поздно это поняли, зато поверили в это на всю жизнь. Жених… А чего другого можно было ожидать? Хорошо ещё, что хоть не муж, а то, действительно, были бы осложнения.
– Кто он? Ты его давно знаешь?
– С войны. С самого начала. Мы с ним вместе были – ну, в нашей компании, Андрейка же тебе рассказывал…
– Но он не говорил про жениха. И кто же: тот русский или тот жид?
– Какой жид, мама? Это ты про Мишу?
Света несколько опешила.
– Ендрусь говорил, что вы там с жидами водились и даже прятались с ними вместе, и там был один старше тебя, а остальные маленькие. Вы, конечно, не понимали, вас жизнь ещё не учила… Но вдруг ты и сейчас не понимаешь? Это он?
Мама так смотрела на Свету, будто ей сейчас медицинский диагноз сообщат: то ли инфаркт миокарда, то ли нет. Света меньше всего от мамы такого ожидала, но сейчас главное – её успокоить, а про остальное объясняться потом. Ещё с мамой поссориться не хватало.
– Это Алёша. Он русский. Ну, мама, что ты так волнуешься?
– И то хорошо.
Этот мамин взгляд Света с детства помнила: такой неотпускающий, будто мама всматривается – прыщик у неё, Светы, между глаз или просто перепачкалась.
– Но ты ему сказала, что уезжаешь?
Вот оно. Головой в холодную воду – что тут оставалось ещё?
– Я сказала, что не уезжаю. Мамочка, ну ты сама подумай: как я могу?
– И ты всё это время молчала?
– Я так была рада, что ты приехала, так хорошо было: и что ты нашлась, и всё, всё – я просто как-то не подумала… что уезжать. Я про Андрейку думала, ну, он – другое дело, а мне – как же уезжать?
– Глупенькая моя девочка… Ты ведь не замужем, тебе не нужно от него никакого развода или разрешения. Вы же не поженились еще?
– Мы думали раньше кончить институты… Но я его люблю, при чём тут разрешения?
Этот аргумент: «я его люблю», со всей его неопровержимой силой, Марине был до ужаса знаком. Сама она девчонкой ещё помладше Светы ради него всю жизнь свою перевернула, ни перед чем не остановилась. Но – оставить тут девочку? В этой жуткой стране? Но – чтоб она вышла замуж за русского? Повторила глупость, которая её матери чуть жизни не стоила? Главное – не кричать, не ссориться, а то всё пропало…
– Детка, раз вы всё равно решили подождать, то почему ты ехать не можешь? Он пускай заканчивает институт, ты в Польше тоже будешь учиться, а через несколько лет, если ваши чувства…
Марина умела лукавить. Но Света уловила, и так ей стало больно, что в горле пересохло. Дождалась маму… Она не умела доверять людям частично. Или совсем да, или совсем нет. И получалось, что маме, её маме – нельзя доверять!
– Мама. Я не поеду в Польшу. То есть, если можно бы приезжать в гости, а потом возвращаться – то я бы очень, очень хотела. Но так не бывает, наверное. А насовсем – нет.
Это Света сказала так спокойно-спокойно. Как дверь захлопывают порядочные люди: без лишнего стука и шума.
– Ну, а как ты себе представляешь – тут остаться? Его ты любишь, а – меня? А – Ендруся? Или ты хочешь, чтоб и он, и я тоже здесь остались? В стране, где вашего отца убили, а меня – чуть не убили? Ты знаешь, что такое их лагеря? Они же всех тут поубивают, рано или поздно! Это же дикари, не лучше немцев!
– Русские, ты имеешь в виду?
– Да, я имею в виду! Ну, что ты так смотришь? Поляки, что ли, Польшу кровью залили? Польских офицеров – кто расстреливал – не русские? И своих они не жалеют, и никого не жалеют. Да что ты об этом знаешь… Ты тут проживёшь хоть полжизни – и всё равно ничего не узнаешь. Пока сама на этап не пойдёшь.
– Ты мне раньше так не говорила.
– А сама я – много знала, пока вашего отца не арестовали? Тоже была дурочка, думала, здесь жить можно. Доченька, ну поверь, ну нельзя здесь жить! Светочка моя! Сколько горя мать может вынести? Пожалей же ты меня, не рви мне душу!
Марина плакала уже, а Света смотрела сухими глазами: ну и пусть. Бордовый ворс ковра, которым была застелена тахта, покалывал пальцы, и она его бессознательно выщипывала. Она не знала, что близкие люди умеют делать так больно. Андрейка только, но он же маленький ещё и глупый. А мама-то большая. Вот Алёша ей никогда больно не делал. И папа тоже. А чужие – что б ни делали, но так не достанут.
– А поляки – своих жалеют?
– Да! Поляки – жалеют! Если ты про то, что у нас сейчас делается – так у нас в госбезопасности поляков нет! Нам на все эти посты жидов поставили сразу после войны. Русские и поставили, у них национальная политика такая, они ж нас за горло держат. Ты не знаешь просто… А поляки поляков – не сажают!
– А ты меня – жалеешь? Или Андрейку только? А у меня – души нет, и нечего рвать, да? Папа – русский был, или кто? Ну так и я тоже…
Светин голос сорвался, и дальше она ничего не могла сказать.
– Детонька ты моя, ну как же я тебя не жалею?
Мама обхватила её и заплакала навзрыд:
– Бедные мои, бедные, что же они с вами делали!
Всё же поссориться они не могли, это было немыслимо. Света не уступала, упиралась худенькими лопатками в какую-то невидимую стену. Поэтому уступила мама. Хорошо, она поедет с Ендрусем, а Света потом в гости приедет. Это сложнее, чем прямо сейчас гражданство выправить, но тоже можно. Мама узнает, как, и всё устроит. И они будут писать друг письма. У них же с Андрейкой не было неприятностей из-за маминого письма? Значит, можно. А Света сама всё увидит, когда приедет, и маму лучше поймёт.
Когда всё было решено, им обеим опять стало легче: посветлело на душе, посвежело. И опять они могли радоваться друг другу – не так безоглядно, как в первый день, но зато по-новому бережно. Больные темы обходили, а наслаждались разговорами матери и взрослой дочери. И про то, что носят в Польше – тоже. И про маленькие женские секреты: на самом деле они большие, но мужчинам это знать ни к чему. Тут Марина многому могла Свету научить.
Посмотреть только, как девочка ноги ставит: сразу видно, что пробегала слишком долго в мальчишеской одежде. А эта манера жмуриться, что-то усиленно соображая? И кокетничать совсем не умеет, даже не понимает, как оно и зачем. Это по всем её повадкам видно. Чтобы дружить с мужчинами – кокетничать и не обязательно, а чтобы с ума сводить? А иначе – как с ними управляться, с мужчинами? От самого высокого начальства – до холодного сапожника в будке на углу? Чтоб не самодурствовали, как мужчины любят, а рады были сделать, что от них хотят? А Света, кажется, воображала, что кокетничать – это делать вид, что вот-вот на шею бросится, но, может и передумать. О, святая невинность почти в девятнадцать лет – смеяться тут или плакать? Кабы мужчины опасались, что их мужские качества действительно могут быть испытаны на прочность всеми женщинами, которые с ними кокетничают – они бы пугались, а не таяли. А так они тают все. Если уметь.
Алёша был представлен маме, и она обошлась с ним очень мило. План поговорить с ним отдельно, чтоб девочке жизнь не губил, Марина отвергла сразу, едва посмотрев на Алёшу. С твёрдыми движениями, поджарый и уже успевший загореть, с упрямым чётким лицом юнец. И никакой этой русской расплывчатости не было в его лице, на которую бы можно понадеяться. Только бы накалились отношения до разрыва – и тогда уж и на будущее никакой надежды. А так надежда была. Он, конечно, Свету любит: простодушно, как всё, что такие мальчишки делают. А против простодушия одно лекарство – время. Ему эта любовь – как присяга. И ей тоже, и год-другой так и будет, пока не станут взрослыми оба. Не как сейчас, а по-настоящему взрослыми.
Марина такое видела: ещё в хорошие времена первый муж возил её в Москву. Что они только там не смотрели! И Зоопарк тоже, и там была площадка молодняка. Так было умилительно: волчата, и козлята, и прочая малышня все вместе кувыркались и баловались, с полным дружелюбием. И только с опытом можно было понимать, что эти райские отношения долго не продлятся: задерёт волчонок козлёнка, как только подрастёт. Если козлёнок бодаться не научится. Она тогда и сама не понимала, только смеялась, а опыт пришёл позднее. Так уж они устроены: разберутся по породам, хотят того или нет. И ничего для этого делать не надо: только подождать. Они сами почувствуют. И тогда уже ничего им объяснять не придётся.
Света и этот мальчик сейчас добирают то, что упустили от детства, а думают, что большие. Просто скачут по зелёной травке и вперёд не загадывают. Ендрусь – с тем таких проблем не будет. Потому что ему позволено было побыть маленьким в своё время – он и повзрослеет скорее. А Света своё детство всё на него потратила, разве можно девочку за это винить? Она умная, вон как легко учится всему, что мама может ей дать. К чему же торопить? Во всяком случае, этот волчонок не подпустит к Свете других в ближайшее время. И сам не поспешит очертя голову осчастливить Марину русским внуком: он хочет, чтоб всё было основательно и надёжно. Так что время есть.
Марина шутила с Алёшей, болтала о пустяках, восхищалась ранними вишнёвыми пионами, которые он ей принёс. Он был к тому же хорошо воспитан: лучше, кажется, чем её дочь. Кто-то его научил поддерживать светский тон, ни на волос из него не выбиваясь. И даже целовать дамам ручки. Хорошо научил… неужели русские? Ах, на первый вгзляд – всем хорош, найди такого Света в Варшаве – и Яцек одобрил бы. А присмотреться – нет в нём гибкости, и мудрость, приходящая с возрастом, тут не поможет никак. Первый муж таких называл: «прямой, как шпала». И качеством этим восхищался. Что ж, оно и хорошо. Пока такая шпала тебе ноги не переломает. Или не проломит голову.
Света провожала маму с Андрейкой с весёлым лицом. И это не было притворством. Ну, почти не было. Они же теперь не растеряют друг друга, и Андрейка устроен, а в остальном… Света будет сама своя: интересно, какая она – сама своя? Вот встать утром – и делать, что хочешь – это как? Не захочешь готовить завтрак, а вместо того, например, захочешь поспать лишние полчаса – ну и фиг с ним… Это, конечно, эгоизм. Это пройдёт, просто она устала. Наверное, она не умеет любить по-настоящему. Разве от любви устают? Но теперь, когда мама нашлась и всё хорошо – Света вот проводит их, отоспится… И не будет больше уставать.
Андрейка воспринял разлуку с сестрой легко, как дело временное. Она же приедет скоро, да? Он нежился в двойной ласке – Светиной и маминой – и счастливое своё состояние не желал нарушать ненужными тревогами. А они обе – тем более не желали Ендрусю своему никаких больше горестей. Мама попросила, чтоб компания провожать Андрейку на вокзал не ходила. Там может быть кто-нибудь из посольства, и вообще не надо лишнего шума.
Проводы Андрейке устроили накануне, на Коблевской, у тёти Муси. Мама тоже пожелала присутствовать. Андрейка был на седьмом небе: вот у него мама какая! И как она ласкова со всеми, и даже подарила тёте Мусе какую-то помаду… А остальным было не по себе: Марина умела обвести вокруг себя невидимый круг, тактично и обаятельно – но ощутимо. И Андрейка был уже внутри этого круга. Так что простоты и обычного их веселья у компании в этот раз не было. Андрейке пожелали счастья. Он обещал писать.
Самое тягостное в провожании – это когда все ждут отхода поезда, а делают вид, что не ждут. Всё уже переговорено, уже на самом деле распрощались: скорей бы он отходил, этот поезд! Но он не отходит пока, и всё, что ни скажи – глупо, и обниматься неловко, потому что и обнимаясь – всё ждёшь, когда можно будет эти объятия расцепить. Потому что поезд – он штука железная, а его расписание – штука бумажная, и не могут живые люди к этому подстроиться совсем уж без фальши. А как стронется, скрежетнёт колёсами – вся неловкость исчезает. И все сразу оживляются и машут руками искренне. И вспоминают всё, что не успели ещё друг другу сказать.
Света провожала поезд впервые, и ей никто не сказал, что всегда так бывает. Поэтому она, почувствовав фальшь внутри, ещё раз убедилась, что она эгоистка бесчувственная. Так бесчувственно и вышла из вокзала, и до Гаванной добралась, и войдя в пустые комнаты – не всплакнула. И проспала двое суток, как убитая, даже ещё с небольшим хвостиком.
ГЛАВА 16
Света забросила сортировку писем: много ли одному человку надо? «Дяди Илюшины» деньги – так они с Алёшей называли сумму, которую отвалил Мишин папа за золотые империалы – она изрядно порастрясла на экипировку Андрейки. Обязательно она ему хотела новые ботинки, и чемодан настоящий кожаный, и костюм. Мама смеялась и отговаривала:
– Мы ему там всё купим!
Но именно это Свету не устраивало. Пускай Ендрусь приедет в Польшу не оборванцем каким-нибудь, а паном не хуже прочего всякого паньства. Знай наших! Андрейка, по счастью, понимал необходимость «держать фасон», так что пока мама занималась всякими документами – братец был одет с иголочки. Парикмахер дядя Нёма изобразил ему сногсшибательную стрижку под Ринго Кида и щедро оросил «шипром».
– Молодой человек, я вас таки сработал на экспорт!
Света была очень довольна. Просто удивительно, что от «дяди Илюшиных денег» что-то ещё осталось!
Но раз оставалось – то и хорошо. До осени можно себе голову не грузить. Накатила летняя сессия, и девчонки с их курса трепетали: экзамен по старославянскому языку у них должен был принимать сам профессор Дудкин! Грозный бог филологического факультета, который к тому же был совершенно бесчувствен к молящим девичьим глазкам! И вообще считал девиц малопригодными для науки существами. О том, как он «резал», ходили легенды – и хоть сотая часть тех легенд была же всё-таки правдой! А может, и больше, чем сотая. Пухленькая хохотушка Танька взрыдывала:
– Ой, девочки, ну ничегошеньки не соображаю! Светик, я ж погорю, как фанерный ероплан!
– Спорим – не погоришь!
– Спорим – погорю! Я его только вижу, мумия такого – у меня уже в голове гуси летят.
– Девочки, попьем компотика!
Кастрюлю с компотом разворачивали из мокрой простыни, где она содержалась для прохлады, и все с облегчением отвлекались от «юсов» и прочей славянской премудрости. Всё это происходило, конечно, у Светы. Тахта была завалена конспектами, девчонки были раздеты до трусов и лифчиков. Такая стояла жара, что на раскалённом подоконнике мухи дохли. Если в дверь звонили три раза – поднимался визг, и все кидались набрасывать на себя платья. Это, скорее всего, означало, что пришёл Алёша или ещё кто-нибудь из мальчишек. Нарушать учебный процесс.
После первого же экзамена Алёша заявился с бамбуковыми палками и мотком верёвок.
– Светка, у тебя где-то было покрывало – ну, зелёное такое.
– Ероплан будешь строить?
– Молчи, несчастная, укройся паранджой! Ты знаешь, что такое панкха?
Света фыркнула и рукой махнула. Она надеялась только, что это что-то не очень большое. Учебный процесс – это такая штука, которая норовит всё время прерваться. И с гениальной изобретательностью находит к тому предлоги. Сооружение панкхи – орудия английских колонизаторов для порабощения индийского народа – было предлогом не из худших. К вечеру загадочная панкха была готова: довольно нелепого вида рама с натянутым на неё покрывалом, подвешенная к тому месту потолка, где проходила балка. К нижнему её краю была привязана верёвка, и конец верёвки дали в руки Таньке:
– Качай, угнетённая!
С первого же маха на пол слетели кружки с недопитым компотом и банка с дохлыми, забытыми с прошлой недели чайными розами. Алёше с Мишей дали много полезных советов насчёт того, как лечиться надо, и они снова полезли на стремянку – что-то там перевешивать. В итоге сооружение заработало. Оказалось, что если не дергать за верёвку, как кошки ошпаренные, а колебать плавно – то получается приятный сквознячок и вообще вентиляция. Не такие уж дураки были колонизаторы. Жить умели. Качали все по очереди, но лучше всех приспособилась Надька-спортсменка. Она сидела в кресле, дрыгая ногой с привязанной верёвкой, и монотонно твердила в такт, в зависимости от экзамена – что полагалось заучить наизусть. В том числе и бессмертное:
– Плеханов-Игнатов-Засулич-Дейч-Аксельрод.
Это её Миша, специалист по сдаче общественных дисциплин, научил такому методу. Много лет спустя, вспоминая упражнения с панкхой, признался ей, как это на самом деле следовало запоминать. И она его чуть не убила.
А прорвались через сессию – и оказалась у Светы пропасть времени. Просто не знала она, что с этим временем делать. Они ездили с Алёшей на шестнадцатую станцию и заплывали в море – далеко, далеко, так, что берег казался красноватой полоской между двух голубых. Она сострочила себе две новых юбки. И так было хорошо идти с Алёшей куда глаза глядят по вечернему городу – в фонарях, и в звёздах, и во влажном шелесте. Алёша озоровал, ломал ей ветки акаций – в крупных и твёрдых кистях, и каждый цветок был – как девочка в капоре. Запах акации – каждый год как новый, и по-новому сводит город с ума. Но только раз за всю жизнь человеку положено сойти от него с ума по-настоящему. В то лето был их с Алёшей черёд, но они не знали этого. Они думали, теперь всегда так будет.
Света совсем не поняла, когда Алёша ей, оглушенной до невесомости, шепнул тогда, в первый раз:
– У тебя сейчас опасное время?
Она только кивнула: ещё бы не опасное было у неё то время… Но причём тут? Потом уж ей Надька-спортсменка растолковала, что это значит. И ей стало – до слёз: это, значит, называется опасным? Родить ребёночка? Такого маленького, беленького, он бы никому не мешал, кому бы он был опасен?
Потом, поуспокоившись, подумала, что Алёша прав, торопиться ни к чему. Будет ребёночек, обязательно – но лучше бы, когда они дипломы получат. Надька её научила, как считать дни. Но было в этом какое-то «всё же…» Ах, совсем бы, совсем сойти с ума! Почему обязательно надо всё время о чём-то думать?
Но раз уж всё равно приходилось думать, она снова стала подрабатывать сортировкой. Пока она всё же живёт сама по себе, а Алёша сам по себе хоть часть суток – свободное время она ведь может тратить, как хочет! А на Главпочтамте ей нравилось: запах гретого сургуча, прохлада, работа нетрудная. А всякие почерки она легко читала. Письма сортировались в обе стороны: в Одессу и из Одессы. Особенно надо было быть внимательной с письмами в Москву. Там могли случаться и конверты с надписями: «Москва. Кремль. Сталину». Такие полагалось складывать отдельно – но, подозревала Света, отнюдь не для скорой Сталину отправки. А совсем для других лиц на прочтение. Поэтому Света, когда попадались ей конверты, надписанные детской рукой – их незаметно припрятывала. Ребёнок может что попало написать, любую глупость. Ребячьи просьбы и жалобы могут оказаться таким криминалом, что ударит по всей семье. Света иногда бессовестно прочитывала некоторые письма прежде, чем спалить их дома в печке.
Пускай товарищ Сталин лично разберётся, что папы-мамы-дяди не виноваты. Пускай он заберёт кого-то из детского дома в суворовское училище. Пускай не ругают больше Ахматову, потому что бабушка говорит, что она великий поэт. Пускай папе, который воевал, сделают хорошие протезы, а то он в тележке на подшипниках ездит и поёт на базаре. Даже про черноморских греков было одно письмо: что, мол, напрасно их выселили.
Особенно Свете надоел один дурачок. Или дурочка: по почерку не разберёшь, но почерк запоминающийся. Она уже два письма уничтожила, не читая. Но и третье попало к ней в руки – упорное оказалось дитя. Намерено достукаться-таки. Это письмо она распечатывать тоже не стала. А пошла по указанному на конверте обратному адресу. Было недалеко, за Новым базаром. Ей открыл кругленький дядечка в пижамных штанах и в майке.
– Саша Менайко тут живёт?
– Я – его отец. Он натворил что-то?
Дядечка был приятный, с весёлыми глазами. И с виду добродушный. Света посмотрела ещё на его руки. Руки тоже подозрений не вызвали. Она вовсе не хотела рисковать: не положено ей письма с особым адресом таскать с главпочтамта. Но жаль бы было такого дядечку под монастырь подвести.
– Он с вашего ведома пишет в…
«Кремль» – она сказала шёпотом. Чтоб если был тут кто, кому не надо слышать – то не услышал бы.
– Что-о?
– Не знаю, что. Но – вы понимаете, я на сортировке, сегодня я, а завтра другая. Мало ли что он там пишет… Я думала, вам лучше знать.
– Деточка, я понимаю, я понимаю! Ради Бога, зайдите внутрь!
Нераспечатанный конверт жёг дядечке руки, но он не прежде его распечатал, чем усадил Свету на шикарный кожаный диван вишнёвого цвета и налил ей стакан боржому, каким-то чудом – холодного. Пробежав письмо, поднял на Свету расширенные глаза.
– Деточка! Как мне вас благодарить? Вы не представляете, вы просто не представляете, что этот паршивец… что вы для нас сделали!
Он её в полное смущение вогнал своими благодарностями. Она уж не знала, как уйти поскорее, потому что он хотел её знакомить с женой, которая вот-вот придёт, и он хотел знать, как её зовут – чтоб до конца дней молиться за её здравие, и предлагал почему-то, чтоб она бесплатно ходила в цирк, если хочет… если она любит цирк. Тут из угла заорал кто-то:
– Дусту в коробке!
Света даже боржом пролила. Там в углу сидел здоровенный попугай, белый с лимонным хохолком. И тряс дверцу клетки мощной пушистой лапой. Хозяин заизвинялся, обозвал попугая обормотом, и попугай огрызнулся:
– С первой пенсии отдам!
Света развеселилась: ей стало ясно, почему этот дядечка говорил про цирк. А он, убедившись, что Света не хочет называть своё имя, написал ей на бумажке своё, с адресом и телефоном.
– Деточка, если когда-нибудь, хоть чем-нибудь смогу вам услужить… Никогда не знаешь, кто может пригодиться… Ну, с любым делом, ну мало ли что – милости прошу и в лепёшку расшибусь! Ах, как жаль, что вы работаете на почтамте! Хотите, я вас устрою в цирк? Хотя, что я говорю… Я должен век благодарить, что вы работаете на почтамте. И наверно ж, не я один…
Потом он Свете показывал попугая, но ей всё-таки удалось унести ноги, пока этого попугая ей не подарили. Славный оказался дядечка, и Света надеялась, что паршивцу Саше не слишком крепко достанется по соответствующему месту. Записку с телефоном Света сунула между книг, и вспомнила о ней только через полтора года.
Алёша фонтанировал великими изобретениями, пока не чокнулся окончательно на радиоприёмниках. Изо всякого хлама и радиолома, добываемого в местах, которые надо знать, он лепил одно за другим какие-то чудища. Они хрипели и выли, а иногда разливались музыкой. В конце концов он создал схему, где корпусом была сама его комната, а по ней были протянуты проводки, присобаченные к лампам и катушкам. Письменный стол его был во многих местах прожжён паяльником, в комнате стоял приятный запах канифоли, а Алёша не намерен был успокоиться, пока не приспособится ловить весь мир – кто бы где ни вещал. Правда, родителям он об этом благоразумно не докладывал.
Павел ухмылялся: он и сам когда-то переболел интересом к технике. Пускай парень сидит, паяет, а то форменный разгильдяй вырос. Учиться ему, видимо, не составляет никаких усилий, так что это не заслуга. Но это стремление поразвязнее одеваться, но пошлые цитаты из каких-то американских фильмов, но хамское увлечение джазом… Придумали себе негры на плантациях дикарскую музыку – так на то они и хамово семя. А наши юнцы, казалось бы, дикарями быть не обязаны.
А Алёше затем и нужны были фокусы с радиоприёмниками, чтобы джаз ловить. Анна особо не волновалась. Да, какой-то Алёша стал легкомысленный, а приходят к нему приятели ещё разболтаннее, чем он сам, и не может же она не слышать, что они поют под гитару… Послушать – так полный бред, бессмыслица, а прислушаться – тем и наслаждаются, что бред, и есть в этом наслаждении нотки злого цинизма. Но – их ли вина в том, что детство пришлось на войну, и насмотрелись они всякого больше, чем по возрасту бы положено. Пройдёт. Перебесятся. А меру Алёша знает, из института его не выгонят. Он ещё когда маленький был, до войны, на удивление умел ориентироваться.
На Светину комнату Алёша тоже посягал в смысле радиофикации, но Света ему не позволила. Она радио не любила слушать. Тогда он ей смастерил какую-то штуку, сказал, что она будет неслышно верещать и отпугивать комаров – и комары, действительно, рассосались. Но одновременно забеспокоилась и воробьиха Чуча, боялась к окну подлетать. Так что штуку пришлось отключить, а с комарами и Чуча справлялась неплохо. Жаль только, что они в основном летали, когда она спала.
Эта Чуча как-то запорхнула в окно воробьёнышем-слётком, а с подоконника уже не могла взлететь. Света её стала подкидывать, но Чуча впала в полную панику. Так что пришлось её несколько дней водичкой поить и питать хлебными крошками. Она так у Светы освоилась, что, уже научившись летать, считала Светино окно и комнату своей вотчиной. Выяснилось, что она именно воробьиха, попозже, когда она снеслась прямо на балкончике, куда был выставлен за ненадобностью притащенный Алёшей деревянный корпус от радиоприёмника. Света в него думала насыпать земли и развести на балкончике цветы, но Чуча добралась до удобной коробки раньше. Видимо, её прельстили дырочки. Зимой Чуча, уже с компанией, возмущённо стучала в форточку, чтоб открыли, залетала поклевать чего-нибудь и погреться. Света от озорства научила воробьёв всяким штукам, в награду угощая тараканами. Этого добра в квартире хватало.
Письма от мамы и Андрейки приходили хорошие. Всё славно, Андрейка учится, польский язык – не проблема, он даже пишет без ошибок. И стихи продолжает писать. По-польски. Сестричка Яся (ну да, у мамы есть ещё Яся, это Яцека дочка) – очень милая и смешная. И передаёт Свете привет. Они бы так хотели, чтоб Света приехала в гости, хоть на несколько дней! Света ругала себя трусихой: почему-то ей было не по себе во всяких присутственных местах, а это же не шутка – визу оформлять в иностранное государство! Хоть у нас с Польшей и особые отношения…
Всё же набралась духу и пошла. Ожидая нудных очередей под кабинетами, расспросов, похожих на допросы, беготни за всякими справками… Но всё оказалось на удивление легко, ей даже приветливо помогли заполнить анкеты, и совсем не придирались. Характеристику из деканата только потребовали и приглашение от мамы, должным образом оформленное. И – позволили ехать безо всякой волокиты! И – она поехала, сразу после зимней сессии! В Варшаву, с ума сойти!
Сказочная это была дорога: всё вокруг в снегу, а в купе тепло, и лампочка синяя ночная, а в коридоре – ковёр. За границу плацкартой не ездят, только в мягких вагонах. За окном – то изукрашенные пластами снега ели, то домики с дымом из труб, как на детских картинках, то пухлые белые поля, а над ними низкие облака. И попутчики были приятные: двое молодых военных и дама пожилая, офицерская жена. Военные хотели переместить Свету на нижнюю полку, но она упёрлась: так было хорошо лежать там наверху и смотреть в окно, посасывая прямоугольничек железнодорожного сахара. Его вместе с чаем приносили. А дама всё норовила Свету покормить, и рассказывала про Варшаву. Она с мужем там уже третий год жила. А это ездила проведать сына с невесткой на Новый год. У неё внучек родился, Митькой назвали. Про Митьку, конечно, дама рассказывала больше всего: какой он умный – уже своих узнаёт, да какой горластый – генералом будет. Но и про поляков рассказывала тоже.
– Не по-нашему, конечно, живут. Европа! Бедно у них теперь, после войны-то. Но гонору – немеряно! Вот он тебе будет в латаных брюках, а стрелки на тех брюках заглажены, как на парад. Дамочки в шляпках, каждая из себя такая кобета – прямо пшик и форс! А посмотришь – ношеное всё, перешитое, и ботиночки каши просят. А наших не любят, нет, не любят. Вежливые: всё «прошу», да «пшепрашам» – а не любят.
Мама с Андрейкой Свету встречали, с шиком повезли с вокзала в такси. Снег шёл, валился на целые дома, на стройки в лесах и на чёрные провалы. Провалов было много. И везде, везде надписи: «одбудуемы!» Вот кусок стены с овальным, бальным каким-то окошечком, на самом верху, под фигурным карнизом. А больше нет ничего – ни справа, ни слева. Свету развалками было не удивить, но тут было их больше, чем в Одессе. Уже сумерки были, загорались окошки, и было видно: где живут люди, а где не живут. Но шёл снег и всё умягчал, а от маминого воротника пахло загадочно и свежо, так бы пахла сказка про Золушку. Интересно, у них тут в Варшаве танцуют? – подумала Света с беспричинным весельем. Это было любимое её состояние: вечер, поле, огоньки… И беспокойно, и беззаботно, и куда-то летит душа: что-то будет… Эх, будь, что будет!
Пан Яцек оказался хоть и паном, но видно было, что хороший человек. Он обрадовался Свете, но театра из этого не устраивал. Он ей по-простому обрадовался. Маленькая Яся в клетчатом платьице, лопоча по-польски, сразу потащила Свету в свой уголок показывать куклу Каролинку и всё Каролинкино обзаведение. Свете почти никогда не приходилось говорить по-польски, но понимать она понимала. Читала когда-то мамины польские книжки, и вообще что-то помнилось. Она жизнерадостно занялась Ясей и Каролинкой, пока мама накрывала на стол. Когда Андрейка сунулся вытаскивать их к чаю, они с Ясей уже успели Каролинку накормить, поставить в угол за капризы, простить и из угла выпустить, и даже покачать её на качелях из носового платка. Только уже продолжая болтать с малышкой, пока они вдвоём мыли руки, Света спохватилась: это на каком же языке она-то сама болтает? Но не слишком удивилась. С ней уже бывало так, что всё получается, когда на неё накатывает это лихое веселье.
Яцек только брови поднял, а потом рассмеялся:
– Ну, не ждал!
Сам он прекрасно говорил по-русски, на этот язык и перешёл, не желая Свету утомлять. У него отец – поляк из России. То есть, не отец, но больше, чем отец. Он Яцека подобрал маленьким, в тифозной эпидемии, Яцек своей настоящей фамилии не знал никогда. И сам Яцека вырастил, и всему научил, и русскому языку тоже. Он был врач, отец, а сам Яцек архитектор. Ну, военными все были, но теперь он архитектор. А по нему было видно, что он был военным, пан Яцек: он так голову держал. И плечи. И совсем он не старый, просто седой, а если б не это – был бы похож на легионера в конфедератке с гравюры в одной из маминых книг.
На столе стояла низкая плошка из грубой глины, а в ней как-то были установлены еловые веточки, и свечка пристроена. Света залюбовалась, и Андрейка тут же сообщил, что это мамино изобретение. Яся не хотела, чтоб разбирали рождественскую ёлку, а пора было уже. Ну вот мама так и устроила, и Ясе понравилось, и она не стала плакать. Здорово, правда?