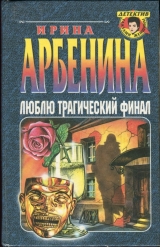
Текст книги "Люблю трагический финал"
Автор книги: Ирина Арбенина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Скинхеды – это ветер… Когда в одной точке слишком нагрелось, а в другой холодно, поднимается ветер… С этим никто еще ничего не мог сделать. Нельзя остановить или запретить ветер. Он регулирует температуру в природе. А скины регулируют соотношение сил между этническими группами в огромном городе.
Умные, образованные люди потратили много времени, обосновывая расовые теории… Наши противники утверждают: эти теории опровергнуты. Хотелось бы знать: каким образом?! Чем они опровергнуты?! Тем, что вот эти Албоки безнаказанно размножатся? Вы не согласны?
– Ну, как вам сказать… – Аня смущенно потупилась: в ее планы не входило разрушать доверительность беседы бурными возражениями. – Меня лично немного смущает практика… По-моему, если эти теории и опровергнуты, то исключительно практикой.
– То есть?
– Ну, в теории эти идеи, особенно для постоянно раздраженного городского человека, замученного призывами быть добрым и милосердным и плохо защищенного от Албоков, выглядят эффектно… Зло вообще часто выглядит умнее доброты. Но практика… Каждый раз, когда эти эффектные теории имеют возможность беспрепятственно воплотиться, получается какой-то тупик… Зло, такое поначалу вроде бы умное, заканчивается отчего-то тупиком. Грандиозным тупиком. Например, таким, как у Гитлера…
В общем, они еще потолковали в том же роде. При этом Светлова упорно старалась от теории перейти к обсуждению именно практических акций конкретных скинов.
Отличник был искренним. И когда он сказал, что к скинам смерть девушки-цыганки отношения не имеет – не наш почерк! – Светлова ему поверила. Поверила еще и потому, что Отличник в качестве одного из главных идеологов движения явно был «в курсе» – владел информацией.
– Я не криминалист, конечно… – Философ наморщил умный высокий детский лобик. – Но уж скорее это маньяк… А мы не маньяки. Мы действуем осмысленно.
На прощанье Отличник протянул Ане книжку:
– Ознакомьтесь… Наверняка вы не читали. А это любопытно.
Аня раскрыла ее вечером… И не могла оторваться. Такого имени она раньше не слышала… Поль де Сен-Виктор в переводе с французского Максимилиана Волошина.
Цыгане
«Жил-был некогда цыганский король», – говорит капрал Трим дяде Тоби в «Тристраме» Шенди. И это все; начатая история прерывается и так и остается неоконченной. История цыган вся в этом сказочном вступлении: жил был народ, называвшийся цыганами, богемцами, цынгарами, ромами, gipsies’ами, gitanos’aми и т. д. Историки больших дорог знают не больше капрала Трима. Долгое время происхождение этого необычайного племени оставалось так же загадочно, как истоки Нила, с берегов которого они пришли, судя по их собственным утверждениям. По санскритским словам, встречающимся в их языке, составленном из всех наречий Земли, наука узнала об их таинственном происхождении. Таковы раковины, привозимые из Бомбея и Цейлона: если приблизить к ним ухо, то услышишь отголосок Индийского океана. Каким образом неподвижная Индия породила это кочующее племя? Как случилось, что оно не вынесло из своей родной страны, кишащей богами, ни одного идола, ни одного фетиша, ни одного обряда? Вопросы остаются без ответа. Вопрошаемый сфинкс не дает разгадки. Он смотрит на вас с коварной и грустной улыбкой; он бормочет вместо ответа: «Египетские дела».
Можно понять изумление христианской Европы, когда в XV веке во всех концах ее земли вдруг появились эти необычайные орды, казалось, упавшие с другой планеты. Летописцы осеняют себя крестом, описывая этот сброд черных людей, гримасничающих детей и диких сивилл. Они шли маленькими шайками, большими отрядами в сопровождении охотничьих собак, с графами в лохмотьях и с герцогами в отрепьях впереди, верхом на апокалиптических одрах, и ютились у городских ворот под грязными палатками или в повозках, которые точно сохранились после поражения Синнехариба. Здесь они рассказывали, что осуждены папой блуждать по свету в наказание за отступничество. Там – что Бог сам обрек их на странствия в наказание за то, что они отказали в гостеприимстве святому семейству во время бегства в Египет. Восточное лукавство мистифицировало готическую доверчивость. Средневековье поверило этим скоморохам, загримированным кающимися и пилигримами; оно выдавало им буллы, проходные свидетельства, подорожные, жаловало им всякие странные и наивные привилегии. Между тем втершаяся раса втихомолку наводнила Европу. Эта восточная проказа захватывала целиком весь христианский мир. Только что это была лишь одна черная точка в Валахских степях – вскоре всю Европу испещрили их подозрительные и грязные становья.
Легче описать пути облаков или саранчи, чем проследить следы их нашествия. Таинственность, присущая этому странному народу, обволакивает его вечные странствия. Ветер стирает следы их ног. Там, где было сто, их уже тысяча. Они плодятся с невероятной быстротой, как насекомые. Испания проснулась однажды, покрытая этими гнидами, как «Вшивый» ее Мурильо. Они отправили целую армию в Англию, и она переплыла через море, невидимая, как те колонии крыс, которых привозит в своих трюмах корабль, пришедший из-за тысяч морских миль. Прежде чем он поднял якорь, страна уже заполонена ими. Пассажиры ничего не видели и ничего не слышали, кроме глухого шороха на дне трюма.
Такими они были, такими они и остаются. Ни одна из черт их первоначального типа не стерлась, и на просеках Шотландии, и под кактусами Андалузии вы найдете тех же самых смуглых людей с горбатыми носами, с желтыми белками, с волосами жесткими, как конский хвост, которые пугали старых летописцев. Калло подпишет «с подлинным верно» под пышными лохмотьями, в которые они драпируются; он узнает их комические кибитки, нагруженные кастрюльками и цимбалами, мишурой и живностью, мегерами и красивыми девушками, с важностью сопровождаемые смешно выряженными бродягами и детьми с горшками на голове. Это все один и тот же народ (блуждающий без очага и пристанища, без законов, без религии, рассеянный по всем тропинкам мира, по которым они ведут свои черные караваны), всюду тождественный самому себе. Он сохранил свою мечтательную леность, себялюбивую независимость, неведение добра и зла, упорный мятеж против законов работы и принуждения.
Безнравственный и поэтический, как природа, он требует от тех цивилизаций, между которыми проходит, лишь права убежища в их обширном храме. Другим – города, охраняемые полицией, крепкие дома, зиждительный очаг, прикрепляющая к земле нива, безопасное существование, умственные труды. Цыганам – густые леса, каменистые сиерры, своды разрушенных мостов, шатры, каждое утро сворачивающиеся вокруг страннического посоха, отвратительный котелок, в котором варятся, за неимением другой добычи, еж и крот. Им распущенность и случайности инстинктивной жизни, повинующейся лишь побуждениям плоти и влияниям луны.
Их кражи напоминают хищения диких зверей. Они крадут изо дня в день без всякой мысли о будущем и о запасах. Они завладели правом волка над табунами, правом коршуна над птичьим двором, правом змеи над скотом, который они отравляют ядами, вынесенными из джунглей, чтобы на следующий день идти выпрашивать трупы. Из всех видов работы цыган занимается только пародиями: водит медведей, стрижет мулов, предсказывает судьбу; и этой игрушечной монетой оплачивает свое пропитание. Он находит то же удовольствие в хитростях и наведении барышничества.
День ярмарки для него то же, что ночь шабаша для колдуна. В руках этого фокусника Россинант становится мощным, как Буцефал. Скелет, разбитый на все четыре ноги, который еще накануне едва волочит копыта, с заволокой на шее, превращается в горячего скакуна, дымящегося и бьющего копытом. Соблазненный gorgio раскошеливается, чтобы купить его; он вскакивает на него, дает ему шпоры… И во время галопа апокрифический зверь вдруг начинает иссыхать у него между ногами; его живот тает, как снег на солнце; его поддельная грива остается в руке ошеломленного деревенщины.
Иногда еще цыган становится кузнецом; но с наковальней он обращается виртуозно. Шум мехов напоминает ему ветер, дующий между деревьев, стук молотков радует ухо; его подвижный ум танцует и пляшет вместе с искрами. «Они сыплются розовые, рдяные, как сотни прекрасных девушек, и в то же мгновение угасают, описав красивый круг». Так поется в цыганской песне.
Вот его ремесла; что же касается до искусств, то он знает только одно – музыку. Это текучее искусство, в котором мысль растворяется, – истинная стихия его души. Цыган разговаривает только посредством своей скрипки, но и здесь он отстаивает свою независимость. Цыганская музыка – это звучная fantasia: никаких правил, никакой дисциплины. Ритмы прыгают, ноты льются, мелодия, едва возникнув, разбегается зигзагами в лабиринтах фиоритуры; рыдание разрешается взрывом хохота, анданте, замирающее, влачившееся по струнам, превращается в галоп бешеной стретты. Это штрихи, которые уносят душу, арабески феерического богатства, фразы, которые плачут, точно голоса женщин жалуются между золотистых дощечек заколдованного инструмента, переходы внезапного энтузиазма, то подымающего воображение до самого неба, то кидающего в преисподнюю земли. Я помню, как слушал Marche de Rakocy в исполнении виртуоза, воспитанного в их школе. Напев, подхваченный с молниеносным блеском, терялся в неразличимых шорохах… Только что это было «ура» эскадрона, несущегося в атаку с обнаженными саблями… Сейчас это точно военная песня армии насекомых.
Великая поэзия цыганства – это цыганка. Когда она красива, ее красота становится наваждением. Ее цвет лица, осмуглевший на солнце, таит прелесть тех плодов, которые влекут их отведать; а кошачьи глаза, в которых нет ни одного луча нежности, околдовывают каким-то магическим ясновиденьем. В ее стоптанных туфлях скрываются ноги, достойные опираться на пьедестал; она поражает своими волосами, густыми и крепкими, за какие некогда привязывали пленниц к колеснице победителя. Мишура идет к этой девушке случая и вымысла; живая ложь, она гармонирует со всеми неправдами туалета и украшений. Ее гибкое тело удивительно вяжется с полосатыми и яркими тканями. Стекляшки, бусы, амулеты, искусственные жемчуга, красные ягоды, турецкие монеты – вот та чешуя, которой отливает эта змея. Дурной вкус подобает идолам.
«Если у тебя родится дочь, – говорит одна из священных книг Индии, – дай ей имя звучное, обильное гласными, сладкое для уст мужчины». Цыганки не забыли этого наставления старых браминов. Они зовутся – Морелла, Кларибель, Прециоза, Меридиана, Агриффина, Орланда: именами цветов и звезд. В таборе они играют роль зеркала в охоте на жаворонков. Соблазнить чужестранца, прельстить покупателя, ослепить gorgio, выманить своими неотступными глазами перстни с его пальцев и монеты из его кошелька – такова их задача, и они выполняют ее с хладнокровием сирен.
Одну из немалых тайн цыганского табора представляет целомудрие его женщин посреди огней и пряностей адского кокетства. Дон Жуан развернул имена всех рас в своем международном списке; вы найдете там даже написанные справа налево китайскою тушью. Но читайте внимательно: вы не найдете ни одного цыганского имени. Последняя из gipsies, которой предложат в любовники лорда Англии, подымется с негодованием креолки, обвиненной в том, что она отдалась негру.
Говорят, что каирские альме меркнут рядом с московскими цыганками. Они увлекают молодежь знатных семей и разоряют их вотчины подобно нашествию иноплеменников. Мода и страсть требуют их присутствия на кутежах. Они пляшут там танцы Иродиады, такие танцы, что кажется, будто они укушены в пятку ядовитым насекомым. Воздух загорается от кружения их платьев, их безумные глаза, их сладострастные жесты обещают пламенные наслаждения. Трепет любви пробегает по зале, головы кружатся, сердца порываются, золото и драгоценности пригоршнями летят к их ногам… они же остаются холодными, как саламандры, танцующие в глубине костра.
Раздув это огромное пламя, они ускользают, и кто последует за ними, увидит, что они бегут далеко в поле к ночному табору или спешат к черномазому скомороху, храпящему в конюшне на навозе. Есть злость в истерике их пляски: можно подумать, что эти жестокие плясуньи забавляются, дразня страсти и истязая желания. Их любимый костюм кажется эмблемой этой свирепой игры. Это юбки с нашитыми кусками красной материи, вырезанной в форме сердец: сердец раненных, сердец пронзенных, сердец пойманных, как бабочки на лету танца, сожженных в пламени этих глаз, бесплодных и ослепительных, и наколотых на сверкающую юбку, их соблазнившую, булавками «порчи», сердца врагов, выставленные напоказ, как головы гяуров на зубцах сераля, – коллекция убитых сердец, выставленная жестокой красавицей, украшающей себя ими, как пантера пятнами свою шкуру!
Эта верность мужчинам своего племени является не столько добродетелью, сколько инстинктом крови. Их охраняет презрение, а не стыдливость. Эти самые женщины, которых не сможет соблазнить золотой дождь, продадут за одну гинею честь молодой девушки. Только среди цыган можно встретить своден-девственниц. Эти горностаи превосходно умеют расхваливать грязь и заводить в тину.
Красота цыганок вспыхивает и проносится, как метеор. Они быстро стареют, и безобразие пожирает их. Все в них – крайности, нет середины между Пери и чудовищем. Встретивший на дороге одну из этих старух-уродин останавливается, точно окамененный взглядом Медузы. Солнце их сжигает, дождь покрывает ржавчиной, ветер губит, годы искажают и сгибают пополам. Их лицо представляет одно нагромождение морщин, которые резко обозначаются при свете голубого неба. Одни глаза сохраняют звездный блеск, пророческие зарницы заступают место чувственного пламени.
Из своего свободного царства крылатого танца они спускаются в таинственную империю мрака. Они только переменяют трон. Сколько неверующих поверило оракулам, исходящим из этих замогильных уст! Сколько сердец было вскрыто этими зрачками, горящими как угли и читающими во мраке! Сколько людей, пришедших с улыбкой на устах, вышли из их пещеры задумчивыми, как Макбет после появления ведьмы.
Люди сумели разобрать египетские иероглифы и ниневийские клинообразные надписи, никто еще не разгадал загадку этого племени, живого и существующего. Обязанность ли философа, или натуралиста разобрать его душу, по-видимому, лишенную всех способностей мышления и морального чувства. Народ без традиций, состоящий из индивидуальностей, лишенных памяти! Какое чудо сохранило слиток этих столь подвижных молекул? У него нет истории; придя к нам в сказочном облаке, он привык жить в нем и так сгустил все тени, что сам не мог бы отличить теперь реальностей от своих вымыслов. Никаких воспоминаний о первобытной истории, никакой тоски по родной земле. Можно подумать, что в первый же день своего исхода он перешел вплавь реку Забвения.
У него нет бога. Его религия подобна религии журавлей, которые вьют гнезда сообразно времени года, не отличая карниза готического собора от балкона пагоды. Католик в Испании, протестант в Англии, магометанин в Азии, он переходит из Церкви в Мечеть, от обрезания к крещению с невозмутимой беззаботностью. Народ в Валахии говорит, что «цыганская церковь была построена из сала и собаки ее съели». В их атеизме нет ничего кощунственного, они не отрицают, они не утверждают – только их непостоянный дух ускользает от стеснений догматов, как их подвижное тело – от оседлого существования. Этот признак расы наблюдался и был засвидетельствован во все эпохи. Таллеман де Рео рассказывает, что королева Анна Австрийская поместила в монастырь для обращения молодую танцовщицу по имени Лианса, которая забавляла двор Людовика XIII. «Она едва не довела всех до неистовства, – говорит он, – потому что начинала танцевать, как только речь заходила о молитве».
Каким образом цыган мог бы подняться до идеи божества, когда у него едва ли есть сознание собственной личности? Он так же мало знает о себе, как птица о естественной истории, каждая ночь стирает для него события предшествующего дня, каждое утро он пробуждается к существованию, как бабочка, вылетающая из своей куколки. Расспросите его о минувшей жизни, он путается – бормочет и рассказывает вам отрывки своих снов… Борроу передает слова старого гитано, которые проливают странный свет на то, что совершается в этих темных головах. «Помню, – сказал ему его проводник Антонио, – что, будучи еще ребенком, я начал однажды бить осла. Мой отец тотчас же схватил меня за руку и стал мне выговаривать: «Не бей этого животного, потому что в нем живет душа твоей сестры». – «Разве ты можешь этому поверить, Антонио?» – воскликнул Борроу. На что цыган ответил: «Да, иногда, но иногда и не верю. Есть люди, которые ни во что не верят, даже в то, что они сами существуют! Я знал одного старого Калоре, очень старого, ему было за сто лет, который всегда повторял, что все вещи, которые мы видим, – одна ложь и что не существует ни мужчин, ни женщин, ни лошадей, ни мулов, ничего из того, что кажется нашим глазам существующим».
Не в этом ли ключ загадки? Не являются ли эти слова нравственным паролем кочевого племени? Они объясняют его наивную извращенность, звериные нравы, беззаботность о завтрашнем дне и почему оно проходит равнодушно через города и леса, не различая одни от других. Цыган не живет, он грезит, он проходит с чувством собственного небытия между призраков и всех вещей, он проходит по миру, как светящийся призрак по полотну – без планов и без глубины. Поэтому все действия ему кажутся безответственными и ненужными, как движения тени, лишенной сущности. Зло стирается, добро исчезает, он не больше, чем сомнамбула, заблудившаяся в огромной и насмешливой фантасмагории. Umbra – говорит одна римская гробница. Nihi – отвечает ей соседняя могила. Прошлое, настоящее и будущее цыган заключено в этих двух словах.
Как бы там ни было, их остерегаются, но без ненависти, этих детей Рока, этих праздных королей уединения, этого племени, скорее вредного, чем злого! Они украшают восточными группами пейзажи Европы. Муза часто посещает их становья, каждый раз она уводит оттуда в поэзию или в музыку бессмертные типы: Эсмеральду, Миньону, Фенеллу, Прециозу. Их караваны проносятся посреди трудолюбивых цивилизаций.
Бог весть какой химерический стяг безделья… Часто воображение, утомленное стеснениями общественной жизни, расправляет крылья мечты, чтобы скитаться за их шатрами. В тот день, когда они исчезнут, мир потеряет, правда, не добродетель, но одну частицу своей души».
«В чем мальчик-отличник прав, – думала Светлова, дочитав Сен-Виктора, – так это в том, что возражения ему, мальчику, должны быть действительно не такими беспомощными. Неизвестно, правда ли, что расовые теории создавали умные люди… Но вот возражают им действительно все без разбора, в том числе и дураки».
Итак… Версия со скинхедами сдохла.
Каникулы стремительно приближались к концу. И обратный билет почти жег Айле руки. Она думала уже, что они и расстанутся так – просто как добрые знакомые. И вдруг…
В предпоследний вечер их встречи, когда они бродили вдвоем по городу, он сказал:
– Айла, милая… Я нетороплив по природе… и не люблю в важных вещах поспешности… Если бы вам не надо было через два дня уезжать, я бы не был так смел… Но… В общем, я хочу пригласить вас к себе и познакомить со своими родителями.
У студентки упало сердце. От счастья, конечно. От счастья.
– Знаете, мы живем с родителями за городом. Тихо, большой дом… никакой суеты.
Он обвел рукой гудящую набережную, по которой они с Айлой прогуливались…
– Там у нас сад… Ну, огород, естественно… Есть даже маленькая банька…
– Что такое маленькая банька? – удивилась девушка.
– Ну баня… где парятся.
– О, баня! – Айла мечтательно возвела глаза к небу. – У нас дома – это просто культовое мероприятие! Как все было принято века назад – почти ничего не изменилось…
– Что вы говорите! – Он наигранно поддержал ее воодушевление.
– Да, да… Старинная традиция! Я не очень понимаю, что есть «маленькая банька»… Даже в самом простом хамаме как минимум несколько залов…
– Хамаме? – переспросил он.
– Ну да… Так у нас называют бани… В хорошем хамаме сначала входишь в просторный зал… Где непременно льется дневной свет сквозь отверстие в потолке… В центре – большой мраморный бассейн, по углам фонтаны… А вдоль стен тянутся мягкие диваны… Здесь тебя заворачивают в шерстяные простыни, а голову повязывают полотенцем…
– Рассказывайте, рассказывайте, – поддержал он свою прелестную собеседницу.
– Дальше надо пройти шесть комнат, в каждой из которых льется сверху, сквозь купол, свет… Первая комната прохладная, вторая теплее… В третьей температура уже, ну, градусов сто двадцать. Здесь уже нужно задержаться… Ох, что я все говорю! – спохватилась девушка. – Вам, наверное, скучно?
– Ну что вы! Напротив! Повторяю: рассказывайте. Что может быть лучше – во время прогулки – приятной беседы?
– Ну вот… – И Айла, успокоившись, продолжала рассказывать дальше: – Здесь начинаются процедуры… сначала мыльной пеной моют волосы… растирают с ног до головы намыленной фланелью. Потом опять щеткой и мылом. Потом берут пальмовое волокно. Ну, его у нас особым способом изготавливают: сначала размачивают в воде, потом сушат на солнце, растягивают… Это пальмовое волокно – своего рода мочалка, но оно очень жесткое… просто кожу спускает…
После каждой процедуры окатывают водой… И уже думаешь, ну может, хватит?
Он рассмеялся.
– И тогда посыпают лицо специальным белым порошком и опять ведут из одной комнаты в другую… И все они – одна жарче другой… В самой жаркой, где градусов сто пятьдесят, надо пробыть минут двадцать.
– Надо же!
– Но тут дают ледяной шербет и на голову холодное полотенце… Ступни растирают пористым камнем… Белый порошок понемногу сходит сам.
– Все? – лишь чуточку нетерпеливо спросил он.
– Потом в обратный путь… через все комнаты, с десятиминутной остановкой в каждой… Снова намыливают и обмывают водой, и вода становится все прохладнее… Самое жуткое испытание уготовано в холодной комнате: здесь обрушивается поток совсем ледяной воды…
– Ледяной воды? – Он снова рассмеялся. – Что-то знакомое…
– Теперь возвращаешься в зал, заворачиваешься в простыни и ложишься на диван… Вокруг все усыпано лепестками роз, курятся благовония, тебе подносят обжигающий горький кофе… Потом подходит массажистка и начинает мять тебя, как тесто… И, конечно же, в конце концов ты засыпаешь… Просыпаешься: кругом женщины танцуют, веселятся, едят сладости…
– Просто рай…
– Да… В хамаме можно все… Можно покрасить волосы хной, а можно хной нарисовать на ступнях, например, маленькие звездочки…
И хоть огонь здесь пылает подобно адскому,
Мы называем это место раем…
– Неужели угадал? – Он задумчиво смотрел на девушку. – Как все это, однако, любопытно… И действительно на наши «маленькие баньки» это не слишком похоже. И потом, знаете, у нас-то, как правило, неожиданности другого рода: например, называют раем, а подобно аду…
Появление дракончика требовало объяснений, а Старикову Аня не могла врать.
– Значит, ты все-таки этим занимаешься? – осуждающе вздохнул Петр.
– Но я же больше не видела того человека!
– Это уловка. Получается: не так – так иначе, не мытьем, так катаньем.
Аня грустно молчала.
– Пойми… – наконец сказала она. – Я не могу. Когда я думаю, что Джуля где-то есть… А я ничего не предпринимаю… В общем, я чувствую себя бессовестной… Вот я не пошла тогда в этот «Молоток». А ведь это очень важная деталь. Может, даже ключ ко всей этой истории.
– Ты что же, Аня, надеешься, что она там сидит и ждет тебя? Или тот, кто… – Петя запнулся, – причастен к ее исчезновению, тебя там дожидается?
– Знаешь, в каждом хорошем ресторане есть клиенты, которые посещают его постоянно. Иногда годами, иногда каждый день…
– Ну ладно… – снова вздохнул Стариков. – Ладно. Приглашаю… Я не то, что этот твой… клиент. Столик заказать в состоянии.
Кирилл Дорман схватил удачу за хвост. Это бывает – иногда! – когда люди не изучают конъюнктуру, не рассчитывают, где повыгоднее применить свои способности, куда «вложиться», а делают то, что очень хочется. То есть то, что всегда хотелось, но не было возможности.
Все его знакомые в один голос говорили: «Кирюшка, ты сошел с ума! Какое высокое искусство?! Какая опера?! Ты посмотри вокруг…»
А посмотреть было на что… Страна, истосковавшаяся по пороку в условиях вечных запретов и ханжеской морали, подтверждая Иммануила Канта: «Чем выше мораль, тем ниже нравственность», ринулась потреблять самую низкопробную масс-культуру…
Впрочем, страна, конечно, всегда ее потребляла, но раньше она была своя, доморощенная, а эта – заокеанская, импортируемая… В начале девяностых порнуха, за которую прежде судили хозяев злачных подпольных видеосалонов, шла по первым каналам в самое рейтинговое время… В то самое, в которое раньше говорили о том, что экономика должна быть экономной и что советский человек не может быть рабом вещей.
Потом «рабы вещей» добрались до запретных и недоступных прежде шмоток… Ну, а вслед за тем накинулись на чтиво и прочие издержки свободы…
И никто (во всяком случае, не многие) еще не подозревал, что обжираловка скоро кончится… Что пресыщение всей этой мутью наступит очень скоро…
Подозревал это сам Дорман или не подозревал? Ну, возможно, если бы у него было время поразмышлять на эту тему, он сказал бы себе, что рано или поздно люди, вышедшие из низов и накопившие деньги, пересмотрев и перепробовав все, что можно и нельзя, начнут вместо вульгарных рыночных вещей покупать в бутиках Версаче и других художников моды… Потом станут завсегдатаями Сотбиса…
И от концертов попсы перейдут неизбежно и в музыке к высокому искусству!
И, в общем, получалось, что рано или поздно толстым кошелькам от Кирилла Дормана никуда не деться.
Поскольку опера всегда была, есть и будет приметой, знаком… обозначающим вкусы и привычки, традиции людей определенного круга.
А уж так получается, кто бы что ни говорил и кто бы откуда ни вышел; но появились деньги – и человек стремится стать частью этого круга, и уж если не сам, то хотя бы его дети войдут в него.
Обо всем этом Кирилл Дорман мог бы подумать, будь у него больше времени…
Но ему было некогда. Со всеми нерастраченными, накопившимися под спудом запретов силами он бросился делать то, что раньше не мог… О чем и мечтать-то не решался – свой новый оперный театр…
Еще давали шальные деньги… Еще действовали на чиновников слова о том, что «культура в упадке, и если сейчас не… то тогда все… конец».
Фильм «Красотка» посмотрели к тому времени все…
Пыльный бархат, толстые певицы с партбилетами, обеспечивающими им заглавные партии, достали всех, кто что-нибудь чувствовал и понимал…
Нет, ничего похожего на обычные московские театры… никаких культпоходов для школьников-вандалов, жующих чипсы. Никаких зрительниц из числа женщин-командированных в намертво пришпиленных к голове пыльных вязаных шапках… никаких жителей спальных районов, выбравшихся в центр за культурой и отпускающих реплики с наивной тупостью, как дети на новогоднем представлении… «Ой, гляди, Зин, а она его счас обманет…» Никаких бесцеремонных злых старушек-контролеров с шипящими голосами…
Нет, здесь, у Дормана, в его новом театре, театре «Делос», – все будет по-другому.
Это будет увлекательно, занятно… Это будет не скучно.
Это будет совершенно новый театр, новый от начала до конца, с предупредительными молодыми мужчинами-стюардами, с шампанским, кондиционированным воздухом, красивыми, стройными певицами, хорошими голосами…
Кирилл Бенедиктович начал с кантаты Баха… И своими вмиг ставшими знаменитыми «кофейными вечерами», с настоящим свежесваренным кофе и свечами, покорил Москву…
Время шло, а «Кирюшка» не прогорал, к удивлению своих приятелей и приятельниц, доброхотов и доброжелателей… Хотя сколько уж народу разорилось из тех, кто ставил на низкий вкус…
Нет… Нуворишам льстило, что они идут в оперу.
А что?! Это оказалось – вот так сюрприз! – и вправду здорово… По крайней мере, стало понятно: почему это народ так раньше-то, в старину, – все «в оперу, да в оперу»! Ложи бронировали, «сладостным времяпрепровождением» именовали… и прочее.
В общем, богачи, желавшие «приобщиться» к элитарному искусству, постепенно вошли во вкус, стали ценителями и преданными поклонниками оперы Дормана… Дипломаты и иные иностранцы, которым надоел постоянный пункт культурной московской программы в виде «Лебединого озера» в Большом и для которых опера всегда, без перерывов на несколько десятилетий, была нормальной частью досуга, в театре у Дормана, понятное дело, тоже не переводились, а составляли обычно минимум половину зала…
Дорман не прогорал. К удивлению самого Дормана. Поскольку еще несколько лет назад даже сам Кирилл Бенедиктович Дорман сказал бы, что скорее всего «это» случится поздно, чем рано… Постепенно, когда-нибудь…
Нет, он и сам, конечно, не знал тогда, начиная, как быстро, как рано придут к нему и его театру успех и процветание…
Более того: в нынешнюю осень опера стала самым модным, самым стильным и продвинутым способом времяпрепровождения в городе…
А театр «Делос» – местом, куда билеты следовало доставать загодя.
Именно в оперу «Делос» и торопился преимущественно народ, подруливавший к этой известной всей Москве арке… А вовсе не в ресторан «Молоток», что находился в непосредственной близости, тут же, рядом, и привлекал гораздо меньше посетителей… И куда, собственно, и направлялись Аня и Стариков.
В прошлый раз Светлову с «клиентом» не пустили в этот ресторан… Но теперь они с Петей заказали столик заранее. И вот…
– Что-нибудь простое и легкое… например, рыбу… – попросила Анна.
– Да, рыбу… – поддержал Петя.
– И не слишком, пожалуйста, если можно, в смысле соусов и специй…
– Можно, у нас все можно, – кивнул официант. – Вы, наверное, приверженцы английской кухни? Явно не французской…
– А есть разница?
– Ну как же… Разница, в общем, принципиальная. Французская – это сложные соусы, много продуктов в самых необычных сочетаниях… Так, что в итоге не догадаешься, что же туда было положено изначально… Как я понял, вы этого как раз не желаете?
– Не желаем, – подтвердила Аня.
– А английская кухня – это простота… Главный критерий – должен чувствоваться вкус натурального изначального продукта.
– Вот! Именно это мы и хотим почувствовать…
– Почувствуете… – пообещал официант. – Пальчики оближете. Простое рыбное блюдо, «самое простое»…
И он стал рассказывать, да так, что через полминуты у Ани и Старикова слюнки потекли.
Ибо «самой простой рыбой» оказался отнюдь не минтай – рыба-воспоминание о рыбных четвергах, то бишь «рыбных днях», которые были во всех учреждениях общепита в эпоху заката империи Советов.








