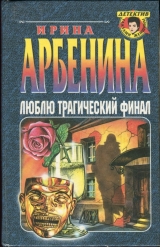
Текст книги "Люблю трагический финал"
Автор книги: Ирина Арбенина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
– Ну, не грусти… Может, и поскорее разделаешься! Сейчас дети знаешь какие вундеркинды! От горшка два вершка, а уже папе помогает, карманные – на мороженое или на пиво! – выдает.
– Нет, – решительно возразил Афоня, – больше двадцати лет – может быть, а меньше нет.
– Ну-ну… Смотри, как ты все высчитал!
– Высчитал, – вздохнул Афоня.
– Да ты не очень-то себя нагружай тяжелыми мыслями. Всего ведь не предусмотришь.
– Это точно.
– Как твоя работа? – задал вопрос Дубовиков, чтобы отвлечь друга от грустных мыслей. Вообще обычно капитан старательно избегал разговоров о Колиной «работе». Тема была скользкой… Уж лучше вовсе ничего не знать и не спрашивать, во всяком случае, не вникать в подробности. Как это обычно и бывает, когда речь идет о чем-то, на что нельзя повлиять. А то, того гляди… Вдруг узнаешь что-то такое, отчего и здороваться с человеком следует перестать. Время такое: в детали лучше не влезать.
В общем, все это впрямую относилось к нынешнему Колиному занятию.
– А-а, – Афоня опять махнул рукой, – дерьмо полное, но деньги платят нормальные. Больше я нигде не заработаю. А ведь ты понимаешь.
– Ну, да-да…
Дубовиков постарался скорее закруглить разговор на скользкую тему. К тому же продолжение было известно. Сказка про белого бычка: жена должна родить… будут дети, на ближайшие двадцать лет проблемы, и – деньги, деньги, деньги…
– Да, кстати! Помнишь, я у тебя перехватывал? – вдруг хлопнул себя по лбу Афоня.
– Чего это?
– Ну, триста долларов? Пару месяцев назад?
– А, это…
– Так давай верну, пока завелись. Сейчас как раз такой случай.
– Давай, давай. Уж не откажусь, – обрадовался Дубовиков, который вечно раздавал деньги друзьям и редко мог вспомнить, кому, когда и сколько. И очень бывал рад, когда обнаруживал – правда, это случалось нечасто, – что люди этим обстоятельством не пользуются.
Коля достал из портмоне пачку. Отсчитал три бумажки и протянул их Дубовикову.
А капитан их взял и сунул в карман куртки.
Эта сцена и восстановилась сейчас в больнице, под абрикосовый-то компотик, в его памяти – яснее ясного. Так все и было. А потом он положил эти деньги в письменный стол своего кабинета. На текущие расходы.
Когда в помещение заваливается толпа причитающих горемык и ты вынужден отправлять их восвояси, то единственный способ сохранить при этом человеческое лицо – пособить им – хоть временно! – с одеждой и едой.
Кто знает, когда человек протягивает руку за помощью, может, именно этот момент и есть переломный в его жизни? Помоги ему в эту минуту, и он, возможно, после этого начнет подниматься. А отправь равнодушно на улицу – и загнется! Конечно, один шанс из ста, что будет именно так. Но даже ради этого одного стоит попытаться помочь.
– Да вы просто Щорс какой-то!
Аня поставила на больничную тумбочку пакет апельсинового сока.
– Какой еще Щорс… – нахмурился капитан. Дубовиков был недоволен Аниным визитом. И без того глупое положение… А тут еще ходят всякие со своим милосердием…
– Ну как же, Олег Иванович… Песня такая, вы-то должны знать, как человек военный и в годах…
– В каких еще годах…
– Ну, постарше меня, я хочу сказать. Немного, правда… – сжалилась все-таки Светлова. – Неужто в пионерском детстве не пели? «Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется…»
– Ну, хватит, хватит! Распелась… – сморщился капитан.
Голова у него действительно была повязана, и ирония Светловой явно была Олегу Ивановичу в данный момент глубоко противна. А он уж понадеялся на милосердие! Как же, дождешься от этих, от нынешних… выбравших пепси…
– А вы-то откуда знаете? – все-таки не удержавшись, поинтересовался капитан.
– Что?
– Ну, песню… Слова откуда знаете? «Тари-ра-ра-рара…» – пропел он неожиданно сам для себя. – «Шел отряд по бережку, шел издалека…»
– А, это… По бережку-то? Да группа какая-то исполняет. «Ногу свело», кажется… Хит сезона.
– Ну вот и у меня хит… – Дубовиков осторожно дотронулся до больной головы.
– Больно? – участливо поинтересовалась Светлова.
– Приятно! – буркнул, вконец разозлившись, капитан. – Что за манера тащиться в больницу, чтобы задавать вопросы, на которые заранее известны ответы.
– Тише, тише… – Притворившись испуганной, зажмурилась Светлова. – Не злитесь, пожалуйста. Это у вас реакция…
– Какая еще реакция?
– На ощущение собственной глупости, – ухмыльнулась Светлова.
В общем, она издевалась, потому что была довольна. Голова у Дубовикова действительно повязана, но выглядел он неплохо. В том смысле, что много лучше, чем Аня могла подумать. А подумала она, когда ей сказали, что капитан в реанимации, то самое… самое плохое.
Так что, по сравнению с тем вариантом – капитан мертв! – Дубовиков выглядел совсем неплохо. То есть он все-таки был жив.
– Олег Иванович… – начала она вкрадчиво.
– Ну чего еще придумали?
– Может, мы устроим тридцатиминутку искренности?
– Почему тридцатиминутку?
– А вы решили после этого сотрясения мозга всю жизнь говорить только правду?
– Нет, но…
– Потом меня просто выгонят, – объяснила Аня, посмотрев на часы. – Прием в больнице заканчивается. Так вот… Я лично клянусь рассказать все, что знаю.
– Ладно, – вздохнул капитан. – Валяйте! Только вы первая, я должен подготовиться.
– Нет, вы.
– Ну, ладно, ладно… Спорить с вами невозможно.
– Вот и хорошо.
Когда капитан закончил свой нелегкий рассказ, Светлова проникновенно положила ему свою легкую узкую ладонь на мужественное плечо:
– Олег Иванович, милый… Можно я теперь вас буду называть сокращенно и ласково? – Аня сделала паузу.
– Это как же?
– Товарищ Дуб.
– Ну, ладно, ладно, издевайтесь! А я потом подумаю, как вас буду называть! Потом, когда вас послушаю… – мстительно пообещал явно идущий на поправку Дубовиков.
– А что же все-таки эта была за банкнота? Ну, та, что у меня не приняли в обменнике?
– Я думаю, дело было так… Преступник дал взятку Коле Афонину, чтобы тот молчал. Чтобы Коля «забыл» о нем. Иначе как объяснишь то, что случилось?! И среди этих денег оказалась, вполне возможно, одна из тех купюр, которой он, скажем, приманивал цыганку. Потом Коля вернул мне долг. И так эта злополучная банкнота попала в фонд. В ящик моего письменного стола. А оттуда – к вам. Во всяком случае, это одна из вполне правдоподобных версий, объясняющая то, что случилось.
– Неужели ваш друг мог взять деньги от такого человека?
– Получается, что мог. В чем только не может себя убедить человек! Во всем при желании человек может убедить себя!
– Ну, в общем, да. Знаете, один великий писатель сказал своей возлюбленной по вполне, впрочем, прозаическому поводу: «Дорогая, я тебе сейчас все объясню!» А ему в ответ: «Не стоит, дорогой… Ты так умен, что сможешь объяснить все, что угодно!»
– Это кому так ответили? – насторожился капитан.
– Вольтеру.
– Какому? Тому самому?
– Тому самому.
– А-а…
Капитан вздохнул, явно сочувствуя великому философу-просветителю.
– Да, ловко она его отбрила, эта «дорогая».
– И что мне теперь с этими проклятыми ста долларами делать? – уточнила Светлова, прерывая капитанские вздохи.
– Чего-чего… Беречь. Хранить вечно. Во всяком случае, до завершения дела. Это ведь вещдок. Ни мало ни много.
– А вы думаете, это дело когда-нибудь завершится? – с большим сомнением в голосе спросила Аня.
– Все дела когда-нибудь завершаются, – вздохнул капитан.
– Видно, пребывание в больнице и разговоры о Вольтере настроили вас на философский лад. И речь явно не о делах уголовных, – позволила себе усомниться Светлова. – Ибо в таком случае это утверждение было бы большим преувеличением…
– Это да, – согласился капитан. – Это я так, вообще. Так сказать, в широком смысле. О делах земных толкую. И о телах бренных…
– Понятно.
«Ветер северо-восточный, снежинки маленькие, злые, колючие… Такая весна похолодней зимы!»
Наглядевшись в окно на свой любимый Скатертный переулок, Антонина Викторовна с удовольствием снова распаковала приготовленный для ломбарда мех. Каждую весну она непременно сдавала на специальное хранение – в холод – свои шубки, горжетки, палантины… Мех любит холод! Попробуй оставь его на лето в душных жарких шкафах, и к осени он поникнет, станет скучным… А тут! Антонина Викторовна с удовольствием уткнулась лицом в серебристый мех палантина… Хорош! Как кошка у Сеттон-Томпсона, которую специально держали в клетке на холоде.
И удивительное дело: мех еще хранил запах давних – давнишних, уже и флакон-то опустевший выкинула – духов. Что значит дорогие! Все, что дорого, – живет годами: мех, духи… Конечно, нынче у нее уже на такие духи духу не хватит… Ха-ха, каламбур! Не хватит духу выбросить такие деньги на духи, то есть на каприз. Нынче она уже не та… Стара, бедна. Но все-таки кое-что еще… Кое-что осталось.
Она довольно улыбнулась, ей всегда было грустно расставаться с ними – весна получается холодная, еще поношу! – развесила меховые вещи в шкафу. Рано, рано еще относить мех на хранение – зима не закончилась…
С удовольствием оглядела ровный ряд «плечиков»… Да уж: Гринпис упал бы в обморок! Ну что делать, пусть простят ее нынешние «зеленые» и всякие прочие «защитники животных»: зима – это запах духов, шоколада, шорох театральной программки… И это непременно меховая шубка, которую предупредительный, привыкший к чаевым гардеробщик накидывает на плечи после спектакля… И тогда совсем не страшно отворять тяжелую массивную с бронзовой ручкою дверь и выходить из шумного жаркого театра на заснеженную улицу. Напротив, хорошо… Хорошо идти заснеженным переулком, смотреть, как медленно падает снег в светлых кругах фонарей, чувствовать после душного сидения в зрительном зале прохладу снежинок на лице… И эта тридцатиминутная прогулка до дома после спектакля – тихим Центром – полноправное продолжение театрального вечера, его необходимая составная часть… В театр ходят, а не ездят.
Так же, как лето – это пляжный зонтик, варенье, зима – это театр, шубка, запах духов и морозного воздуха… Сезон не закончился.
Налюбовавшись содержимым шкафа, Антонина Викторовна плотно прикрыла орехового дерева дверцы, повернула дважды крошечный ключик и, оставив его, как обычно, в замке, отправилась заваривать себе чай.
Старость для мудрого человека – это время наслаждаться подробностями… Мелочами, нюансами. В молодости бежишь, летишь, мчишься сломя голову. И столько пропускаешь! Столько пропускаешь красивого, замечательного, достойного внимания. Антонина Викторовна вздохнула, наблюдая, как, тяжелея и кружась, опускаются медленно на фарфоровое дно зеленые листочки чая «Санта-Барбара», который она так любила покупать, питая необоримую слабость к одноименному сериалу.
Потом она расстелила так же со вкусом, не спеша, как заваривала чай, белоснежную салфетку на ломберном с гнутыми ножками столике возле окна… Поставила на нее роскошную английскую чашку с двумя скрещенными голубыми мечами на донышке… На две трети наполнила ее свежим чаем. Полюбовалась… И села раскладывать карты…
В карты Антонина Викторовна не играла, но она обожала пасьянсы. И старинный ломберный столик подходил для этого занятия как нельзя лучше…
Подходил, как платья, которые когда-то шила Антонине Викторовне ее давно уже умершая портниха. Раньше умели это делать – вещи, которые удобны. Вещи «под тебя», которые сидели, как влитые, подходили точка в точку… Вот как этот столик: села за него – и до полуночи хоть не вставай…
За окном падал снег, вечерело. Голубоватый свет сумерек ложился на глянцевую поверхность карт.
«Ах, что за чепуха…» – Антонина Викторовна раскинула колоду снова.
Опять! Пиковый валет – молодой человек в бархатной шапочке – выскакивал то и дело непонятным образом и мешал ей все хорошие карты, омрачая приятное будущее, которое прочила ей судьба посредством глянцевой колоды.
Задетая за живое и увлекшись противоборством с судьбой, Антонина Викторовна раскидывала колоду вновь и вновь. Уже сердясь и заходясь в азарте. Хотя знала, что делать этого никак нельзя. Если выпадает знак – не надо стараться перехитрить, переиграть. Не надо ни в коем случае повторять, пытаясь добиться иного, благоприятного, расклада. Уж как выходит, так и выходит.
Но рассердившемуся азартному человеку все нипочем – куда девается обычная мудрость!.. Она раскладывала и раскладывала карты – вновь, и вновь, и вновь. А наглый валет все выскакивал и выскакивал, как черт из табакерки… Лез и лез назойливо и напористо в ее будущее!
И тогда Антонина Викторовна взялась за настоящее гаданье. Распечатала новую, неиграную колоду… Чтобы все по-настоящему. И уже в настоящих глубоких сумерках, напрягая зрение, позабыв включить свет – так не терпелось ей узнать свою судьбу, – разложила карты.
Любовь, встреча, дорога, казенный дом…
И смерть.
Пиковый валет, знаменующий в этом гаданье именно сие печальное событие, выпал ей снова. Выпал неотвратимо, не оставляя надежд и возможности иного толкования, варианта, интерпретации. В сумерках ей даже показалось, что кончики губ у юноши в бархатной шапочке дрогнули, будто тронутые мерзкой ухмылкой.
Она зажгла свечи… Нет, валет, конечно, не улыбался. Она, разумеется, не сошла с ума и не страдает галлюцинациями… Но карта лежала перед ней на истертом сукне ломберного столика. Лежала! И что-то подсказывало старой женщине, что с этим уже ничего нельзя поделать.
В дверь позвонили.
И Антонина Викторовна, шаркая, пошла ее открывать, не очень удивляясь позднему визиту.
– Это ты?..
– Извините, я так поздно…
– Ну, что делать… Как всегда!
– Еще раз извините.
– Понимаю, что делать. Работа такая, искусство… Любовь к искусству требует подвижничества.
– Я решил сегодня остаться у вас, можно?
– Ну, о чем ты спрашиваешь, мой дорогой? Разумеется…
– Спасибо.
– Как сегодня в театре?
– Как всегда.
– Я, знаешь, что-то соскучилась по театру. Хочу на спектакль…
– Какой, если не секрет?
– Ну, почему же… Знаешь, отчего-то на «Аиду». Понимаешь, мой дорогой…
И Антонина Викторовна приготовилась к длинному рассуждению о творчестве Верди.
– Понимаю, понимаю… – прервал он ее. – Во всем, что касается «Аиды», понимаю, как никто другой…
Он усмехнулся.
– В любой вечер, когда вам захочется и когда она будет идти.
– Спасибо, мой дорогой…
Антонина Викторовна вдруг подумала, что ее племянник до удивительности похож своими красивыми точеными чертами лица на карточного валета… Слава богу, только чертами лица. Антонина Викторовна отчего-то вздрогнула, вспомнив о картах.
Да, да, очень похож… Изящный овал, очерк губ…
– Кстати, а на «Пиковую даму» вы не хотите? «Тройка, семерка, туз».
– Пока нет…
– Тройка, семерка, туз… – повторил он словно в оцепенении. – «Не ты ли тот третий, кто, страстно любя, придет, чтобы узнать от нее три карты, три карты, три карты?»
– Не входи в роль, – предупредила Антонина Викторовна, она даже вздрогнула от его голоса, обратив внимание, что ей отчего-то снова стало крайне неприятно упоминание о картах. – Ты все-таки всегда был слишком артистичным и увлекающимся…
– «Я пришел вас умолять о милости одной. Вы можете составить счастье целой жизни, и оно вам ничего не будет стоить…»
Он бормотал, как будто не слыша свою собеседницу.
– По-твоему, я так похожа на графиню, на «осьмидесятилетнюю каргу»? – Антонина Викторовна тоже начала цитировать «Пиковую даму».
– Ну что вы…
– Или уже, может, даже не на графиню, а на призрак графини? – принужденно рассмеялась Антонина Викторовна, дотрагиваясь до своих бледных ввалившихся старушечьих щек.
– Ну как вы могли такое подумать?!
– Впрочем, хватит о пиковых дамах… – сухо заметила Антонина Викторовна.
Но ее собеседник словно уже не мог остановиться:
– «Груды золота лежат. И мне одному, одному принадлежат…»
Он очень искусно изобразил безумное бормотание сошедшего с ума Германа из «Пиковой дамы».
– О чем ты, милый друг?
Антонина Викторовна неожиданно покраснела, и притом довольно заметно, несмотря на свою обычную старческую бледность.
– Кстати, если ты о коллекции, которую оставил мне твой отец, – старая женщина, очевидно, приняла эти слова Германа из «Пиковой дамы» как-то слишком на свой счет, – то не волнуйся: с ней ничего не случится. Вот помру – и она твоя. Твой папа просто… Ну, что-то… Ну, как бы тебе это объяснить… Не то чтобы сомневался… А что-то смущало его в тебе в последнее время, перед его смертью… Он, видимо, хотел, чтобы ты еще повзрослел… Вот и решил: пусть коллекция пока побудет у твоей старой тетушки, то бишь у меня. Тем более, всем понятно, что я все равно на этом свете долго не заживусь… А ты за это недолгое время все-таки еще наберешься ума, и тогда…
– Да и тогда… «Вот катафалк, вот гроб… И в гробе том старуха без движенья, без дыханья…»
– Не очень остроумно… – вдруг обиделась Антонина Викторовна. – Я понимаю, ты просто не можешь без оперных цитат… Но в данном случае, мой милый друг, ты все-таки переборщил…
– Петя, вы с Дорманом контракт составляли? – Аня позвонила мужу на работу.
– А то…
– Ты не можешь сказать его адрес?
– Зачем?
– Ну… – уклончиво протянула Аня.
– Господи, опять за свое! – обреченно вздохнул Стариков. – Подожди минутку.
– Терпеливо жду.
На самом деле большего нетерпения представить было трудно.
Неужели этот таинственный спутник, провожавший пожилую даму в Скатертном переулке? Этот чуть не отправивший на тот свет капитана господин и есть…
Неужели?
– Ты слушаешь?
– Да.
– Тебе индекс нужен?
– Нет, нисколько…
Письма она писать ему, конечно, не собиралась.
– Тогда записывай…
– Готова!
– Сейчас, погоди еще минутку: у меня другой телефон звонит.
– Ну, Петя! – взмолилась Светлова.
Было слышно, как Стариков говорит по мобильному.
«Зачем, зачем людям столько телефонов?!» – несправедливо злопыхала Светлова.
Наконец в трубке снова раздался драгоценный голос мужа:
– Слушаешь?
– А ты как думаешь?! – рассердилась Аня.
– Так вот… – Петя сделал наглую, длинную, издевательскую паузу. – Москва, Скатертный…
– Спасибо, друг! – Аня, не дослушав, положила трубку. Схватила рекламный проспект «Делоса» и помчалась с ним в больницу.
Светлова достала из сумки глянцевый рекламный проспект с улыбающимся лицом Дормана.
– Это он?
Капитан задумался.
– Похож.
Он поморщился, осторожно ощупывая свою сотрясенную столкновением с автомобилем голову. И опять стал внимательно разглядывать улыбающееся лицо.
Наконец покачал головой:
– Нет.
– Нет?!
– Точно нет.
Нет! Это твердое «нет», уверенное «нет», сказанное Дубовиковым, не оставляло сомнений.
Может, все-таки ошибается? Куда там… Ведь товарищ Дуб – бывший милиционер, у него профессиональный взгляд на лица. Столько пришлось держать в голове словесных портретов, всевозможных нуждающихся в поимке морд. И сличать, сличать, сличать…
Поэтому, когда Дубовиков смотрит пристально Ане в лицо, она сама чувствует себя, как на опознании. Можно не сомневаться: вряд ли он при этом любуется… В общем, его будущей девушке не позавидуешь.
Итак, с Дорманом он не ошибся – все-таки нет. Аня еще раз с сожалением взглянула на улыбающееся с афишки интеллигентное лицо режиссера…
Все-таки гадкий он, этот сыскной азарт! Приличный человек оказался не преступником, а она расстроена.
Хотя, если честно, она и раньше в глубине души сомневалась…
С одной стороны, очень многое совпадает… Репертуар театра и репертуар убийств.
То, что Дорман знал Джульетту и даже собирался с ней встретиться, – запись на зеркале…
И то, что живет он в Скатертном…
Хотя, как выяснилось теперь, номер дома у него другой.
Но основное несовпадение было в главном. Таких людей, как Дорман, их дело забирает целиком. Им маму родную поцеловать некогда, не то что убийства планировать.
Говорят, любви нужна праздность. Но ненависти, которая, так или иначе, всегда есть основа преступления, она, праздность, тоже нужна.
А такие, как Дорман, все время на виду, их день расписан даже не по часам, а по минутам. И они со всеми своими потрохами в руках собственного секретаря: «Кирилл Бенедиктович, через пять минут у вас встреча, через полчаса интервью… вечером вы…», и так далее… Для них проблема, как побыть в одиночестве… Ибо они всем нужны и их буквально рвут на части.
А тому, другому, нужно было много времени, много… И полное отсутствие чужих любопытных глаз. И вообще, для вынашивания столь чудовищных идей необходимо замкнутое пространство одиночества… По меньшей мере, трудно обдумывать такие штуки, оживленно общаясь в шумной компании.
Теперь, когда всем ее подозрениям пришел конец, ей хотелось поговорить с Дорманом. И Аня решила в ближайшее время наведаться в гости.
Вот только не сейчас…
Аня взглянула на часы и ахнула: через тридцать минут заедет Стариков, поест, схватит чемодан – и в аэропорт.
У Кирилла Дормана было ощущение, что в «Делосе» происходит какая-то чертовщина… И еще было ощущение, что это самое, то, что происходило в театре, началось, когда Джуля Федорова попросила его взять на работу своего знакомого молодого человека.
Они, Дорман и Джуля, даже решили тогда встретиться в «Молотке» и обсудить это… Ну, не то чтобы так уж важно было это обсуждать – не бог весть какие события! – а просто Кирилл Бенедиктович никогда не отказывался от возможности пообедать с красивой, эффектной девушкой.
Но Джуля куда-то запропастилась.
К сожалению, Дорман был, как всегда, так загружен, что толком не обратил на это обстоятельство никакого внимания…
А несколько позже ее приятель явился к Дорману сам. Сослался на Джульетту.
Впрочем, посетитель мог бы обойтись и без этого… Оказалось, что они почти знакомы. Только Дорман сначала никак не мог вспомнить – и ведь не самая, прямо скажем, распространенная в России! – его фамилию… Такая, что трудно забыть…
Потом посетитель представился, и Дорман сразу все вспомнил.
Кажется, он учился на вокальном отделении. Они не были с Дорманом в одном потоке. Кирилл был на три класса старше. Но он его помнил. Что-то там было с ним, с этим парнем, какая-то лав стори. Что-то драматическое, из тех историй, что любят распространять завзятые сплетники, рассказывая с придыханием. Отчего-то он ушел, не закончив школы. Но что именно там случилось с ним, сейчас Дорман вспомнить не мог.
– Прошу принять меня в театр. Петь не смогу, но… готов на любую работу…
– Даже стюардом?
– Даже!..
С большим удивлением разглядывал он тогда этого просителя.
– Зачем вам эта работа? – поинтересовался Дорман.
Театр был его детищем, его делом, его любовью… Его предприятием, в конце концов, – созданным с нуля, тщательно вылепленным, любовно продуманным, и Дорман любил входить в каждую мелочь, в каждую деталь этого предприятия.
Тем более что он не считал эти мелочи мелочами. Напротив, был уверен, что благодаря именно им и возникает атмосфера театра, складывается его имидж… И уж, конечно, подбор персонала, да еще на решающей стадии – «да, мы вас берем!» – Дорман не доверял никому, даже когда речь шла о такой не самой, прямо скажем, важной вакансии.
В «Делосе» могли позволить себе выбирать. Люди к ним на работу стремились: и из-за высокой оплаты, и, кстати, из-за этой самой атмосферы и престижного имиджа. «Я служу в «Делосе» – это звучало…
Но чтобы стремиться до такой степени!
– Зачем вам это? – с удивлением повторил Дорман. – Вы не похожи на нуждающегося в деньгах.
– Тоскую по театру.
Дорман пожал плечами. Ну что ж… Пожалуй, это убедительно. Кто его знает, лиши его самого, Дормана, возможности каждый день вдыхать этот театральный воздух, может быть, и он был бы готов на все.
Почти как у Белинского: «Любите ли вы театр так же страстно, как люблю его я?»
В общем, в театральной среде известны были такие чудаки и чудачки, готовые чуть ли не мыть унитазы театральных звезд, лишь бы эти унитазы имели отношение к кулисам.
К тому же он подходил.
Конечно, в «Делосе» обычно выбирали на эту работу людей несколько моложе, совсем юношей, студентов. Чтобы те и сами чувствовали себя на этой службе удобно. Что можно позволить себе в двадцать, кажется запоздалым, неуместным и неловким в тридцать. Но, в общем, это уже были тонкости и придирки… А так он подходил: импозантен, представителен. По-мужски хорош. Это все было кстати.
– Ну, хорошо… – все еще раздумывая, протянул Кирилл. – Вы в принципе… Вы нам подходите.
Проситель перевел дух. Да, это был явно слышимый вздох облегчения.
– Ладно, – решительно сказал Дорман. – Берем. Мы вас берем. Выходите со следующей недели на работу. Вам все объяснят.
Потом Дорман разговаривал с ним еще только однажды. После глупой и совершенно трагической истории с Викой Цвигун. Дорман вызвал его тогда к себе…
– Нет, нет… Не провожай… Меня, как всегда, отвезут.
Петя обнял жену.
– Ну все!
Аня грустно чмокнула мужа в плечо.
– Не грусти! – посоветовал он жене.
Петя тоже грустил, разумеется, уезжая… И хотя совершенно искренне – но в силу своей жуткой занятости грустил поспешно, на ходу, заглядывая в органайзер и уже обдумывая какие-то очередные, из плана на день, дела.
– Ты хоть не забыла, что у нас сегодня билеты на «Аиду»? – напомнил он жене, захлопывая книжку.
– Ох, а ты?!
– А я, как видишь… опять мимо искусства! Но ты иди… Иди непременно. В этот «Делос» попасть… В общем, все говорят, что это круто.
Так оно все и было… Ведь в «Делос» и вправду было не попасть. Протекцией Дормана лишний раз пользоваться не хотелось, и они взяли билеты, как все, много загодя… И забыли. А тут еще Петина срочная командировка.
Петя уехал. Что само по себе было очень грустно, даже без отягчающих… Тьфу ты, ну и выражениями пополнился ее словарь в связи с этими новыми криминальными увлечениями.
То есть Анна хотела сказать, что, когда Петя уезжает, всегда грустно, не будь у нее при этом даже и всяких других разочарований…
Дело в том, что Аня, несмотря на всю свою решительность и самостоятельность, теперь до смерти не любила оставаться дома одна, без Старикова. Это снова возвращало ее в то состояние потерянности и одиночества, которое она пережила после гибели родителей и которое ушло и забылось, когда в ее жизни появился Петя.
Однако то, что Анна не любила, как известно, жалующихся на жизнь и сама никогда ни на что не жаловалась, а все свои проблемы старалась решить сама, без посторонней помощи, еще ни о чем не говорило. И нисколько не было подтверждением ее неуязвимости.
Жалобы в жизни человека занимают, вообще-то говоря, свое немаловажное и если не слишком почетное – «Вечно ноет и жалуется на жизнь!» – то, во всяком случае, законное место. В жалобе чувства находят словесное оформление… Если попросту – выговариваются. А тому, кто выговорился, конечно же, легче, чем тому, кто все держит в себе.
Аня очень хорошо понимала, что «Анна никогда ни на что не жалуется» – в равной степени и комплимент человеческой стойкости, и диагноз. Поскольку постоянное подавление собственных чувств довольно опасно… Не случайно не стесняющиеся жаловаться часто живут дольше своих стойких партнеров, а любители поплакаться в жилетку – дольше обладателей жилеток.
Вместе с Петей у Светловой в жизни появилась возможность жаловаться, появилась «жилетка».
И вот сейчас она, эта замечательная «жилетка», уехала…
Грустно.
Да и вообще, когда вместе живут любящие люди, у них, очевидно, образуется нечто вроде единого биополя, и, когда они ссорятся или расстаются, поле разрушается. Рвется, как что-то живое. И от этого так больно.
Первый признак отчуждения – не больно провожать…
Кроме того, налицо у Светловой полное фиаско в смысле расследования.
Да, пожалуй, это был тупик.
Анина идея насчет мотива этих убийств, «похожих на искусство», оказалась пшиком.
И даже с капитаном посоветоваться нельзя: у товарища Дуба в больнице неприемный день.
И Аня нехотя стала собираться в театр.
Мало того, что там рядом будет пустое кресло, предназначенное Пете.
И вообще… Идти в «Делос» сейчас все равно что сыпать соль на раны. Напоминание о поражении.
А как все складывалось – хочется тавтологии: складно… Светловой казалось, что она поняла не просто мотив, что она поняла его душу – темную, чудовищную. Поняла, как он думает…
И от этого сразу многое стало объяснимо. Например, то, что цыганка была красива… Это отметил даже сухой, не искушенный в стиле милицейский протокол. Как было сказать про длинные широкие летящие юбки, желтую косынку, про то, что это – высокая гибкая смуглая девушка. Не придумав ничего лучше, человек, составлявший протокол, так и написал «красивая». Что на что похоже, то то и есть.
И этот нож, похожий на кинжал, который казался таким странным. Народ-то больше – по автоматическому оружию…
Но ему-то нужен бы именно кинжал! Он продумывал детали. Именно кинжал, именно косынка… Дразнящая, смуглая, дерзкая… упала на зеленую траву.
Аня, задумавшись, прошла переулком и, дивясь преображению Центра даже в таких укромных уголках Москвы – она давно здесь уже не бывала! – свернула на улицу, где расположился «Делос».
Она пришла рано. Съела в буфете от скуки пирожок с грибами, обошла все закутки. Из маленького фойе окна выходили во внутренний двор. Как раз на ресторан «Молоток». Оттуда доносились вкусные, дразнящие запахи. Английская кухня! Аня разом вспомнила Алену Севаго, смешного официанта… свои версии…
Да уж… напридумывала Светлова… ничего не скажешь.
Уже звенел звонок…
Судя по тому, как плотоядно он смотрел на морщинистую шею пожилой женщины в ожерелье (так – одно из двух! – глядят охваченные страстью: либо любви, либо убийства), это была его дама…
Пиковая дама! Чуть покрепче стиснуть шею, просто как следует встряхнуть – много ли старушке, согласно классике, надо? Если ей столько лет, что она еще с графом Сен-Жерменом флиртовала…
Светлова, закрывшись программкой, почти вжалась в кресло, в попытке остаться незаметной…
Мечтала она только об одном, чтобы в зрительном зале театра «Делос» поскорее погас свет…
А он шел по залу, любезно придерживая за локоть пожилую даму. Он помогал зрительнице найти ее место… Это была его работа. Он был стюардом. Так же, как все эти осанистые молодые люди в бабочках и смокингах, вежливые, предупредительные, вышколенные…
В «Делосе» не было привычных старушек у входа в зал. Зрителей принимали красивые стюарды… Приглашение в программке – выпить у стюардов шампанского в антракте… Это относилось и к нему…
Светловой, оказывается, просто надо было прийти сюда раньше… ха-ха!.. и заказать у стюарда шампанского.
И все. И она бы давно получила ответы на все свои вопросы.
Как все просто.
При мысли о пропавшей темнокожей студентке у Светловой перехватило дыхание… Как там, в «Аиде», погибает темнокожая рабыня?
Кажется, Аиду замуровывают…
Видел ли он Светлову?
Кажется, нет…
Кирилл Дорман вернулся домой в отличном настроении. Ужин со спонсорами «Делоса» прошел в доверительной и способствующей взаимопониманию обстановке.
Посвистывая от удовольствия, Кирилл Бенедиктович прошел в душ, радуясь двойной удаче: вдобавок к спонсорским деньгам, в кране – о, родная столица! – была и горячая вода! Взял шампуня…








