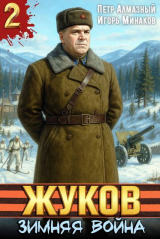
Текст книги "Жуков. Зимняя война (СИ)"
Автор книги: Игорь Минаков
Соавторы: Петр Алмазный
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Есть!
Грибник шел по мрачному коридору, и его не покидало чувство, что он только приоткрыл крышку над бездной. «Егоров» не был конечной целью, а лишь первым звеном. И если он из Абвера, то…
Тогда его миссия по слежке за Жуковым приобретала совсем иной, гораздо более любопытный смысл. Немцы видят в Жукове угрозу, а не просто одного из советских военачальников. Значит, их планы были куда масштабнее и дальновиднее, чем казалось.
Выборг, СЗФ
Шифровка из Москвы лежала в кармане, как раскаленный уголек. Поздравления, намек на награды и приказ – через три дня передать командование и прибыть в Москву, но война-то еще не закончилась.
Да, Выборг пал, финская оборона на перешейке рухнула, но стрельба еще слышна на севере, у Сортавалы. Финны отчаянно контратакуют, пытаясь отбить хоть что-то перед неизбежным миром, о котором они уже заговорили.
И бросать 7-ю армию сейчас, в момент наивысшего напряжения не хотелось бы. Я вышел из ратуши. Мороз крепчал. К черному, зимнему небу, поднимались столбы дыма – горели склады, содержимое которых финны не успели вывезти.
По улице шла колонна пленных – жалкие, замерзшие фигурки в истрепанной форме, под конвоем таких же усталых, но злых наших бойцов. Финики смотрели на меня пустыми глазами. Я усмехнулся.
«Передать командование через три дня». Это значило бросить людей, которые только что сделали невозможное, в момент, когда они больше всего нуждаются в твердой руке. Нет. Рано мне в Москву.
Я вернулся в зал ратуше, к столу со связью.
– Связист! Немедленно шифровка в Москву, лично начальнику Генштаба товарищу Шапошникову. Текст: «Докладываю. Выборг под нашим контролем, но на многих участках фронта продолжаются бои местного значения, противник предпринимает контратаки. Передача командования в текущей обстановке грозит дезорганизацией и неоправданными потерями. Прошу разрешения остаться на месте до полной стабилизации фронта и организации обороны на новых рубежах. Обязуюсь прибыть в Москву немедленно по завершении этих задач. Жуков».
Я подписал бланк и отдал его. Я снова шел наперекор приказу. Мой отказ мог быть расценен как неподчинение, как зазнайство победителя, но если все, что я знал о Шапошникове правда, то он поймет.
Ответ, доставленный связистом, настиг меня через два часа, когда я уже объезжал разбитые укрепления на восточной окраине города. Он был еще короче: «Ваша точка зрения принята. Оставайтесь на месте. Ориентировочный срок – одна неделя. Держите фронт. Ш.»
Неделя. Вполне может хватить, чтобы сделать победу необратимой. Нужно успеть главное – не дать финнам отыграть назад ни метра, превратить захваченный плацдарм в неприступную крепость на случай, если мирные переговоры так и не начнутся.
* * *
Война продолжалась даже без выстрелов. В госпитале пахло йодом, гноем и хлоркой. Санитары с носилками сновали между рядами раненых, порою уложенных прямо на солому в просторных хорошо еще хоть натопленных классах.
Я прошел вдоль ряда, останавливаясь у тех, кто был в сознании. Слова были не нужны. Достаточно было взгляда, крепкого рукопожатия и нескольких слов: «Благодарю за службу, боец. Держись».
В глазах у некоторых был запоздалый страх и боль. У других – тоска. У третьих – облегчение. Для них война закончилась. Кто-нибудь из них еще встретится с врагом. Как с новым – фрицами, так и со старым – теми же финнами.
В углу, на отдельной подстилке, лежал молоденький лейтенант, командир взвода из 123-й дивизии, вышедшей к Выборгу по льду. У него не было обеих ног ниже колена. Лицо восковое, но глаза ясные. Он узнал меня и попытался приподняться.
– Товарищ комкор… город… наш?
– Наш, лейтенант. Благодаря таким, как ты. Отдыхай сейчас.
– Отдыхать… – он горько усмехнулся, глядя на место, где были ноги. – Теперь отдохну…
Я не нашел, что ответить. Просто сжал его плечо и отошел. Цена. Вот она, настоящая цена нашего маневра. Из этого госпиталя многие не выйдут. А те, кто выйдут, пронесут эту войну в себе до конца своих дней, который может оказаться не за горами.
На выходе меня ждал начальник медслужбы корпуса, пожилой военврач первого ранга с трясущимися от усталости руками. Да, хирургические врачи и медсестры работали не покладая рук, пользуя и своих и чужих.
– Товарищ комкор, не хватает многого… Бинтов, антисептиков, обезболивающего, крови… Морозы, гангрена… Мы теряем тех, кого можно было спасти в нормальных условиях.
– Составьте список самого необходимого. Я запрошу по всем каналам – у армии, у флота, у тыловиков Ленинграда. Сегодня же. Если что-то будет саботироваться – докладывайте мне лично. Имена саботажников – в первую очередь.
– Спасибо, товарищ комкор…
– Не благодарите. Это мой долг.
Утром – объезд позиций. Не для показухи, а для проверки. Как окопались? Где минные поля? Связь работает? Холодно? Горячее питание доходит? Командиры, привыкшие к моим внезапным появлениям, уже не тушевались, а докладывали сухо, по делу.
Днем – штабная работа. Утверждение схем обороны, распределение трофейного вооружения финские «Суоми» и снайперские винтовки «Мосина» были отличным дополнением, отчеты о потерях и трофеях.
Цифры потерь я заставлял перепроверять трижды. Каждая боец должен быть учтен. Они заслужили это. Вечером – ругань по полевому телефону. Глотку приходилось драть почище, чем на передке.
Споры со службой тыла о выделении стройматериалов для блиндажей, о подвозе теплого обмундирования. Требования к командованию внутренних войск о жесткой зачистке оставшихся в городе финских диверсантов и снайперов.
Голос Мерецкова в трубке порой звучал холодно и отстраненно. Он уже писал отчет о победе, в котором, я не сомневался, моя роль будет приуменьшена, а его заслуги – раздуты. Меня это не волновало. Пусть пишет. Моя задача была здесь, на земле.
Именно в эти дни, среди рутинной, но важной работы, я получил подтверждение, что ставка на флот и острова была верна. С острова Сейскари, куда мы чудом перетащили гаубицы, наши артиллеристы несколько раз отбивали вражеские атаки.
Финны все-таки предпринимали попытки если не отбить Выборг – силенок не хватило бы – то хотя бы нагадить нам. Корректировщики с Лавенсаари обеспечили точную наводку орудий, бивших по финским тылам, так что их контратаки захлебывались, не успев начаться.
Между тем из Москвы приходили обрывочные сведения, что переговоры уже идут. Условия к Финляндии выдвигаются жесткие. И на фронте вдруг воцарилось зыбкое, напряженное затишье. Стрельба почти прекратилась.
Чтобы проветрится, я вышел на тот самый мыс Ристиниеми, откуда начинался безумный бросок по льду. Лед был еще крепок, но уже покрылся водой от внезапно наступившей оттепели. Хотя зима только в самом начале. Будут еще морозы и метели.
В кармане у меня лежала новая шифровка. Не из Генштаба, а из совсем другого ведомства. «Поздравляю с выполнением задачи. Ожидаю вас в Москве, после выполнения всех формальностей. Вагон вам будет зарезервирован. Б.»
Берия напомнил о себе. И о том, что за кулисами этой победы шла своя борьба, и он в ней тоже победил. Теперь я был ему нужен для следующего этапа «большой игры». Ведь на Западе уже сгущались грозовые тучи великой войны.
Я повернулся спиной к заливу и пошел к машине. Моя неделя истекала. Фронт стабилизировался. Похороны павших со всеми почестями были организованы, раненые – максимально обустроены, оборона – выстроена. Дальнейшее было делом гарнизона.
Оставалось самое противное – писанина. Итоговый отчет, сдача дел. Потом можно и в поезд сесть, что идет на Москву. Не как триумфатору, а как солдату, выполнившему приказ и несущий в себе тяжесть ответственности за последствия его выполнения.
И только я было направился штабному блиндажу, как увидел выпавший из облаков самолет, который стремительно пикировал, казалось, прямо на меня.
Глава 24
Я видел мутный круг пропеллера, отблеск далекой вспышки на остеклении кабины. Сейчас застрочат пулеметы и тот, кто хотел переиграть ход грядущей войны, продырявленным мешком рухнет на обледенелые камни.
– Свой! – радостно выдохнул Трофимов.
Правда, я уже сам видел, что это «ишачок». И тот с воем вышел из пике, заложил мертвую петлю, сверкнув красными звездами на голубоватой изнанке крыльев, и ушел в высоту.
– Лихач! – хмыкнул я. – Узнаю – кто, губой не отделается.
Город Ленинград
Ленинград уже готовился к Новому году. Странно было после руин Выборга, раненых красноармейцев в импровизированном госпитале, вспышек выстрелов, разрывающих ночную тьму на горизонте, видеть ярко освещенные витрины магазинов и предпраздничную суету.
Ленинградцы спешили с елками, коробками, свертками и авоськами. И мне вдруг захотелось хотя на час стать одним из них. Точно также тащить пахнущую смолой ель, предвкушая, как обрадуются лесной красавице мои девочки.
Сентиментальность? Слабость? Да нет. Нормальное желание отца и мужа радовать своих домашних, а не только отдавать команды на прорыв укреплений врага и бомбардировку его тылов.
И все же я первым делом был комкором, военным человеком, для которого семья – это не только жена и дочки, но и мерзнущие в окопах бойцы, ждущие приказа об атаке, разведчики в маскхалатах, пробирающиеся в лесной чаще, санитарки и медсестры на ПМП.
Вот такие мысли – в общем-то праздные – занимали меня, когда я возвращался в Москву. Поезд стучал колесами на рельсовых стыках. Впервые за много дней я получил возможность растянуться на чистых белых простынях, не ожидая срочной депеши.
По прибытию в столицу я был сразу же вызван в Кремль. Успел только вымыться, побриться и переодеться. Да поцеловать жену и соскучившихся по мне девочек. Элла и Эра не могли понять, почему только что приехавший папка опять куда-то убегает?
Поскрёбышев проводил меня в кабинет вождя, где проходило совещание. Несмотря на то, что за окном был день, шторы были плотно задернуты, свет из-под зеленых стеклянных абажуров падал на зеленое же сукно длинного стола, выхватывая из полумрака лица.
Кроме Хозяина, раскуривающего свою знаменитую трубку, здесь были Калинин, Молотов, и Берия, и еще несколько членов Политбюро, которые шелестели бумагами, видимо, готовясь докладывать.
Я ловил на себе их взгляды – оценивающие, любопытные, настороженные. Что меня ожидало? Разбор полетов? Или куда более серьезный экзамен на право занять место среди тех, кто решает судьбы войны, которая уже полыхала в Европе?
– Ну что ж, товарищ Жуков, – начал Сталин и голос его как всегда звучал тихо, но от этого каждое слово обретало весомость свинцовой плиты. – Вы дали финнам хороший урок. Теперь расскажите нам. Как вы оцениваете японскую армию? С которой имели дело в Монголии.
Честно говоря, я удивился. Я-то полагал, что разговор пойдет о Финляндии, считая, что события на Халхин-Голе пусть и важный, но уже пройденный этап. Выходит люди в Кремле, а самое главное – сам Хозяин, считали иначе.
Я выпрямился и заговорил, отчеканивая фразы, как будто бы был не на совещании, а отдавал приказы на командном пункте:
– Японский солдат, который дрался с нами на Халхин-Голе, хорошо подготовлен для ближнего боя. Дисциплинирован, упорен и фанатичен, особенно в обороне. Младшие командиры – костяк их армии. Дерутся до последнего, в плен не сдаются, предпочитая сэппуку, то есть – ритуальное самоубийство. А вот офицерский состав, особенно старший, подготовлен слабо. Мыслит шаблонами, инициативы не проявляет.
Сталин кивнул почти незаметно, выпуская струйку дыма. Его взгляд побудил меня продолжать.
– Технически японская армия отсталая. Их танки – это наши устаревшие «МС-1», беспомощны против «БТ», а тем более – перспективных «тридцатьчетверок». В начале кампании их авиация била нашу – их истребители были маневреннее. Пока мы не получили новые «Чайки» и пока в небо не поднялась группа Смушкевича. После этого господство в небе стало нашим. Однако важно понимать, что на Халхин-Голе мы имели дело с отборными, императорскими частями. Элитой.
– А наши войска? – спросил Сталин, перебивая, но не меняя интонации. – Как дрались?
Здесь нужно было быть предельно точным. Ничего лишнего, но и не приукрашивать.
– Кадровые части – хорошо. Очень хорошо. 36-я мотодивизия Петрова, 57-я стрелковая Галанина из Забайкалья. 82-я стрелковая с Урала… – я позволил себе небольшую, но необходимую паузу, – первое время сражалась плохо. Была развернута из приписного состава, не обучена. Но научилась. Танковые бригады – основа нашего успеха. Особенно 11-я, комбрига Яковлева. Без двух танковых и трех мотоброневых бригад мы не окружили бы их 6-ю армию так быстро. Вывод, который я сделал заключается в том, что нам нужно резко, в разы, увеличивать долю бронетанковых и механизированных войск. Артиллерия наша японскую превосходила во всем, особенно в мастерстве стрельбы. В целом… наши войска стоят значительно выше.
Я видел, как Калинин переглянулся с Молотовым. Берия сидел неподвижно, только его глаза, скрытые стеклами пенсне, следили за мной неотрывно.
– Как помогали вам представители Ставки? – снова спросил Сталин. – Кулик, Павлов, Воронов?
Ловушка. Вопрос на лояльность и на правдивость. Откровенно говоря перечисленные вождем товарищи имели дело в основном с командармом Штерном, но мне полагалось быть в курсе. И потому я осторожно заговорил:
– Воронов помог отлично. Его работа по планированию артогня и организации подвоза боеприпасов была безупречной, – ответил я. – Павлов поделился с нашими танкистами испанским опытом. Это помогло. Что касается Кулика… – я постарался выбрать формулировку как можно тщательнее, – я не могу отметить какой-либо существенной пользы от его пребывания.
В кабинете на секунду стало так тихо, что слышно было, как потрескивает табак в трубке Хозяина. Критиковать ставленника Ворошилова, да еще после только что закончившейся чистки командного состава…
Это была прогулка по минному полю, но и лукавая полуправда здесь могла оказаться смертельной. Сталин молча кивнул, как будто услышал что-то ожидаемое. Его взгляд, казалось, проникал сквозь меня.
– Продолжайте.
– Сражения на Халхин-Голе для всех нас – от красноармейца до командующего – были большой школой. Жестокой, но нужной. Думаю, японская сторона тоже сделала для себя правильные выводы о силе Красной Армии.
– К сожалению, – голос Сталина стал еще тише, и все невольно наклонились вперед, чтобы расслышать, – в войне с Финляндией многие наши соединения показали себя плохо. В неудовлетворительном состоянии армии во многом виноват бывший нарком обороны Ворошилов. Он не обеспечил должной подготовки. Его пришлось заменить товарищем Тимошенко… Тимошенко лучше знает военное дело. Итоги финской кампании мы обсудили на Пленуме и наметили ряд мер.
Он говорил это не столько мне, сколько всем присутствующим. Это был приговор целой эпохе в руководстве Красной Армией. И моя роль в этой смене вех была теперь ясна всем, кто сейчас прислушивался к словам вождя.
– Скажите, товарищ Жуков, – вступил в разговор Калинин, сдвинув на лоб пенсне, – а с какими главными трудностями вы столкнулись в Монголии?
Странно, почему они снова возвращаются к Халхин-Голу?
– Главная трудность – тыл, – ответил я без особых раздумий. – Все – от патрона до полена для костра – везли за семьсот километров. Ближайшая станция снабжения – в Забайкалье. Кругооборот машины – полторы тысячи километров. Расход горючего – чудовищный. В преодолении этого хорошо помог Военный совет ЗабВО и лично командарм Штерн. А из бытовых… – я позволил себе чуть снизить тон, – комары. Их там тучи. Японцы спасались накомарниками. У нас их не было. Изготовили с большим опозданием.
В углу кто-то тихо хмыкнул. Суровый быт войны был знаком многим из участников совещания.
– Какую же главную цель, по-вашему, преследовали японцы? – не отставал Калинин.
– Ближайшая – захват территории МНР за Халхин-Голом. Дальняя – создать укрепленный рубеж по реке, чтобы прикрыть строительство второй стратегической железной дороги к границам нашего Забайкалья, в обход КВЖД. Это был пробный шар. Проверка нашей решимости и прочности наших границ.
Сталин снова заговорил, и разговор о войне с Японией был немедленно закрыт. По крайней мере – в рамках этого совещания.
– Теперь у вас есть боевой опыт, товарищ Жуков. Ценный опыт. – Он медленно обвел взглядом присутствующих, а потом снова остановил его на мне. – Принимайте Киевский Особый военный округ, Георгий Константинович. И используйте этот опыт в подготовке войск.
Это был не предложение. Это был приказ. Приказ, который я и ждал, и которого одновременно опасался. Киевский округ – самый мощный, самый важный, растянутый вдоль всей новой границы с недавно приобретенными территориями. Границы, которую через полтора года пересекут танковые клинья вермахта.
Я встал на вытяжку.
– Служу Советскому Союзу.
Совещание, вернее мое на нем присутствие, было окончено. Я повернулся и вышел из кабинета, чувствуя на спине тяжесть множества взглядов. Впереди была не только новая должность. Впереди была гонка со временем.
Год и шесть месяцев до начала самой масштабной войны в истории. И сейчас, с мандатом Сталина в кармане и с опытом двух войн за плечами, я должен был сделать то, ради чего сюда попал – попытаться изменить ход истории.
Начав с Халхин-Гола и Финляндии и продолжив в Киевском округе. Ведь каждая минута отсрочки отдавала на растерзание агрессору миллионы жизней. Они еще живы, готовятся к встрече Нового года, но у Гитлера для них заготовлены бомбы, снаряды, пули.
Пока я был в Монголии, а затем на Карельском перешейке, мир за пределами СССР катился в пропасть. «Странная война» на Западе. Французы и англичане, обладающие подавляющей силой, отсиживались за линией Мажино, пока Гитлер громил Польшу.
Это противоречило всякой военной логике. Я не был дипломатом, но как военный понимал, что такая пассивность – либо глупость, граничащая с предательством, либо грязный, циничный расчет. А вернее – и то и другое.
Как оказалось, такие вопросы интересовали не только меня. Сержант НКВД – мой московский водитель, обычно весьма немногословный, пока мы выезжали с территории Кремля, вдруг спросил:
– Товарищ комкор, как, по-вашему, понимать это бездействие Запада? Что они ждут? Ведь Гитлер их сожрет по одиночке!
– Сожрет, сержант, – ответил я. – Уже сожрал.
– А что же дальше, Георгий Константинович?.. Англия или…
– Или, дружище, – сказал я. – Именно «или»…
Я закурил, мысленно возвращаясь в кабинет вождя. В момент, когда воспользовавшись паузой, я обратился напрямую к единственному человеку, чье мнение в этом собрании высокопоставленных партийцев имело значение.
– Товарищ Сталин, позвольте вопрос не по моей компетенции, но как военному мне это не дает покоя. Как понимать крайне пассивный характер войны на Западе? И как, по вашей оценке, будут развиваться события?
Вождь, расхаживавший у карты мира, остановился. На его суровом, изрытом оспой лице на мгновение промелькнуло нечто, отдаленно напоминающее усмешку, от которой даже у самого выдержанного человека побегут мурашки по спине.
– Французское правительство во главе с Даладье и английское во главе с Чемберленом, – проговорил он, отчеканивая каждое имя, – не хотят серьезно влезать в войну с Гитлером. Они и сейчас надеются стравить его с нами. Подтолкнуть на Восток. Отказавшись в нынешнем году от создания с нами антигитлеровского блока, они сознательно развязали ему руки. Думали, что направят удар в нашу сторону.
Сталин сделал паузу, подошел к столу, потянулся за трубкой.
– Но из этой затеи, – заговорил он еще тише, отчего каждое слово врезалось в память, – ничего не выйдет. Им придется самим расплачиваться за свою близорукость. Гитлер – не дурак. Он сначала соберет то, что плохо лежит. И что слабее. Они это скоро поймут. Но будет поздно.
Хозяин произнес это без злорадства, с абсолютной уверенностью. Как констатацию факта. Вождь не строил догадок. Он видел логику событий, глубже и яснее всех присутствующих, включая и меня, знающего будущее.
Негромкий, слегка хрипловатый голос. Конкретность суждений, где не было места лишним словам. Глубина, которая пронизывала любой вопрос – от тактики японских танковых соединений до глобальной стратегии европейских правящих кабинетов.
И внимание… Да, внимание. Когда я докладывал, Сталин не перебивал, не смотрел в бумаги. Он слушал. Впитывал. Его прищуренные глаза были направлены на меня с такой концентрацией, что казалось, он видит не только мои слова, но и мысли за ними.
В народе, в армейской среде, даже среди высшего комсостава ходили шепотом леденящие душу истории. О страшной подозрительности. О безжалостных чистках. О ночных арестах. О немилости, которая падала, как гильотина, на вчерашних героев.
Сидя в салоне мягко покачивающейся на рессорах «эмки», глядя на огонек папиросы, я чувствовал когнитивный диссонанс. Человек, с которым я только что говорил, производил впечатление железной, но рациональной силы.
Силы, которая, пусть и жестокими методами, ведет страну к единственно достижимой в этом безумном мире цели – выживанию. И этому человеку я теперь должен был следовать безоговорочно. Ему и системе, которую он олицетворял.
И все же, где-то в самом основании души, под грузом впечатлений от сегодняшней встречи, шевелился холодный, неумолимый червь сомнения. А что, если молва – не ложь? Что если эта рациональность, это внимание, эта глубина – лишь одна сторона монеты?
Другая сторона которой – леденящий, безличный ужас, способный в любой момент обрушиться на того, кто окажется не на своем месте, скажет не то слово, или просто перестанет быть полезным?
Москва погружалась в предпраздничную суету. Впереди был Киев, округ, гигантская работа. И тихая, неотступная мысль о том, что я вступил в игру с самым опасным партнером. С тем, чью истинную сущность, возможно, не знал никто.
И от того, насколько правильно я буду играть, зависело теперь не только выполнение моих замыслов, но и сама возможность их осуществить. А для этого мне нужно просто остаться в живых.
31 декабря 1939 года. Москва, временная квартира
Снег за окном валил густо, бело, по-новогоднему. Вот только в душе у меня был не праздник, а тревожное ожидание – затишье между двумя войнами. Одна, с Японией, формально завершена, но не окончательно.
Другая, с финнами, даже формально еще не закончена – на Карельском перешейке стоит зыбкое перемирие, и каждый день приходят сводки о новых стычках. Третья, самая большая, надвигается из Европы, и ее предчувствие куда страшнее канонады.
Тем временем семейство мое готовилось к встрече Нового года. Трофимов раздобыл елку – маленькую, как решили Александра Диевна и девочки. Незачем ставить большую, ведь мы завтра уезжаем.
Однако даже она, колючая и одновременно пушистая, вносила в казенное жилье новогоднее настроение. Украшений не хватило, повесили то, что было. Несколько стеклянных шаров, самодельную гирлянду из фольги, верхушку в виде красной звезды.
Девочки, Эра и Элла, были уже в кроватях в соседней комнате, но не спали. Был слышен их сдавленный шепот – обсуждали, придет ли Дед Мороз. Их голоса, чистые и невинные, радовали мою задубелую на фронте душу.
Александра Диевна накрыла на стол в крохотной столовой. Лицо у нее было сосредоточенное, руки двигались быстро, привычно. Видать, жизнь жены командира научила ее обустраивать быт на ходу, из ничего.
Бутылка с шампанским, селедка под шубой, холодец, пирог с капустой. В центре – тарелка с мандаринами, трофеями с юга, чудом доставшимися. Они лежат, как маленькие оранжевые солнца, яркое пятно в этой суровой московской зиме.
Наблюдая за супругой, я вижу не ее, не елку, не снег за окном, а карту Карельского перешейка с синими пометками финских укреплений. И другую карту – Европы, где синими стрелами уже обозначены направления возможных ударов вермахта.
От Выборга я мысленно перешел на Брест, с укрепрайонов линии Маннергейма на недостроенные УРы новой границы. Нововведения, которые пролезают со скрипом и часто по объективным причинам. Время. Его катастрофически не хватает.
– Георгий, – мягко окликнула меня Александра Диевна, но в нем голос слышится укор. – Ты с нами или опять на передовой?
Я встряхнул головой, отгоняя не нужные в праздничный день мысли.
– Здесь, с вами. Уже.
– Мама, папа! Можно нам выйти? – из-за двери доносится тоненький голос Эллы.
– Давайте, выходите, – разрешает Шура.
Девочки вбежали в пижамках, глаза у них горели. Сели за стол, с удовольствием разглядывая мандарины. Несколько минут мы ели почти молча. Александра попыталась расспросить о фронтовом быте, о Ленинграде, но мои ответы были коротки, отрывисты.
Мысли мои были там, за сотни километров, где сейчас, в эту самую новогоднюю ночь, красноармейцы сидели в промерзших окопах, курили и принимали фронтовые сто грамм. Ждали нового приказа на штурм. Впрочем. И там встречают Новый год.
Из радиоприемника доносилась веселая музыка. Праздник катился по стране. В газетах напечатано поздравление от товарища Сталина, ЦК и Политбюро. Я налил себе и жене шампанского, девочкам – сладкий морс. Стрелки часов приближались к XII. Поднял бокал.
– За вас, родные, за товарища Сталина, за наступающий год. Чтобы он был спокойнее уходящего.
Выпили. Началась раздача подарков. От Александры – книжки для девочек, теплые шерстяные носки для меня. Я же привез им из Ленинграда – старшей финскую шапочку, а младшей и шапочку и варежки. А жене – духи «Красная Москва».
Позже, когда девочки, наконец, заснули, утомленные впечатлениями, а мы с Александрой остались одни на кухне с недопитой бутылкой, она спросила тихо:
– Страшно там было?
Я понял, что она спрашивает не о том страхе, который испытывает любой нормальный человек, когда в него стреляют. Она спрашивала о другом страхе. О том, что сидит глубоко внутри каждого, кому есть кого терять.
– Нет, – ответил я. И это было правдой. За себя я не боялся. Была холодная концентрация, расчет, ответственность. – Хотя временами – тяжеловато.
Она молча кивнула, налила нам еще шампанского. Накрыла рукой мою, шершавую, со следами мелких ран и обморожений. Это простое, человеческое прикосновение здесь, в тепле, казалось чем-то нереальным.
За окном начали бить куранты, отсчитывая последние секунды старого года. 1939-й – первый год Второй Мировой войны – уходил. Миллионы людей верили сейчас, что следующий год будет лучше.
И это правильно, потому что наступающий 1940-й не чета 1941-му, который оборвет жизни многих из них. Александра, подошла сзади, обняла меня, прижавшись щекой к спине. Сказала тихо:
– Не печалься. Настал Новый год. Все наладится.
Я не ответил. Просто смотрел в темноту, зная, что не наладится, что самое страшное – впереди. И что эта тихая, хрупкая жизнь за моей спиной – вот это тепло, запах волос жены, сонное дыхание дочерей за стеной – это и есть то, что я должен защитить.
Ценой чего угодно. Даже той, которую сам еще до конца не осознаю. Куранты отзвенели. Наступил 1940-й год. Тишина за окном стала еще глубже, еще зловещее. Я отвернулся от стекла.
– Ложись спать, Шура. Завтра рано вставать. Собираться в дорогу.
– А ты?
– Я тоже. Сейчас только…
Договорить я не успел. В дверь позвонили. Резко требовательно. Я успокоительно похлопал Шуру по плечу и пошел открывать. Повернул ключ в замке. Распахнул створку в двери. Военный в кожаном пальто, сдернул с руку крагу. Осведомился:
– Жуков, Георгий Константинович?
– Да, я комкор Жуков. В чем дело?
– Вам придется проехать со мной.
– В чем дело?
Вместо ответа он предъявил удостоверение. Твердую, темно-красную книжицу с золотыми тиснеными буквами. Это был человек из Особого отдела ГУГБ НКВД. Судя по знакам различия в петлицах – в чине капитана.
– Вам придется проехать со мной, – повторил он.
Он не смотрел мне в лицо, его взгляд была направлен вглубь квартиры, будто фиксируя обстановку для будущего обыска. Все внутри меня сжалось тугой, стальной пружиной. Мысли метались с бешеной скоростью.
В чем причина? Финская кампания? Интриги Маленкова? Или… Зворыкин? Канал снабжения из-за океана провалился? Или то, о чем предупреждал Грибник – внутренняя чистка, которая добралась и до меня, несмотря на успехи?
– По какому вопросу? – спросил я, не отступая от порога.
Давить авторитетом на этого человека было бесполезно, но можно было потянуть время, чтобы понять, в чем заключается мой прокол.
– Вопросы зададите на месте, – последовал ответ. – Одевайтесь. Машина ждет.
Я повернулся. Александра Диевна стояла в дверях комнаты, белая как полотно, прижимая к себе девочек, которые испуганно жались к ней, не понимая, но чувствуя, что происходит что-то страшное. Их глаза были полны немого вопроса.
– Шура, все в порядке, – сказал я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно. – Вызов по службе. Скоро вернусь.
Это могло оказаться правдой, хотя из таких «служебных» отлучек часто не возвращались. Если бы это был арест, капитан был бы не один. Он бы предъявил постановление. Сопровождающие его чекисты начали бы обыск.
Впрочем, арестовать меня могли и после предварительной беседы, а обыск начать позже, и без моего присутствия. Так что ничего еще не кончилось и расслабляться пока было рано. Да я и не расслаблялся с той минуты, когда осознал, что и в самом деле стал Жуковым.
Я натянул шинель поверх домашней гимнастерки, сунул в карман коробку «Казбека» и коробок спичек. Не забыл свой армейский планшет с карандашами – привычка. Сотрудник ГУГБ наблюдал за каждым моим движением терпеливо, но и не поощряя промедление.
– Папа… – робко окликнула меня Эра.
– Ложитесь спать, – бросил я через плечо, уже выходя в подъезд.
Лифт молча спустился вниз. В подъезде, у черного, тускло поблескивающего «Бьюика» с затемненными стеклами, ждали еще двое. Без слов открыли заднюю дверь. Я сел. По бокам от меня устроились сопровождающие. Капитан сел впереди. Машина тронулась плавно.
Новогодняя Москва проплывала за стеклами. В окнах домов горел свет. Люди продолжали праздновать. Куда меня везут? На Лубянку? В Лефортово? Или на какую-нибудь конспиративную квартиру для «беседы»? Сопровождающие молчали.
В машине пахло кожей, табаком и ружейной смазкой. В голове вертелись кадры из перестроечных фильмов – допрос в мрачном застенке, мат-перемат, мордобой. Нет, хрен вам на рыло. Я терпеть не стану.
Машина свернула в сторону Арбата, углубившись в сеть переулков. Остановилась у ничем не примечательного четырехэтажного особняка дореволюционной постройки. Окна его были темными. У подъезда скучали часовые.
– Выходите.
Меня провели через черный ход, по лестнице без ковровых дорожек, на третий этаж. Дверь в кабинет, обитую черной кожей, приоткрыли. Внутри за массивным столом, в свете единственной настольной лампы с зеленым абажуром, сидел человек.








