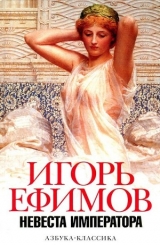
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
Сердце ее оставалось закрытым для слова и духа Библии, для евангельского света. Иногда в ней просыпалось что-то похожее на любопытство, она начинала расспрашивать меня о заповедях, о деяниях апостолов, брала почитать священные тексты. Но тут же ее острый ум находил какую-нибудь фразу, которую она оперяла по-своему и пускала в меня обратно, как стрелу.
– Ага, смотри – вот здесь! Разве это не про тебя? «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Значит, ты прелюбодействуешь со мной каждый день. Какой ужас! Если узнают мои братья, они могут тебя изрубить мечами, и суд их оправдает. Нет, отвернись немедленно. Гляди лучше, как Гигина готовит тебе баранину с чесноком. Мысль об обеде – лучшая защита от дьявольских козней.
Порой я думал, что, если бы Афенаис довелось послушать самого Пелагия, броня ее иронии раскололась бы и сердце открылось мне и моему Богу. Но, с другой стороны, не преувеличивал ли я – по своей привычке – силу и значение слов? Что мы можем знать о девичьем сердце и о замках на его дверях? И разве сам Пелагий, со всем его красноречием, сумел пробить стену между своим сердцем и сердцем возлюбленной?
Фалтония Проба пыталась объяснить мне, что произошло между моим учителем и его невестой много лет назад в Бордо.
ФАЛТОНИЯ ПРОБА РАССКАЗЫВАЕТ О ПОМОЛВКЕ ПЕЛАГИЯ
Право же, вам нет нужды делать вид, будто вас интересуют любые римские сплетни двадцатилетней давности. Я уже поняла, что сердце ваше ловит только рассказы о Пелагии, – и это меня не тревожит. У стен моего дома, хвата Господу, еще нет ушей. Но вспомнить и внятно пересказать его тогдашние признания мне будет нелегко. Ибо, честно сказать, подлинные чувства его часто оставались для меня загадкой, завернутой в красиво мерцающую словесную паутину. Возможно, мой рассказ огорчит вас. Но ведь вы проделали такой долгий путь не затем, чтобы слушать только хвалы своему учителю.
Видно, Пелагий и сам не очень понимал, как это все произошло. Потому и рвался рассказать кому-нибудь. Но кому? Только женщина стала бы его слушать. Римские понятия о мужской чести не становятся мягче с течением веков. Вам разрешается завести наложницу, вступить в связь с рабыней, соблазнить замужнюю женщину, пользоваться мальчиками. Но при одном условии: что вы не дадите страсти оседлать свою волю. Воля римлянина должна оставаться свободной – только тогда он может сохранить честь и достоинство, остаться человеком долга. Пылать всепожирающей страстью – удел раба.
Пелагий рассказывал мне, что, ложась спать в день помолвки с Корнелией, он пообещал себе: наутро ты проснешься счастливым, как никогда. Но наутро заказанное счастье не явилось. Пришла какая-то смутная тоска, растерянность. Сразу вынырнули на поверхность новые неотложные хлопоты. Нужно было искать подходящих свидетелей, звать их с собой в городскую магистратуру – подписывать брачный договор. Потом надо было обойти родителей учеников – Пелагий подрабатывал в школе для мальчиков, – запоздавших с платой за обучение. В своем новом положении он не мог позволить себе сохранять прежнюю беззаботность к деньгам. Комната с соломенной подстилкой и умывальным тазом в углу – это не то место, куда можно ввести молодую жену.
Только под вечер закончил он все эти безрадостные дела и забежал ненадолго в дом грамматика Глабриона. Корнелия вспыхнула ему навстречу, как фонарик. Будто ставни сняли с окон – и в дом хлынул свет, который до этого лишь пробивался лучами сквозь щели. Никогда еще Пелагий не видел ее такой прекрасной, такой преображенной. Но для него самого…
Нет, здесь я должна вернуться назад и припомнить что-то важное. То, что он объяснял мне про свой страх перед красотой. Не обязательно женской – перед красотой цветка, облака, птицы, огня. Мимолетность красоты – вот что внушало ему мистический ужас. И с детства он выработал прием, помогавший ему побеждать этот страх. Он превращал прекрасный облик в воспоминание – и тем спасал его. Или так ему казалось. Ведь в плену памяти можно сохранить все дорогое до последнего дня жизни. С одной, правда, оговоркой.
Как бы это объяснить… Я испытала это много раз на себе… Когда Пелагий приходил в наш дом, он выражал искреннюю радость от встречи со мной, с моим мужем, с нашими гостями, с детьми. Но была в этой радости какая-то отстраненность. Будто он радовался уже не нам, а своему воспоминанию о встрече с нами. Тому воспоминанию, которое будет жить с ним всегда. Он говорил с нами – но жил при этом уже лишь с нашим отблеском в своей памяти. И мы не могли не чувствовать этого.
Видимо, что-то похожее происходило у него и с Корнелией. Каждый раз при встрече он любовался не ею, не ее красотой, а уже своим воспоминанием о ее красоте. И она тоже ощущала, что он как бы не с ней, не рядом. Поэтому так часто бывала молчалива, растеряна, смущена. Вероятно, она надеялась, что после помолвки эта странность исчезнет. На самом же деле исчезло нечто другое. То, без чего любовь утрачивала для Пелагия свою глубинную суть. То, без чего она опускалась на один уровень с подписанием бумаг и взиманием мелких долгов. Из их любви после помолвки исчезла тайна.
Когда он понял это, он впал в панику. Он начал вести себя – по его же словам – просто смехотворно. Например, возобновил писание писем Корнелии. Но теперь он отправлял их. И отправлял с нарочным. Которому порой наказывал принести письмо, когда вся семья и гости были в сборе.
Каково было бедной девушке под взглядами открывать письмо, начинавшейся строчкой: «Возлюбленная Корнелия, пусть никто никогда не узнает об этом письме…» И дальше что-нибудь вроде: «Ты знаешь, я люблю разговаривать сам с собой. Я нахожу себя довольно интересным собеседником, но долго боялся, что могу исчерпать интересные темы. Теперь это прошло. Теперь у меня есть бесконечная, неисчерпаемая тема – ты. И я могу беседовать с собой о тебе до конца дней своих».
Молодая влюбленная невеста узнает, что для жениха она – всего лишь интересный предлог для разговора с самим собой. Какую выдержку надо было иметь, чтобы не расплакаться на глазах у всех, не убежать?
Но я старалась не прерывать рассказ Пелагия своими запоздалыми упреками. Я только смотрела на игравшую у наших ног пятилетнюю Деметру и думала: «Ведь и ей через каких-нибудь десять лет доведется испытать нечто подобное. А может быть, и похуже. Нет, я должна заставить себя слушать до конца. И постараться понять. Чтобы потом прийти ей на помощь. Когда и она окажется перед входом в лабиринт, именуемый „мужское сердце“».
Однако понять было очень трудно. Мне кажется, и сам Пелагий не мог объяснить, что его томило. Его рассказы были полны описаниями каких-то замысловатых стратегических ходов, каких-то почти танцевальных ухищрений. То он говорил, что он должен был учить Корнелию, шаг за шагом открывать ей сущность любви. Но тут же начинал разъяснять, что учил ее лишь тому, чему выучился у нее же, открывал ей ее собственную душу. И якобы для этого нужно было изображать бегство от нее, отступление. Чтобы она почувствовала вкус к любовной победе, начала ценить ее, увлеклась преследованием «противника». То говорил, что она должна была научиться ценить его невидимоеприсутствие, которое всегда сопутствовало присутствию видимому, и как бы двигаться в танце с невидимым партнером. То сравнивал себя с Пигмалионом, создающим прекрасную статую, которая вот-вот оживет.
Сознаюсь, что во всех этих вычурных фантазиях для меня проступало лишь одно: он любой ценой хотел остаться в своих отношениях с Корнелией хозяином положения. Не важно, в какой роли – стратега, учителя, танцора, скульптора. Главное – распоряжаться, вести. Не проявлялась ли в этом паника римского гордеца, испуганного силой собственного чувства? Которое может отдать его во власть объекта любви, позорно лишить воли?
А вдруг невеста разлюбит его? Вдруг решит порвать помолвку? И он начинал плести новые, одному ему видимые петли и на этот случай. Нарочно сердил ее, обижал, огорчал. Чтобы впоследствии можно было сказать себе, что, дескать, это он сам подтолкнул ее разорвать помолвку. Потому что помолвка, брак – это узы. А ему душа девушки нужна была свободной. Только такой он мог любить ее.
Конечно, семейство Глабрионов чувствовало напряжение, повисшее между помолвленными. Они пытались выяснить, вмешаться, помочь, расспросить о причинах. Может быть, кто-то пустил дурной слух о Корнелии, оклеветал? Может быть, жениха тревожит бедность невесты? Если это так, они готовы увеличить размер приданого. Можно даже обсудить включение в него маленькой водяной мельницы на притоке Гарумны, недавно купленной семейством. Нет? Может быть, Пелагий смущен собственной бедностью? Но при его способностях блестящая преподавательская карьера в Бурдигалле ему обеспечена. Тоже нет? Тогда что же?
Пелагий и сам не знал. Но с каждым днем он все глубже погружался в тоску. От которой не спасала никакая стратегия, никакие ухищрения. Которая месяца через два после помолвки прорвала плотину в самом неожиданном месте.
Он пришел на занятия со своими младшими учениками. Открыл рот, чтобы перечислить греческие местоимения. И вдруг издал какой-то некрасивый лающий звук. Он поднял глаза на учеников, но увидел только белесую муть. Рыдания рвались из него, будто пытались нагнать убегающую мечту о счастье. Он уронил залитое слезами лицо в ладони и перестал сдерживать себя. Он плакал так заразительно, что вскоре вместе с ним рыдал весь класс. Встревоженный служитель вбежал с розгой в руке, застыл в растерянности и вскоре тоже стал ковырять в глазах неумелыми пальцами.
На следующий день Глабрионы получили письмо, в котором Пелагий извещал их, что срочное дело заставляет его немедленно покинуть Бурдигаллу. Он не знает, удастся ли ему вернуться в обозримом будущем, поэтому хочет, чтобы Корнелия считала себя свободной от данного ему обещания. Он навсегда сохранит в сердце любовь и уважение к ней и благодарность за то счастье, которое она ему дала. Он клятвенно заверяет, что его внезапный отъезд вызван лишь печальными обстоятельствами и не должен никак запятнать честь девушки и всего семейства Глабрионов. Он хочет, чтобы об этом письме узнали все и чтобы оно было предъявлено на суде любому клеветнику, который вздумает порочить имя безупречной Корнелии.
(Фалтония Проба умолкает на время)
ГОД ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТОЙ
ГАЛЛА ПЛАСИДИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С СЕРЕНОЙ И СТИЛИХОНОМ
Если судьба сводит тебя с родственником, который хорошо знал тебя в детстве, в голосе его тебе всегда будет слышаться что-то назидательное. И сама поневоле начинаешь говорить с фальшивым почтением, изображая на лице сияющую честность и готовность сознаться во всем, во всем.
Так поначалу складывались мои отношения с кузиной Сереной в Равенне. Когда-то она видела меня совсем маленькой в походной палатке отца, видела подростком в Константинополе и теперь сразу обрушила на меня водопад воспоминаний. Серена уверяла, что я была опасно толстым ребенком и что именно она запретила дворцовым поварам закармливать меня печеньем и сластями. Я, скромно потупясь, благодарила ее за заботу и рассказывала последние константинопольские новости: как подвигается восстановление храма Святой Софии после пожара; как преследуют и казнят сторонников изгнанного Иоанна Златоуста; с какой смесью почтения и страха говорят при дворе о муже Серены, полководце Стилихоне. О том, что саму Серену многие в Константинополе считали шпионкой, приезжавшей только для того, чтобы сообщать западному императору тайны восточного, мне упоминать не хотелось.
Все же она не показалась мне такой зловещей и безжалостной интриганкой, какой ее изображал брат Гонорий. Очень скоро я поняла, что этой женщиной владеет одна страсть: дети, судьба детей. Недавняя смерть старшей дочери – императрицы Марии – отзывалась в ней не только кровоточащим горем, но и каким-то гневным изумлением. Как? Неужели люди умирают и в шестнадцать лег? Даже если их поднять заботливыми руками на высоту трона? Но гнев ее был не на Бога, не на судьбу, а на себя. «Как я могла это допустить?» – часто повторяла она.
Горе, однако, не убавило в ней пыла охранительных забот. Теперь она вынашивала планы женить императора на своей младшей дочери – Амелии Термантии. Правда, девочке было еще только двенадцать – приходилось ждать. А ждать чего-то в бездействии для этой женщины было пыткой. И она поспешно стала впрягать в повозку своих интриг новую, удачно подвернувшуюся лошадку – меня.
Первую встречу с Эферием нам устроили как будто случайно. Серена позвала меня посмотреть китайские шелка и персидские ковры, привезенные на продажу купцом из Тира. Мы ходили вдоль столов, любовались узорами, накидывали на плечи друг другу сверкающие ткани, смеялись.
Они вошли внезапно, один за другим – отец и сын, Стилихон и Эферий.
Оба пыльные, обтянутые ремнями и застежками, пахнущие болотной жарой, конским потом, дымом костров. По преувеличенно громким восклицаниям Серены я догадалась, что она знала об их приезде.
Эферию тогда было лет шестнадцать. Он был смешливый, длинноносый, очень подвижный. Смотрел в глаза открыто и так спешил ответить на обращенные к нему слова, словно любая секунда раздумья могла навлечь на него подозрение в неискренности. Едва поприветствовав меня, он кинулся рассказывать матери, как они пересекали разлившуюся реку.
– Ты не можешь себе представить!.. За Аргентой вода поднялась на пять локтей… Бескрайнее озеро… Моя лошадь шла по колено в воде, а потом уперлась… Я спешился, стал тянуть ее за собой – и тут же провалился по шею… Солдаты конвоя хохотали, вытаскивая меня… Лошадь умнее всадника…
Тут он обернулся ко мне, вгляделся в мое лицо.
– Постойте… Я сначала подумал, что вы просто… Но вы ведь – Галла!.. Счастлив приветствовать вас в Италии. Я слышал о вашем приезде и был очень рад… Почему никто не предупредил меня, что вы здесь?.. Поверьте, я никогда бы не посмел явиться перед вами в таком виде, прямо из болота…
Он убежал переодеваться. Родители проводили его влюбленными взглядами, и я с грустью подумала, что на меня уже с семи лет некому было так смотреть.
Стилихон встал передо мною, сложив ладони на пряжке тяжелого пояса.
– Вы выросли похожей на мать, – сказал он. – Ваш отец очень любил ее. Это был единственный случай на моей памяти, когда женская красота решала, быть или не быть войне. Не странно ли? Хрупкая девушка улыбнулась нашему императору – и тысячи закованных в броню воинов оседлали коней и поскакали навстречу смерти.
Голос Стилихона звучал ласково, но лицо оставалось задумчивым и неподвижным. Редкая бородка обрамляла его, закругляясь рамкой вокруг выбритых скул. У меня мелькнула мысль, что чем больше варварских легионов вольется в римскую армию, тем гуще и дальше борода полководца будет выползать на его щеки. Но латынь Стилихона была чистой, вандальских предков расслышать в ней не удалось бы и самому рьяному клеветнику.
Императрица Эвдоксия в свое время объясняла мне, что не только любовь к моей матери заставила Феодосия Великого стать на сторону моего дяди – изгнанного императора Валентиниана Второго. Оставить узурпатора Максимуса править в Западной империи означало бы признать свою слабость. А это разожгло бы надежды на успешную смуту и в Константинополе. Кроме того, дети, рожденные императору Феодосию моей матерью, были бы прямыми наследниками западного трона. Родись я мальчиком – и этот стоящий передо мной непобедимый воин служил бы мне, а не брату Гонорию.
Но все эти политические познания я предпочла спрятать под маской девичьей наивности.
– Ты заметил, что Галла и Эферий почти одного роста? – сказала Серена. – Я просто залюбовалась ими, когда они стояли тут и разговаривали. Поневоле подумала: какая чудная пара!
– Ты сразу за свое, – вздохнул Стилихон, – Галле вряд ли понравится, если мы начнем говорить о ней так, будто ее здесь нет.
– Галла и сама не может не думать о замужестве. Правда ведь, Галла? Восемнадцать лет – здесь, в Италии, это уже старая дева. Подумать только, сколько жадных интриганов начнут искать ее руки. А у нее нет даже опекуна, который помог бы ей советом.
– Ты забываешь, наверное, что Эферий доводится нашей гостье племянником.
– Если наша дочь могла выйти замуж за Гонория, значит, наш сын может жениться на его сестре. Любого епископа, который усомнится в этом, можно отправить проповедовать Слово Божие за Геркулесовы столпы.
– Не кощунствуй.
– Да, порой я не в силах сдерживать свое нетерпение. И пусть, пусть. Мне просто хочется успеть при жизни подержать на руках внуков. Что в этом плохого?
– Ничего. Но почему тебе непременно нужно, чтобы это были внуки с правами на императорский трон?
– Вовсе нет! Я совсем не имела этого в виду. Просто увидела рядом двух славных, двух достойных молодых людей.
– Галла, я взываю к вашей скромности и благоразумию. Могу я надеяться, что прозвучавшие слова утонут здесь, в этих персидских коврах? Каково вашему брату было бы узнать, что жена его министра планирует основать новую династию при живом императоре? Поверьте, я делаю все возможное, чтобы укрепить в августейшем Гонории чувство уверенности в себе. Нам нужен смелый и гордый император – в этом единственное спасение. Он может полагаться на мою преданность всегда. И хватит об этом.
– Хорошо, хорошо. О брачных узах – больше ни слова. Но можем мы хотя бы развлечь молодых людей? Совместная морская прогулка, семейный выезд с родителями и приехавшей в гости тетушкой? Наденем на Галлу седой парик, чтобы дворовые сплетники не заподозрили ничего дурного…
Стилихон не выдержал, ответил улыбкой на наше хихиканье. Они стали обсуждать, кого из придворных взять с собой, чтобы не оказаться в компании тайных соперников и недругов, способных всем испортить настроение своими подкусываниями. Решили назавтра отправиться на остров в Адриатическом море, на котором сохранились развалины крепости, построенной еще царем Пирром.
Однако поездка наша сорвалась.
Ибо на следующий день пришло известие, что многие варварские племена объединились под командой все того же Радагаиса и их полчища приближаются с севера к Альпам.
Стилихону и Эферию пришлось срочно возвращаться к армии.
(Галла Пласидия умолкает на время)
ЮЛИАН ЭКЛАНУМСКИЙ В КРУЖКЕ ПЕЛАГИЯ
Не так уж часто удавалось нам собираться вокруг Пелагия в годы его жизни в Риме. Беседа обычно начиналась с того, что учитель выбирал кого-нибудь из нас и предлагал подробно описать любой прожитый день с утра до вечера. Не только дела, события и разговоры, но и чувства, которые струились при этом по камешкам души. Мне запомнилась, например, одна такая беседа, центром которой был мой друг Целестий.
– Ну, как провел вчерашний день наш подающий надежды адвокат? – спросил Пелагий.
– Нечем похвалиться, право. Пусть сегодня расскажет кто-то другой.
– Если мы будем выбирать только дни, которыми можно гордиться, мы превратимся в сборище самохвалов.
– Ну хорошо. С утра я направился на чтение завещания Мустия Приска. Того, что владел каменоломнями в Этрурии. Почти все новые мостовые к югу от Авентинского холма и часть дороги на Остию вымощены его камнем. Мой патрон помогал ему составлять и менять завещания каждый раз, как он заводил новую наложницу. Но, по счастью, у него хватило чувства чести оставить б о льшую часть сыну.
– Ты говоришь «по счастью» – значит, это порадовало тебя? Ты хорошо знал сына покойного? Дружил с ним?
– Вовсе нет. Было несколько случайных коротких встреч в доме Мустия. Но вчера я смотрел на этого лысеющего сорокалетнего мужчину, на капли пота, омывающие его щеки, и сердце сжимала жалость. Сколько лет он ждал этой минуты! Какие унижения должен был терпеть от сумасбродного отца! Как дрожал при появлении на свет новых внебрачных детей! Наши законы обрекают взрослого человека на полную зависимость от главы семьи. Разве можно при этом ждать любви и уважения к родителям? Разве есть надежда, что кто-то может вырасти смелым и решительным мужем при живом отце? Нет, только таким: сломленным, потным, с жирной грудью, с утекающим взглядом.
– Ты хотел бы изменить закон? Каким образом?
– Старший сын должен наследовать отцу независимо ни от чего.
– Даже если он растет пьяницей? Азартным игроком? Невеждой? А младший при этом – прилежный и честный молодой человек, способный сохранить и приумножить семейное достояние?
– У меня есть что сказать по этому поводу. Но для этого мне понадобится водяная клепсидра на пять часов.
– Нет, тогда лучше вернемся к урокам твоего дня.
– С чтения завещания я должен был поспешить в суд. Слушалось дело о супружеской неверности. Смотритель Каракалловых бань пожаловался префекту, что жена его завела роман с центурионом городских когорт. Префект, разобрав обвинение, нашел улики достаточными, центуриона разжаловал и отправил рядовым на Рейн. Но одновременно было возбуждено дело против неверной жены. Ведь речь шла о преступлении, в котором должны быть замешаны как минимум двое. Олух смотритель никак не ждал такого оборота. Он вовсе не хотел терять жену. Избавиться от соперника – вот все, что ему было нужно.
– Ты защищал неверную жену?
– Я построил свою речь на том пункте, что истец не знал хитросплетений закона. Что буквальное применение соответствующей статьи приведет к тому, что пострадавшая сторона будет вдобавок сурово наказана. Ведь по Юлиеву закону конфискуется даже приданое жены, а оно давно было пущено смотрителем в разные сделки. Но ничего не помогло. Жену присудили к конфискации и высылке на Сардинию. Муж и жена рыдали, обнявшись, так что страже пришлось растаскивать их силой.
– Воображаю, каково тебе наблюдать такие душераздирающие сцены в суде чуть не каждый день.
– Мой патрон говорил мне не раз, что сострадание – недопустимая роскошь для адвоката. Но горько чувствовать, как усыхает часть твоей собственной души. Та, что способна откликаться на чужую боль.
– Однако ты продолжаешь принимать близко к сердцу дела своих клиентов? День, прожитый тобой вчера, казался тебе важным, насыщенным, ты был поглощен своими занятиями?
– Пожалуй. И все же… Стыдно признаться, но, глядя на несчастную пару, я уже не думал об их горькой судьбе. Моя только что произнесенная речь – вот что волновало меня гораздо сильнее. Как оценили ее слушатели? Запомнит ли меня судья? Что будет доложено моему патрону? Какие приемы риторского искусства я забыл применить?
– Когда ты кончишь, я хотел бы вернуться к этой теме: наши тихоголосые чувства – это уже мы сами? Или мы – это только чувства, отлившиеся в поступки?
– Я очень боюсь, что моей душе грозит стать рабой тщеславия. Даже вчера утром, даже при чтении завещания, когда дошли до списка тех, кому покойный выражал безденежную благодарность, я вслушивался с жадностью и надеялся услышать свое имя. А когда стало понятно, что Мустий не включил меня, я был горько уязвлен. Хотя сейчас это кажется мне таким пустяком.
– Тщеславие может играть и благую роль, если это бич, гонящий адвоката на защиту справедливости.
– Ах, если бы мы защищали справедливость!.. Ведь гораздо чаще нам приходится напускать красноречивый туман, чтобы скрыть за ним жуликов и прохвостов, чтобы помочь им уйти от справедливого наказания. Ибо только у ловких жуликов найдутся деньги на дорогих адвокатов.
Наш учитель никогда не обличал наши слабости и пороки. Наоборот, он даже как бы выступал нашим адвокатом в защите от самих себя. И тем подталкивал надрезать больное место в собственной душе еще глубже. Он будто постоянно помнил замечание кротчайшего Тразеи: «Кто ненавидит пороки, ненавидит людей». Когда Целестий умолк, Пелагий вернулся к теме тщеславия.
– Казалось бы, что самое важное для пишущего поэму? Чтобы ее прочло побольше людей. А для говорящего речь? Чтобы собралась толпа погуще, чтобы крики хвалы были погромче. Наше тщеславие гонит нас на площадь, в толпу, как надсмотрщик гонит гладиатора на арену. Но все это до тех пор, пока толпа представляется нам безликой. А теперь давайте вообразим, что из толпы на нас взирает сборщик налогов. Хотим ли мы попасться ему на глаза? Пожалуй, нет. А то еще он подсчитает наши гонорары и отнимет львиную долю. Хотим ли мы попасться на глаза императорскому казначею? Императорскому министру, самому императору? Хотим, но и страшно боимся. Если мы не понравимся одному из сильных мира сего, все приветствия толпы превратятся в ничто. А теперь попробуем только вообразить, как должна страшить нас мысль – попасться на глаза Богу! Сколько мужества нужно было праотцу Аврааму каждый раз отвечать: «Вот я, Господи»! Так что порой я спрашиваю себя: а не есть ли наше мелкое земное тщеславие пусть неуклюжий, пусть детский, но все же шаг наверх? В ползании младенца на четвереньках – не таится ли потребность встать на ноги? И может быть, весь секрет в том, чтобы не останавливаться, чтобы стать непомерно, ненасытно тщеславным, так чтобы лишь Господний отклик мог насытить жаждущую душу.
Должен сознаться – я не всегда был искренним до конца, когда приходила моя очередь описать прожитой день. Ибо среди своих пороков я особенно тяготился одним, который Пелагий не в силах был понять. Гневливость – вот был мой главный враг, который порой прыгал в душу, как ночной разбойник, и заполнял ее целиком. На несколько минут я как бы терял память, сознание, совесть. Порой не мог вспомнить потом, что я успел натворить в припадке бешенства.
В церкви у меня был прихожанин, который почему-то уверовал, что лик Христа, вышитый моей женой, поможет ему с выгодой продать грузовую барку, которой он владел. Барка была старая, она поднялась и спустилась по Тибру столько раз, что теперь годилась только на дрова. Я уверял прихожанина, что лик Христа может помочь его душе, но не его карману.
Он лишь таинственно ухмылялся.
Однажды мы увидели, что вышитая икона пропала. А через несколько дней жадный лодочник снова появился в церкви и вернул святое изображение.
– Видите, святой отец, – заявил он, сияя, – я оказался прав. Икона помогла. Нашелся-таки глупый еврей, который купил у меня эту барку.
– Наверное, этот несчастный покупатель уже кормит рыб на дне Тибра, – сказал я, чувствуя, как ослепляющий белый свет заливает мне глаза.
– Туда ему и дорога – обрезанному Иуде. Я знал, что Христос всегда поможет отомстить тем, кто его распинал.
Тут все поплыло, все исчезло перед моим взором. Я слышал собственный крик – но словно бы издалека. И видел мельканье кулаков.
Когда я очнулся, несчастный лодочник лежал в проходе между скамьями, закрывая лицо окровавленными ладонями. В руке у меня был обрывок какой-то цепи. (Откуда он взялся?) Испуганные прихожане теснились по стенам.
Мог ли я сознаться Пелагию в подобном?
Как-то после одной из таких бесед у Пелагия Целестий спросил меня:
– Ты когда-нибудь попадал на лодке под сильный ветер? Я однажды попал в бурю по пути на Корсику. Волны ударяли в днище так громко, будто они тоже были из дерева. В такие минуты вцепляешься в борт посиневшими пальцами и не замечаешь, что собственная блевотина летит тебе в лицо. Суденышко на боку, парус сорвало, мачта мотается где-то в клубах пены… Так вот для меня каждая беседа с учителем – как эта мачта. От бури не защитит, но возвращает кружащейся голове способность различать, где верх, где низ.
Я только промычал тогда невнятное «и для меня тоже», но разговор замял. Даже другу Целестию не мог я признаться, что на мою семью надвинулась такая буря, что у меня было темно в глазах с утра до вечера. Душа больше не искала ничего высокого, не стремилась вверх. Она молила лишь о спасении. Любой ценой – хоть спуститься в Аид.
Ибо злая болезнь нашла на нашего сына и высасывала из него жизнь, как паук высасывает пойманного мотылька.
Ему пошел третий год, когда мы заметили, что кожа его становится неестественно бледной. Поначалу мы с женой утешали друг друга, говорили, что вот придет лето и он покроется загаром, как те мальчишки, что гоняют обручи перед нашим домом. Но летом ему стало только хуже. Сердечко его вдруг начинало колотиться без всякой причины, даже если он просто сидел или лежал. Он брал мою руку, клал себе на грудь и просил держать покрепче. «А оно не может вырваться и улететь совсем? – спрашивал он. – Помнишь, как канарейка кормилицы вылетела из клетки и не вернулась никогда?»
Бледность все усиливалась. Даже десны и язычок сделались блеклыми, почти серыми. В белках глаз проступила неестественная голубизна. Он жаловался, что в ушах у него стоит гулкий шум, будто дождь за стеной.
– Я говорила вам! Говорила, что нельзя забывать жертвы домашним богам! – причитала бабка моей жены – неисправимая язычница. – И что нельзя держать ребенка так долго на одном молоке.
Она пыталась подсовывать нашему сыну жареную зайчатину, запеченных в тесте окуней, куриную печенку с вишневым соусом. Но у него совсем не было аппетита. Врачи, к которым мы обращались, предлагали такие пытки жаром, холодом и водой, что я спросил одного из них, применял ли он их когда-нибудь к собственным детям.
– У меня нет детей и, надеюсь, никогда не будет, – ответил он. – Я слишком занят для подобных глупостей.
Мы исправно платили врачам, но не решались следовать их палаческим советам. Мы молились в церкви и дома, иногда далеко за полночь. Но болезнь не уходила.
Сын начал задыхаться от малейших усилий. Он все время просил пить. На коже там и тут выступали коричневатые пятна, а нежные прикосновения наших пальцев порой оставляли синяки. Кровь временами шла из носа без всякой причины.
И тогда моя жена не выдержала.
Она прижала обе мои руки к столу, будто боясь, что я могу ударить ее, и стала умолять меня принести жертву богу Асклепию.
– Мы никому не скажем, – бормотала она, – ни твоим родителям, ни прихожанам… Моя бабка знает старого жреца… Он все сделает тихо и незаметно… Господь милостив, Он простит… Потому что я умираю от тоски и страха… Кто знает, что угодно Богу?.. Я бы сделала сама… Но нужно, чтобы жертву приносил отец… Сделай это ради меня… Умоляю… Ведь тебе нет нужды изменять нашей вере… Господь видит наши мысли, Он будет знать, что в сердце ты тверд…
Я сидел как каменный. Я и сам был готов хвататься за любые, самые отчаянные средства. Но это? Поклониться ложным богам? Нарушить главный Господень завет? Как после этого я смогу посмотреть в глаза моему отцу, прихожанам, Пелагию? Я только молил Господа, чтобы ослепляющий белый гнев не залил мне разум в ту минуту. Но если я скажу «нет» – не начнет ли потом меня мучить совесть? Мог спасти и не спас…
Господь посылает муки в этой жизни и вознаграждает в жизни вечной… Но почему он не оставляет нам выбора? Может быть, щадя? Хотел бы я иметь такой выбор: собственное вечное блаженство – за спасение ребенка сегодня? Что может быть ужаснее! Не дьявол ли искушает меня сейчас, не он ли прокрался в слова и слезы моей жены?








