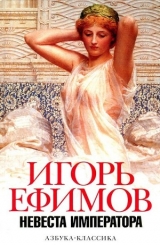
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
ГОД ЧЕТЫРЕСТА ВТОРОЙ
Вчера пришло письмо от брата Маркуса из Константинополя. Он сообщает, что дочь нашего императора Феодосия Второго (да продлит Господь его дни!) была выдана замуж и отбыла со своим супругом в Италию. В связи с этим событием императрица Евдокия решила выполнить давно данный обет: отправиться с благодарственным паломничеством к Гробу Господню. В ближайшие дни ее двор выезжает в наши края. По пути будет длительная остановка в Антиохии. Так что у меня есть время все привести в порядок. Кто знает – может быть, императрица пожелает остановиться в поместье Паулинусов подальше от иерусалимской жары.
От волнения я не мог работать целый день. Бласт хныкал и обходил меня стороной, будто от моей кожи шел какой-то невыносимый жар. Конечно, предположение брата было неправдоподобным. Он не приезжал в поместье уже лет пятнадцать и, видимо, забыл, как мала, в сущности, вилла, как тесен и неухожен сад. Достоинство сана не позволит императрице остановиться в доме, где едва сможет разместиться четверть ее свиты. Но с другой стороны, стал бы брат так легкомысленно упоминать об этом? Не дала ли императрица ему намека? Не могло ли быть, что в роли смиренной паломницы она ограничится очень скромной свитой?
Сегодня я возобновил работу, но пальцы все еще слегка дрожат. Рассказ дяди Меропия лучше отложить на время – он требует такой сосредоточенности, на какую я сегодня не способен. Но коли в конце прошлой главы всплыло имя Алариха, уместно будет здесь вставить рассказ августы Пласидии о визиготах, который у меня уже отделан.
ГАЛЛА ПЛАСИДИЯ О БАЛАНСИРОВАНИИ НА ТРЕХ ШАРАХ
Борьбу церковных иерархов и епископов тех лет я воспринимала так, как воспринимали ее мой брат, император Аркадий, и его советники. Вера рассматривалась как важная опора власти. Христианство, где над всем царил Единый Всемогущий Бог, больше подходило для империи, в которой правил один всемогущий император. Шепотом высказывались мнения, что и великий император Константин принял христианство главным образом потому, что оно обещало скорее обеспечить единство подданных, чем языческие боги, вечно устраивавшие всякие потасовки и каверзы у себя на Олимпе.
Но еще более важной опорой власти были деньги. И денег всегда не хватало. Я только и слышала вокруг себя: «Нет, на ремонт дорог казна не может выделить в этом году ни одного нумизматия… Ни на строительство новых гаваней… Ни на развитие почтовой связи… Необходимо увеличить налоги… Повысьте налог на вывоз шерсти и на ввоз вина… Мостовой сбор и базарную пошлину… На пользование землей и на получение наследства… На свет, льющийся в окна домов, и на пыль, поднимаемую возами…»
Больше всего денег нужно было на армию. Ибо варвары наступали со всех сторон. И каждый раз я наивно спрашивала: «А сколько их?» И мне говорили, что много. Очень много. Сотни тысяч. Но ведь у императора – миллионы подданных. Как могут сотни тысяч угрожать миллионам? Мои учителя и придворные только разводили руками, опускали глаза.
Позднее, когда я жила среди визиготов, они объясняли мне эту странную арифметику войны. «Каждый из нас в бою будет сражаться за свое племя до конца, – говорили они. – Потому что каждый знает: если нас разобьют, он лишится всего самого дорогого – семьи, детей, свободы. А что потеряет римлянин в случае поражения? Ну прорвутся варвары, ну ограбят несколько городов и селений. Но страна так велика, до его дома, скорее всего, не доберутся. Так стоит ли из-за этого всерьез рисковать жизнью?»
Визиготы рассказывали мне, что выпало на долю их отцов, когда те попытались стать послушными подданными императора Валенса. В соответствии с заключенным договором их перевезли на правый берег Дуная и поместили во временных лагерях. Все условия договора они выполняли строго. Сдали оружие, хотя для гота расстаться с мечом – все равно что утратить честь. Позволили увезти детей своих вождей вглубь империи в качестве заложников. Готовы были довольствоваться тем малым, что выдавали им римские власти.
И что же?
Чиновники, приставленные следить за исполнением условий договора, решили нажиться на бедствиях и беспомощности визиготов. Они поставляли им вонючие туши сдохших животных, собачье мясо и прочую гниль. Но требовали платить за все несусветные цены. Из поселений их не выпускали, так что они не могли ничего купить себе на рынках в соседних городках. Начался голод. Истратив все, что у них было, визиготы начали продавать в рабство детей. Некоторые расплачивались телом своих жен. И конечно, ненависть к римлянам нарастала день ото дня.
Мой брат Аркадий объяснял мне, что император Валенс вовсе этого не хотел. Он согласился пустить визиготов на территорию своей империи, потому что надеялся использовать их в качестве солдат. Императору казалось, что смелость визиготов в союзе с римской военной наукой сможет остановить полчища подступающих варваров. Но со смелыми солдатами нельзя обращаться в мирное время как с рабами. Они просто не станут этого терпеть. Не стерпели и визиготы. Они восстали, и император Валенс жизнью заплатил за свою ошибку.
Когда в страшной битве под Адрианополем римляне потеряли и армию, и императора, они поняли, что надеть на визиготов ярмо не удастся. Если хочешь извлечь из них пользу для государства, нужно лучше понимать их. Так, как понимал их мой отец, император Феодосий. Вступив на престол после императора Валенса, он сделал их ударной частью своей армии, и Аларих сражался с ним бок о бок в страшной битве у реки Фригидус.
Но ни один из моих братьев не обладал гением нашего отца. Искусство управлять страной казалось мне похожим на искусство акробата, балансирующего на трех вечно подвижных шарах – армия, деньги, вера. И я с тревогой замечала, что повелители обеих половин империи – Западной и Восточной – все чаще соскальзывали то с одного, то с другого шара.
(Галла Пласидия умолкает на время)
Привычный труд переноса букв из одного [1]1
В книге – с оного.
[Закрыть]папируса в другой сделал свое дело, дрожь ушла из пальцев. Теперь я, кажется, могу вернуться к необработанным табличкам и свиткам. Вот та часть рассказа дяди Меропия, которая относится к 402 году.
МЕРОПИЙ ПАУЛИНУС О ЧТЕНИЯХ В ДОМЕ ЮЛИИ ПРОБЫ
Весной 402 года мы получили известие, что в пасхальное утро отряд римских легионеров напал на лагерь Алариха под Поленцией. Безоружные визиготы собрались на молитву, так что многие из них были перебиты на месте. Говорили даже, что на какое-то время семья самого Алариха попала в плен к римлянам, но вскоре была отпущена по приказу Стилихона.
Впоследствии, благодаря усилиям поэта Клавдиана и других льстецов, пишущих с рифмами и без, эта стычка была объявлена великой победой нашего полководца Стилихона. Немудрено – жена Стилихона, Серена, была главной покровительницей Клавдиана, даже помогала ему найти и заполучить богатую невесту. Но мы в Риме восприняли тогда это известие совсем по-другому. Просто два войска, Алариха и Стилихона, прогнав вандалов, явились к императору за платой. И он, не имея денег, сначала спрятался за стенами Милана, а потом бросился наутек. А оба войска следовали за ним, и каждое пыталось показать, что с ним шутки плохи и именно ему надо заплатить больше и в первую очередь. Враги Стилихона доказывали потом, что у него было много случаев расправиться с Аларихом, однако он каждый раз давал ему уйти. Чем это можно объяснить? Измена, только измена. На самом деле Стилихон был безжалостен к врагам Рима и честен с союзниками. На Алариха он всегда смотрел как на союзника, которому надо честно платить за услуги. Ведь сегодня не заплатят визиготам, завтра откажутся платить римским солдатам. И что тогда? Снова бунт легионов?
Помню, видел на улице Рима в те дни балаганное представление: два актера в собачьих масках рьяно гонят третьего, одетого волком. Потом гордые возвращаются к хозяину и начинают драться из-за миски, которую тот держит высоко над головой. Чтобы никаких сомнений не оставалось, один актер нацепил поножи римского легионера, другой парился в готском меховом кафтане. Благодарная римская чернь хохотала и кидала оболы на расстеленный коврик.
Даже когда Аларих в своих блужданиях по Италии приблизился к Риму, в городе не возникло тревоги. Собирать ли деньги на наем войска для защиты города или заплатить просто визиготам, чтобы они убрались обратно в Эпир? Надо просто подождать и поближе познакомиться с расценками, посмотреть, что выйдет дешевле, – так рассуждали наши денежные мешки.
Кружок в доме Юлии Пробы тоже продолжал собираться регулярно, вплоть до наступления летней жары. Кажется, именно той весной мы впервые уговорили Пелагия почитать отрывки из его работы о посланиях апостола Павла.
Припоминаю, что он выбрал вопрос, который и меня мучил многие годы: если мы, христиане, учим, что спастись можно только верой в Искупителя нашего Иисуса Христа, то что же будет с душами, которые обитали на земле до прихода Христа и не могли приобщиться Слова Его? Неужели они осуждены навеки? Неужели все пророки, от Экклезиаста до Малахии, и царь Давид, и царь Соломон, и сотни других ветхозаветных праведников не сподобятся жизни вечной?
Видимо, и других слушателей тревожило это противоречие. Потому что, когда Пелагий обрисовал его во вступительной части на примерах многих отдельных судеб (вспомнить хотя бы Иова – ведь ему сам Господь сказал, что он прав! так неужто и для него нет дороги в рай?), воцарилась тишина. И тогда, после долгой паузы, Пелагий – да, он уже овладел многими приемами риторского искусства к тому времени – начал приводить отрывки из посланий апостола Павла, отвечающих на этот вопрос.
«И до Закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет Закона» – вот главный ответ, вот ключ к пониманию!
«Где нет Закона, нет и преступления», – говорит апостол Павел в Послании к римлянам, 4:15.
Христос своей гибелью на кресте искупил, освободил от греха не только всех живущих и еще не рожденных, но и всех живших до него. Такова непомерная любовь Бога к человеку, что он Сына Своего отдал на мученическую смерть, чтобы спасти души даже умерших. Ветхозаветные пророки спасены будут не исполнением старого закона (который многие из них не раз нарушали), но крепостью веры своей. Эта вера была сохранена ими, расширена в мире, это она готовила уши и сердца людей к проповеди Христа. В этом их оправдание, в этом их спасение.
Было бы очень неуместно сказать, что чтение Пелагия «прошло с успехом». Волнение слушателей было другого рода. Так осажденные в крепости слушают известие о том, что враг не всесилен. Так мы, осаждаемые снаружи и изнутри силами греха, проникались надеждой на то, что с помощью Христа врага можно победить и отбросить.
Был только один человек, оставшийся по виду спокойным, даже скептично-ироничным, – рабби Наум. Да-да, свободомыслие в Риме тогда было столь широко, что даже еврейский раввин, глава местной общины, допускался на собрания ученых христиан и принимал участие в дебатах. Спросили его мнение об услышанном. Он сказал примерно следующее:
– По-моему, римский ритор Пелагий замечательно истолковал послания римского всадника Савла.
Хозяин дома мягко заметил ему, что здесь он среди благожелательных слушателей и может не бояться высказаться прямо. Но раввину было нелегко раскрыть пошире вековые створки своей раковины.
– Я только хотел подчеркнуть тот факт, – отвечал он, – что большинство весьма глубоких трудов, читавшихся в этом доме, были написаны новообращенными христианами. Амвросий из Милана, Августин из Гиппона, Иероним из Вифлеема, присутствующий здесь Меропий Паулинус – все были рождены в римских или смешанных семьях. То есть среди язычников. Я хотел бы знать, что эти авторы думают о судьбе своих родителей. Ведь те жили после Христа, то есть при Законе, но остались глухи к проповеди того, кого вы называете Сыном Божьим. Значит ли это, что родители будут осуждены навеки? Что для них нет надежды, что нет смысла даже молиться о спасении их душ?
– Но позвольте мне ответить вопросом на вопрос, – сказал на это Пелагий. – А что вы думаете о судьбе Авраама?
– Я не совсем понимаю.
– Ведь по учению иудеев, праведным в глазах Бога может быть лишь тот, кто принадлежит к избранному народу, с которым Бог заключил завет. А знаком этого избранничества является обрезание.
– Да, это так.
– Но ведь Аврааму было девяносто девять лет, когда Господь заключил завет с ним. Девяносто девять лет Авраам прожил необрезанным. Тем не менее Господь нашел его праведным в глазах своих. И сродственника его, Лота, тоже необрезанного, объявил праведником и даже готов был пощадить ради него город. Значит, можно стать праведным в глазах Господа и без обрезания?
Раввин задумчиво молчал. Слушатели в задних рядах приподнимались с мест, чтобы лучше видеть лица диспутантов. Раздались вздохи, перешептывания, смешки.
Рабби Наум медленно отер лицо ладонями, будто снимая паутину раздражения. Потом заговорил негромко, но очень убежденно:
– Нет смысла ловить Бога на противоречиях. Вера неподсудна логике. Кто-то из ваших проповедников уже давно сказал: «Верую, ибо нелепо». Премудрость Господня всегда непостижима до конца. Но римский ум так устроен, что он противится идее непостижимости, безбрежности, бездонности. Даже когда римлянин повторяет вслед за философом: «Я знаю только то, что я ничего не знаю», – это для него лишь кокетливое проявление личной скромности. «Да, я далек от овладения абсолютным знанием, абсолютной мудростью, – как бы говорит он. – Но где-то они существуют во всей своей цельности и неделимости. Это несомненно. Каждая новая крупица познания приближает меня к сияющей вершине. А если я допущу, что передо мной бесконечность, тогда нет смысла двигаться с места».
Тут голос раввина стал приобретать какие-то распевные интонации. Будто створки его души наконец приоткрылись и стали слышны ритмичные накаты прибоя, плещущего в ней давно-давно.
– …Римлянин не начнет строить храм, если будет знать, что завершить постройку невозможно. Иудей же верит, что храм нужно строить, даже если под ногами один текучий песок. Даже если цель плавания недостижима, нужно браться за весла – и уповать на Господа. Современное римское христианство – это иудаизм, из которого убрана бесконечность. Бесконечность творения, бесконечность познания, бесконечность упования. Трепет перед бесконечностью в нем заменен трепетом перед осуждением и наказанием… Христианин всегда будет пытаться строить прочный дом для души. Иудей – отправляться в безнадежное плавание. Христианину подавай определенность, иудею – неясный зов. Христианин будет выглядеть строителем, иудей – разрушителем. Но в какой-то момент – ненадолго – у людей откроются глаза, и они увидят, что христианская постройка превратилась в тюрьму, а иудейская разрушительность – в единственный способ бегства из этой тюрьмы…
Должен сознаться, что за последние годы я вспоминал слова иудея не раз. Да, постройка христианства делается все прочнее на наших глазах. Но там и тут я начинаю замечать решетки на окнах нашего храма. Решетки, которые мы добавляем собственными руками. И это гнетет мне сердце.
(Меропий Паулинус умолкает на время)
Много раз доведется мне еще возвращаться к рассказу дяди Меропия. Сейчас же мне не терпится ввести новый голос. Если бы я дал волю своему сердцу, то просто перелетел бы в поместье Фалтонии Пробы по воздуху времени, как Дедал. Но тогда у меня впоследствии не будет повода описать нашу поездку от Нолы до Анцио. А ведь именно во время этой поездки, в ночь остановки в Капуе, Господь послал мне первую встречу с самым верным учеником Пелагия.
Поэтому все по порядку.
Отдохнув у дяди Меропия, я решил ехать на север, не заезжая в Неаполь. Отношение к сторонникам Пелагия там было крайне враждебным. Сверяясь с табличкой, на которой дядя набросал дорожные указания, я не спеша ехал по горной виа вициналес. За мной двигался мул с поклажей, далее – Бласт верхом на своем, а последней тащилась привязанная веревкой коза. Время от времени громким блеянием она пыталась привлечь наше внимание к великолепным придорожным колючкам. Ящерицы растекались струйками из-под копыт. Заяц сидел в тени можжевелового куста и смотрел на нас с такой наглостью, будто знал, что у нас нет ни луков, ни дротиков, ни сетей.
Бласт вдруг подхлестнул своего мула и попытался обогнать меня. При этом он хныкал, сжимался, заслонялся рукой. «Не хочу твоего молока! Не хочу твоего молока!» – заклинал он кого-то.
Я перевел взгляд туда, куда указывал его оттопыренный локоть. Плоско срезанная вершина далекой горы показалась в просвете между плывущими облаками. Я понял, что это Везувий.
Невольно мой ум, как испуганный заяц, кинулся искать укрытия от еще не начавшегося извержения. Нужно ли спешиться и спрятаться от падающих камней под нависшим уступом? Или, наоборот, мчаться на открытое место? Говорят, в Помпеях и Геркулануме больше людей погибло от дыма, чем от огня. Могут ли пепел и лава долететь до нас? Мысленным взором я уже видел изжаренных мулов, обуглившиеся папирусы, расплавленные таблички, слышал запах горелой шерсти. Распалившееся воображение кололо кожу лица тысячью болезненных иголочек.
Я лягнул своего мула и поскакал вслед за Бластом прочь от огненного вымени земли, безмятежно дремавшего вот уже много лет.
Вскоре пустынная виа вициналес спустилась в долину и слилась со знаменитой Аннийской дорогой.
Дорожная насыпь еще скрывалась за рощей олив, а гул сотен колес и копыт уже наполнил горячий воздух вокруг нас.
Возлюбленная Афенаис, как я жалел, что ты не могла увидеть это зрелище! Казалось, целый город решил справить праздник Сатурналий в пути. Что за пестрота, что за грохот, что за неутомимость движения! И какой парад лиц, морд, нарядов!
Вот навстречу нам катит легкая двухколесная эсседа, и капуанский щеголь с завитыми кудрями смотрит вдаль, будто стараясь не замарать свой взгляд о лица встречных. Вслед за ней выплывает тяжелая подвода, с грузом тесаных камней, раздирает нам уши перестуком колес, выточенных из цельного бревна. Два счастливых рыбака на своем плавструме горланят неаполитанскую песню, бочки из-под распроданной рыбы так и скачут у них за спиной, колотясь о борта.
А вот восемь носильщиков проносят невидимого баловня судьбы, и вся красота и позолота носилок щедро оставлена для любования нам – снаружи, а не ему – внутри. Разодетое семейство, с детьми и стариками, катит в добротной четырехколесной карруке, видимо, на свадьбу родственника, на сговор или на праздник совершеннолетия, лица у женщин вымазаны темной мазью, защищающей кожу от дорожного солнца.
Проезжают верхом чиновники, почтари, спешит куда-то конный центурион… Судейский писарь с ворохом табличек, два подростка, вцепившиеся друг в друга, обгоняют торговца цыплятами, поддают пятками его кудахтающие корзины.
По обочинам движутся пешеходы: местные крестьяне, паломники, женщины с корзинами готовой пряжи на головах, странствующие прорицатели, школьники, рудокопы в деревянных сандалиях… Босые рабы подпрыгивают на раскаленных камнях маргинеса на каждом шагу.
Надпись, высеченная на придорожном милеарии, сообщила нам, что до Капуи оставалось всего двенадцать миль. Но вскоре морда моего мула уперлась в зад телеги, груженной бычьими шкурами. Вереница остановившихся повозок тянулась далеко вперед и исчезала за поворотом. Из уст в уста прилетела весть, что впереди чинят дорогу. Сделана обходная полоса, но она так узка, что по ней пропускают порциями: десять повозок в одну сторону, десять – в другую. Только пешеходы продолжали идти без задержки, бросая в нашу сторону нехитрые насмешки. Пришлось покориться.
Догадливый торговец из ближнего села расставил рядом с дорогой свои лотки: печеные лепешки, яблоки, вареные яйца, виноград, кочаны салата, но главное – вода! Два бочонка студеной воды из лесного источника. Он продавал ее так быстро, что она не успевала нагреться. Как только один бочонок пустел, он посылал подручного наполнить его снова. Была у него и большая колода воды похуже, из которой мы дали напиться нашим мулам. Неподалеку виднелся заброшенный грушевый сад, и несколько путешественников расположились на привал в тени одичавших деревьев.
Но нам надо было спешить.
Мы втиснулись обратно в медленно текущую вереницу повозок и всадников. До поворота ползли час. Но за поворотом с облегчением увидели, что до места ремонта оставалось совсем немного. Горный оползень вырвал кусок дорожной насыпи. Несколько десятков землекопов, с волами и лебедками, подвозили куски скал и корзины с песком, торопясь восстановить разрушенный участок. Казалось, сюда прилетал гигантский дракон, который откусил порцию вкусной дороги, приняв ее за слоеный пирог, – так чисто был сделан срез покрытия.
Подъехав ближе, я впервые в жизни смог увидеть внутреннее строение римской дороги. И изумиться. И улететь мыслями в небо над городом Римом, и представить себе все дороги, расходящиеся от него на сотни и тысячи миль, – виа Фламиния, виа Эмилия, виа Аврелия, виа Латина, виа Салария. Неужели все они, каждый локоть их длины таит под каменными плитами такое же хитроумное устройство? Неужели каждая так же углублена до прочных скальных пород, на которые уложен слой камней, скрепленных глиной, а на него – толстый слой щебенки? А дальше – вот это ровное покрытие из песка и гравия, на котором уже и покоятся верхние плиты?
О великий Рим – не в неповторимых ли дорогах твоих таится тайна твоего неповторимого могущества? В этих дорогах, по которым текут во все стороны, как кровь по жилам, грузы и новости, торговцы и покупатели, приказы и деньги, вещи и слова, богатство и бедность, доспехи и шелка? И не умирание ли дорог, оставленных всем разрушителям – ветрам, дождям, вулканам, – станет в какой-то черный день первым знаком твоей погибели?
Мы прибыли в Капую засветло, когда разносчики из пекарен только еще начинали доставлять в богатые дома хлеб вечерней выпечки. Один из них и довел нас до жилища ювелира Мания. Толстые стены, решетки на дверях, а ворота, окованные железом, устояли бы и перед крепостным тараном – таков был его дом. Заказчики могли быть уверены, что, если они оставят в этой мастерской свое золото и жемчуг, никакой вор не доберется до них.
Маний был старше меня чуть не вдвое, но мы сразу сошлись с ним, когда встретились в Иерусалиме. Он совершал паломничество в святые места и был преисполнен доверия к каждой случайной встрече. Господь послал ему разговориться на улице с шестнадцатилетним юнцом? Значит, это знак воли Господней. Он пошел со мной на проповедь Пелагия и сразу расслышал нездешний высокий звук в словах нашего учителя. Потом мы переписывались все три года, прошедшие с нашей встречи. Он знал о моем приезде.
Может быть, поэтому он встретил меня так, будто я явился в гости с соседней улицы, а не пересек моря и горы. Его невозмутимость порой была похожа на безразличие или даже на сердитость. Он рассматривал тебя почти брезгливо, словно ты был монетой сомнительного достоинства. Поэтому внезапная улыбка, пролетавшая по его лицу, приносила облегчение: ага, значит, поверил, что и в твоей чеканке – не одна только медь.
Меня приятно удивило, что жена Мания села ужинать с нами. В Афинах, даже в христианских семьях, старые обычаи уходили с трудом. Я даже не знал, как выглядели жены некоторых моих друзей. «И ты хочешь, чтобы я вышла замуж в этом городе?! – восклицала моя Афенаис. – Не проще ли спуститься в подвал и попросить замуровать себя заживо? По крайней мере, не придется чистить котлы».
Нет, чистить котлы жене Мания явно не приходилось. Из разговора я понял, что на ней лежат даже обязанности вести расчеты с заказчиками, платить торговцам и сборщикам податей, нанимать служанок, поваров, учителей для детей. Заметив, что на ней не было ни кольца, ни сережки, я позволил себе пошутить – сказал, что жена ювелира, наверно, могла бы менять украшения хоть каждый день.
Она умоляюще сложила ладони перед грудыо:
– Ради Бога, не подливайте масла в огонь. Вот этот человек, макающий вареную репу в сметану, попрекает меня тем же самым с утра до вечера. Жены его собратьев по профессии честно нагружают себе запястья браслетами, пальцы – кольцами, шеи – ожерельями. И расхаживают, как живые витрины, привлекая заказчиков.
– А что ты думаешь, – сказал Маний уныло. – Если все женщины в Капуе заразятся твоим примером, я разорюсь. Мы потеряем дом, поместье, наша дочь останется без приданого, сын не сможет получить образование.
– Ну, до этого еще далеко. Сегодня, пока ты был в городской курии, снова приходила жена смотрителя ипподромов. Она смирилась с моими расценками, оставила жемчужины и золото на серьги себе и дочери.
– А завтра ее муж в банях снова будет обзывать меня лернейской гидрой и разорителем. Он каждый раз грозится покончить с этим раз и навсегда: отрезать своим транжиркам уши.
После ужина мы уединились с Манием на крыше дома, помолились свету Господних лампад на черном небе, и он начал рассказывать мне о том, что происходило в Италии в течение последних двух лет. Как возродились их надежды в позапрошлом году, когда новый Папа Зосимус благосклонно принял в Риме пелагианца Целестия; как объявил после разговора с ним, что не находит ереси в учении Пелагия; как в ответ на это пошли возмущенные протесты и эпистулы из Африки, особенно от Августина из Гиппона; как Папа Зосимус начал колебаться и как в следующем году, один за другим, последовали три страшных удара: собор в Карфагене объявил пелагианство ересью; указ императора Гонория подтвердил это и запретил нашу проповедь; перепуганный Папа разослал буллу с осуждением.
И все же восемнадцать епископов в Италии отказались подчиниться булле!
Борьба продолжается, еще не все потеряно.
И в феврале император Гонорий назначил генерала Констанциуса своим соправителем. Очень многое будет зависеть от того, какую веру поддержит второй император.
Я слушал Мания с колотящимся сердцем. Его рассказ сохранился у меня в подробной записи, я приведу его, когда дойду до рокового 418 года. Пока же я должен поведать о том, что произошло следующей ночью.
Маний уговорил нас задержаться у него в Капуе, подлечить намозоленные ягодицы, дать передышку мулам. Но, видимо, было у него на уме и еще что-то. Ибо глубокой ночью следующего дня он разбудил меня и шепотом сказал, что ему нужна моя помощь в важном деле.
Я последовал за ним.
Мы взнуздали и вывели из конюшни двух лошадей. Хорошо смазанные ворота открылись не пискнув. Собака в соседнем доме неуверенно тявкнула два раза, потом виновато поскулила и вернулась к своим честным собачьим снам. Прохлада затекала в ночные улицы с окружающих гор. Мы пересекли опустевший форум, прошли вдоль стены запертых лавок, мимо каменной базилики, обогнули постоялый двор. Сзади в глинобитной ограде была маленькая калитка. Маний дал мне держать лошадей, постучал. Невидимая рука открыла ему, и он исчез.
Я остался один.
В такие минуты – тишина, темнота, одиночество, чувство смутной угрозы – душа как бы истончается, заостряется, тянется вверх. Начинаешь не то чтобы спрашивать себя в тысячный раз – «кто я? откуда? куда все течет? зачем?», – но бессловесно, как растение, ощупываешь стенку небытия вокруг, пытаешься зацепиться жадной колючкой, сделать очередной виток вверх. Мои единоверцы рассказывали мне, что именно в такие минуты они острее всего ощущали близость Божьего лика. Но я, грешный, должен сознаться, что по моим прикрытым векам в ту ночь опять, с нестерпимой яркостью, поплыло только оно – всегда одно и то же – и бесконечно переменчивое, волнисто живое и картинно неподвижное – прекрасное лицо Афенаис.
«Как я мог уехать от нее? – думал я. – Что я делаю здесь, в чужом городе, около чужого дома, с чужими лошадьми в поводу? Разве есть на свете что-то важнее, чем быть вблизи нее? Каждое утро просыпаться с надеждой увидеть, услышать этот голос, отдающий тихим звоном на каждом „б“ и „в“? Погладить по сгибу локтя, если она позволит. Залить свежим воском пачку табличек для нее и получить взлет бровей в уплату».
Не важно, что она была такой несносной весь прошлый год. Не важно, что исходила злостью на братьев, на служанок, на кошку, на афинских дураков, на коринфских умников, на меня, на себя, на весь свет! Разве одна ее минутная улыбка не смывает недели тоски и раздражения? А вдруг с ней что-нибудь случилось? Вдруг братья довели ее до того, что она убежала из дому, как грозилась? Вдруг ее укусила змея во время прогулки в горы? Ты должен был все стерпеть, на все махнуть рукой и быть с ней, с ней – рядом, вблизи, неотступно – опорой и защитой, утешением и развлечением, пособником и потешником.
Калитка приоткрылась и выпустила Мания, а за ним – еще двоих. Лица их прятались в тени капюшонов. Но по осанке и по свободе движений легко было понять, который из двоих – главный. Когда он садился на коня, подведенного Манием, под плащом мелькнул край епископской рясы.
Мы углубились в сеть боковых улиц. В прохладной пыли копыта стучали не громче кошачьих лап. Дома становились все мельче, бедней, карабкались друг на друга по горному склону. Потом, в тени яблонь, проплыла совсем уже деревня карликов. Только миновав ее, я понял, что это были пчелиные ульи.
Город кончился.
Маний вышел на луг, передал поводья всаднику в рясе, начал тихо объяснять, куда ехать. Затем поманил меня рукой. Я тоже отдал поводья второму из беглецов и поспешил вперед.
Из-под откинутого капюшона показалось бледное, почти мерцающее лицо, которое придвинулось ко мне так близко, точно всадник хотел посветить им себе.
– Маний рассказал мне, кто ты и зачем приехал. Это благое, Божье дело, сын мой. Благослови Господь твой труд.
– Не знаю, достанет ли у меня сил.
– Я буду молиться за тебя. Твой дядя Паулинус много раз помогал мне советом и молитвами. Мне будет приятно отплатить добром его племяннику. Маний объяснит тебе, как найти меня. Приходи. У меня ты сможешь переписать некоторые труды Пелагия и его письма ко мне. Но поспеши. Не дай нашим врагам опередить тебя.
Он натянул капюшон и поехал вверх по темной луговине. Его спутник последовал за ним.
– Кто это? – тихо спросил я у Мания.
– Юлиан, епископ Экланумский. Один из тех, кто отказался подписать папскую буллу об отлучении Пелагия. Да сохранит его в пути Всевышний, да укроет от папских сыщиков.
Пройдет много недель, прежде чем я сумею воспользоваться приглашением епископа Юлиана и посетить его на мельнице под Остией, где он укрывался от вездесущих ищеек куриози. Но так как его рассказ начинается именно 402 годом, я помещу здесь его начало.








