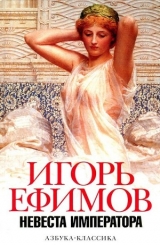
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Корнелия помолчала, потом спросила смущенно и тихо:
– Как вы думаете: там, за морем, он встретится с вашим учителем?
– Не знаю, – так же тихо ответил я. – Мы не знаем, где скрывается наш учитель сейчас. Но если я когда-нибудь увижусь с ним, я расскажу ему о том, что вы сделали для нас сегодня. И его благословение долетит до вас через любую даль и согреет.
Проводив Корнелию до инсулы «Младенец Геркулес», я побрел по улицам Остии один – опустошенный, легкий, растерянный. Вдруг я понял, что у меня нет ни крыши над головой, ни важного дела – заполнить оставшийся день, ни друга, к которому я мог бы явиться, не подвергая его опасности. Мне нужно было сосредоточиться, составить план действий. Но в опустевшей голове порхало только одно имя, проплывало в тумане только одно лицо – бесценное лицо Афенаис. Мне казалось, что, куда бы я ни шел теперь, как бы ни плутал по незнакомым шумным улицам, каждый мой шаг приближал меня к ней.
Вдруг я остановился перед высоким зданием, на котором сияла надпись «Бани Форума». И вошел. Да, это было именно то, что нужно. Только прыжками из жара в холод, из сухого пара в прохладный бассейн смогу я выгнать из тела застоявшийся страх, тоску, напряжение последних дней. Но прежде чем раздеться в аподитарии, я прошел его насквозь и двинулся к тем дверям, за которыми раздавались удары мяча, крики зрителей, топот бегунов.
Палестра была окружена тенистыми портиками с колоннадой и барельефами. Больше всего народу толпилось вокруг треугольника, где очередная команда перекидывала кожаный мяч из рук в руки. Видимо, это были местные чемпионы – мяч почти ни разу не упал на землю. Зрители хором считали число бросков, судья держал над головой песочные часы. С последней песчинкой толпа испустила восторженный вопль. Гордые атлеты, обнявшись за плечи, побежали в сторону фригидария смывать горячую смесь пыли, масла и пота.
Я никогда не любил, не мог, не умел играть в команде. Слушать потом попреки за каждый промах, корчиться от чувства вины перед товарищами? Нет, это не по мне. Мое дело – бег. Ты сам за себя. Сам побеждаешь, сам проигрываешь. Все мышцы в работе, все жилы в напряжении, легкие – на пределе. Искусство бегуна – распределить весь запас сил по длине дистанции, как библейский Иосиф распределял запас семи урожайных лет на семь голодных. Нужно выжать на каждом участке отпущенный заряд, но – при этом не перестараться, не надорвать.
Очередная четверка готовилась к забегу вокруг палестры. Я присоединился к ней пятым. Судья хлопнул прутом, мы понеслись. Поначалу я вырвался вперед, но потом понял, что не рассчитал. Окружность палестры была длиннее, чем мне показалось. «Бани Форума» раскинулись, видимо, на целый городской квартал. Да и возможности тренироваться у меня давно не было. Прибежал третьим и был доволен собой.
Возвращаясь в аподитарий, я вспомнил строчки Марциала, который попрекал гимнаста за пустую растрату сил: «…лучше бы ты виноградник вскопал». Ах, остроумный, едкий Марциал! Неужели ты действительно не понимаешь великую разницу? Вскапывать виноградник – подневольная полезная тягота. Нестись в забеге – вольная счастливая трата сил. Оставь человеку один лишь полезный труд – и жажда бесцельной, бесполезной свободы задушит его или разорвет изнутри на части.
Оставшиеся у меня деньги я сдал под расписку капсарию и пошел раздеваться. Купол аподитария был расписан деревьями, полными птиц и цветов, над ними шла полоса чистой голубизны, так что круглое окно с матовым стеклом поистине можно было принять за солнце, плывущее по небу. В мраморной облицовке скамей и стен красиво чередовались квадраты из красного фасосского мрамора и зеленого тайгетского. Мозаичный пол был выполнен с таким изяществом, которому могли позавидовать даже полы Каракалловых бань в Риме. В углах зала были установлены вазы в форме цветочных чашек, и из них били невысокие фонтаны.
Неподалеку от меня человек в монашеской рясе сосредоточенно развязывал шнуровку сандалий. Мне показалось, что эту темную фигуру я уже видел где-то сегодня. Не в часовне ли утром? Монах казался неуместным здесь, посреди мраморного сверкания и плеска воды. Ведь часто они вменяют себе в особую заслугу не мыться месяцами, а то и годами. И еще что-то казалось странным. Ага – аккуратно подстриженные волосы.
Монах наконец справился со шнуровкой, разогнулся, посмотрел в мою сторону.
Только тут я узнал его и вздрогнул.
Это был Непоциан.
НЕПОЦИАН РАСПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ЛЮБОВЬ
Да, в тот миг ты наконец узнал меня. Или, скорее, я снял маску и позволил тебе разглядеть мое лицо. Я просто не мог больше сдерживаться, таиться, менять личины. Слежка опасно сближает преследователя и жертву. Ты начинаешь чувствовать себя владельцем того, за кем следишь. Его судьба – в твоих руках. Одно твое слово – и для него кончится нормальная жизнь, он будет отторгнут от друзей и близких, сброшен в пучину безнадежности. Но в то же время – он уже почти часть тебя самого. Охотник сливается с дичью, поедая ее. Но перед последним броском копья он смотрит на свою жертву почти влюбленно. Так, как я смотрел на тебя все эти недели в Риме и Остии.
И как трогателен был этот твой первый, инстинктивный жест: натянуть обратно рубашку на голое плечо. Ты готов был бездумно раздеться перед толпой чужих и равнодушных. Но под моим влюбленным взглядом в тебе мгновенно вспыхнула стыдливость. Ты не просто узнал, ты тут же выделил меня из толпы. И это ожгло меня такой радостью, словно ты меня поцеловал.
Конечно, через несколько секунд ты спохватился, вернулся к раздеванию. Ты окреп и возмужал за те три года, что мы не виделись. Но неповторимый изгиб твоей шеи остался все тот же. И арки бровей – как черный двойной мост, от виска до виска. И бесподобный бицепс, блестящий от пота, радостно готовый к любой работе – бега, борьбы, объятий.
Мы начали болтать о протекших годах, вспоминать общих приятелей, с которыми проводили время в Палестине. Ты был осторожен, старался не называть имен. Я же изображал простодушную откровенность. Вот человек, которому нечего скрывать. Да, он все еще полон горечи и злобы на людей и на мир. Но он и не пытается притворяться добреньким. Почему маска благородства всегда кажется неправдоподобной, а маска злости убеждает безотказно? Притворитесь злым – и люди будут верить каждому вашему слову.
Так и ты поверил в мое монашество только потому, что я сразу начал поносить собратьев по монастырю. Рассказывал, какие они жадные, завистливые, прожорливые, похотливые. Выдумал настоятеля, который завел себе пышногрудую домоправительницу, а от нас требует строжайшего воздержания. И если кто-нибудь признается на исповеди в грехе самоуслаждения, назначает ему месяц в подвальной келье, в одной рубахе, на хлебе и воде.
Вообще, сочинить гладкое вранье ужасно трудно. Неопытные привиралыцики попадаются всегда на мелких деталях. Начнешь сочинять о прошедших годах – казалось бы, чего проще, если старый знакомый ничего о тебе не знает. Но внимательный слушатель сразу заметит, что тут у тебя даты не сходятся, тут ты родного брата называешь то так, то эдак, тут перенесся по воздуху из одного города в другой, тут перепутал зиму и лето.
Нет, я уже знал, что нужно тонкие нити вранья вплетать в жесткую холстину правды, – только тогда картина будет держаться. Но не мог же я тогда в первый же момент сознаться тебе, что на самом деле мы с тобой встретились в Риме уже больше месяца назад. Что я стоял под видом подметальщика улиц у дома Фалтонии Пробы в тот самый момент, когда ты вошел в него в первый раз по приезде. Что воспоминания о днях в Палестине тут же вспыхнули во мне так, словно мы бродили, болтали, боролись там с тобой только вчера.
Да, маленькая служанка пыталась заморочить мне голову, уверяя, что ты просто дальний родственник, приехавший в Рим искать протекции. Куда ей! Мы знали всю подноготную этого семейства, потому что следили за ним уже целый год. Знали всех племянников, кузин и кузенов. Я сразу понял, что твой приезд как-то связан с пелагианской смутой. Подумать только – восемнадцать епископов в одной Италии отказались подписать папскую буллу с осуждением! Я всегда знал, что демоны Пелагия сильны, но такое…
Пойми, ты был для меня как олень, несущийся прямо в сети. Пелагианцев было приказано хватать и тащить в суд немедленно. Зацепившись за тебя, я мог состряпать обвинение в ереси против всех обитателей дома. Для моей карьеры это могло означать важный скачок вверх. Почему же я этого не сделан? Почему не послал своих приставов схватить тебя прямо на улице, когда ты так беззаботно разгуливал на виду у всех? Ты догадываешься о причине? Испытываешь хоть тень благодарности? Если так – ты мог бы не убирать колено из-под моей гладящей ладони. Ведь это такой пустяк.
Нет, в те первые минуты встречи в «Банях Форума» я не мог тебе открыться до конца. Да и до того ли мне было! Я только любовался твоим смущением, твоей растерянностью. Больше всего тебе хотелось натянуть одежду обратно и убежать. Но предрассудки вежливости сильны. Убежать без всяких объяснений, без уважительной причины – ведь это было бы дикостью. И ты послушно продолжал раздеваться.
Какой это был пир для моих глаз! Как отливала бронзой кожа на твоих лопатках. Как катились под ней мелкими волнами позвонки. Втекали в узкое ущелье между мышцами поясницы. И обрывались у двух незагорелых холмов. Которые так несправедливо осуждены расплющиваться на сиденье скамейки, на кресле, на ложе, на ступеньке. В то время как по первоначальному замыслу они явно были созданы только для любования. Ведь первоначальный замысел наверняка не включал ни скамеек, ни кресел – у Адама и Евы их не было.
Ах, если бы мужская природа тоже была наделена молоком для питания детенышей! Нет сомнения, что в этом случае сосцы располагались бы на вершинах этих холмов. И тогда люди с младенчества приучались бы любить и ценить их по достоинству. И у них всегда был бы законный повод тянуться к ним с поцелуем.
Помнишь тот день, когда вы с Бластом убегали от меня по улицам Рима? Я был тогда просто в панике. Я понимал, что ты не вернешься в дом Фалтонии Пробы. И больше всего боялся, что ты опять исчезнешь из моей жизни на годы.
Что мне было делать?
Демоны Бласта чуяли меня за тридцать шагов. Как я ни менял обличья, он начинал тревожно озираться при моем приближении. Мне пришлось передать слежку одному из моих подручных. Я выбрал самого слабохарактерного – и оказался прав. Бласт не обращал на него внимания. Этот подручный и проследил, как вы дошли до постоялого двора за городской стеной. И с его же помощью впоследствии мы проследили, как вы перебрались на мельницу под Остией.
«Бани Форума» к вечеру наполнялись трудовым людом. День был такой жаркий, что нам не было нужды греться в терпидарии. И, раздевшись, мы с тобой прямо плюхнулись в бассейн с холодной водой. Тут мне пришла в голову новая хитрость – я притворился, будто не умею плавать. Ты с готовностью взялся меня учить. Твои крепкие руки поддерживали меня под грудь и живот. Я отчаянно барахтался, фыркал, хватал тебя за шею, за плечи. Какой восторг! В конце концов, чтобы польстить твоим педагогическим талантам, я проплыл лягушкой до края бассейна. Ты просто просиял – помнишь?
Эта наша встреча-свидание в банях была мне просто наградой за дни бесплодного вглядывания в пустые окна мельницы. Мы выкопали землянку на опушке рощи и из нее незаметно могли наблюдать за всеми входящими и выходящими. Но, к моему огорчению, ты почти не появлялся. Только мельник суетился по своим делам, да подъезжали возы с зерном для помола, да Бласт время от времени выходил нарубить дров.
Мое положение вдруг осложнилось появлением соперников. Однажды ночыо мы заметили две темные фигуры, крадущиеся в тени деревьев. Кто бы это мог быть? Еще одна парочка еретиков? Воры, задумавшие ограбить мельницу? Мы напали на них, повалили, связали, заткнули рты. Но при допросе в землянке выяснилось, что они тоже куриози. Только посланы не викомагистрами, а самим римским первосвященником. И что им поручено отыскать епископа Юлиана Экланумского. Мельница была включена в список его возможных укрытий.
Что мне было делать? Эти церковные куриози вовсе не были настроены торчать в тесной землянке день за днем, ночь за ночью. Они настаивали, чтобы мы немедленно вызвали приставов и устроили налет. Я доказывал, что так можно распугать всю дичь. Мы ведь еще не знали, прячется ли Юлиан на мельнице или только собирается приехать туда. Если мы захватим мелкую сошку и спугнем большого кабана – не придется ли нам поплатиться собственной спиной за такую оплошность?
Нет, не мог я допустить, чтобы они схватили тебя. Не раз мне доводилось видеть пытки при допросах. Представить себе, как раскаленный железный прут начнет дымиться на твоей коже, как затрещат суставы рук, подвешенных к потолку, как твой сладостный рот исказится душераздирающим воплем… Ни за что!
В «Банях Форума» дров не жалели. Истекая п о том в жарком кальдарии, ты бездумно повторял это слово: «пытка, пытка». Я поддакивал тебе, кряхтел, забирался ступенькой выше. И потом, когда мы, прожаренные насквозь сухим паром, плюхнулись в огромный лабрум, ты уже смеялся от души, уже не дичился меня. Видимо, людей сближает не только пролитая кровь. Совместно пролитый пот тоже располагает нас друг к другу. Недаром в банях царит обычно благодушное настроение, почти не случается ссор. А может, это просто отсутствие женщин? Не они ли вечно сеют раздор между нами?
Пока мы сидели рядом в воде, прислонясь к пологой стенке лабрума, среди отдувающихся и болтающих жителей Остии, меня так и распирало рассказать тебе о том, что я сделал для тебя утром. Я воображал волну твоей благодарности – и заранее млел под ее теплым дуновением. Я воображал, что, увидев, на какой риск я пошел ради тебя, ты испытаешь прилив настоящей нежности и поймешь наконец, что птицы любви действительно летят на разные деревья, а не только на женские прелести.
И ведь тогда, ранним утром, на решение у меня оставались считаные секунды. Когда Бласт внезапно выехал верхом на муле из ворот мельницы и повернул в сторону Рима, в землянке были только я и церковные куриози. (Мои подручные после ночного дежурства ушли спать в глубину рощи.) Капюшон пенулы скрывал лицо Бласта, так что я и сам не сразу узнал его. Видимо, эта заминка и подсказала мне план действий.
– Это он! Он! – зашептал я, подталкивая посланцев Папы к наблюдательной щели. – Его нельзя упустить.
Я знал, что они никогда не видали епископа Юлиана в лицо. Они поверили мне и заметались, не зная, куда кинуться в первую очередь.
– Следуйте за ним! – приказал я. – А я побегу за стражниками. Мы догоним его на въезде в Рим. Главное, чтобы он не исчез, свернув на какую-нибудь боковую дорожку. Ответите мне головой!
Церковные куриози послушно выбрались из землянки и, прячась за деревьями, затрусили вслед за удалявшимся всадником. Мне оставалось лишь гадать, что произошло затем. Скорее всего они увлеклись преследованием и в какой-то момент неосторожно приблизились к едущему. Так что демоны Бласта учуяли их. И он – предупрежденный – пустил своего мула вскачь. Или незаметно свернул с главной дороги на какой-нибудь проселок. Или применил еще какой-нибудь трюк, на которые он такой мастер.
А может быть, и не так. Может быть, они догнали его, схватили, но по первым же словам, по жуткому акценту, по простонародному виду поняли, что их надули. И, взбешенные, помчались обратно на мельницу. Но там уже никого не было.
К тому моменту я уже брел по дороге на Остию, стараясь не потерять из виду телегу мельника. Когда вы усаживались в нее, ты смотрел на своего спутника с таким восторженным обожанием, что я даже испытал укол ревности. Я догадывался, что это мог быть сам епископ Юлиан. Но что мне было за дело до него? Главным для меня оставалось – не упустить тебя. Поэтому, когда вы вместе вошли в «Часовню трех коридоров», а потом епископ вышел с какой-то женщиной, я, конечно, остался у часовни.
Да, недаром маги и колдуны учат нас: «Бойся подарков судьбы». Ибо чем, как не подарком судьбы, останется в моей памяти этот вечер. Когда мы с тобой сидели рядом, завернутые в простыни, в портиках вокруг палестры. Глядя на последних атлетов, все еще бегущих упоенно по кругу в закатных лучах. Сидели такие очищенные, отмытые, обессиленные, что даже трепет вожделения утих во мне ненадолго. И я вслушивался в музыку твоей речи, и картины твоего детства на берегах Охридского озера проступали передо мной ярко-ярко, как мозаичный пол сквозь прозрачную воду. И может, впервые в жизни я начинал верить, что оно возможно – такое полное слияние через одни слова – без касаний, без объятий, – и ты не мог не почувствовать этого, ты никогда раньше так не говорил со мной, а я начинал понимать, как оно тебе необходимо, это долгое словесное нащупывание пути друг к другу…
Тут-то они и накинулись на нас.
Тихо, бесшумно, умело.
Сразу с нескольких сторон – подкрались и бросились как по команде.
Наверное, посетители бань подумали сначала, что это какой-то новый диковинный вид спортивной борьбы: трое, четверо на одного.
Но когда замелькали палки, когда я завопил от боли и отчаяния, все поняли, что происходит, и палестра стала быстро пустеть.
Церковные куриози спешили выместить на мне свою злобу.
А ты?..
Тебя не били, но горе и ужас так исказили твое лицо, словно костер уже загорался под твоими подошвами. Ты бился в крепких руках, державших тебя, брыкался, что-то кричал.
Да, я расслышал слово «предатель!», вырвавшееся у тебя в первую секунду ошеломления. Но потом ты догадался, что предателя не стали бы избивать так нещадно.
Норовя попасть по глазам, по пальцам, по больному уху…
Не стали бы.
Чего я не могу понять до сих пор: кто мог узнать, что мы укрылись в «Банях Форума»? Неужели за тобой велась еще одна слежка? Или это мои демоны вдруг прогневались на меня за что-то и навели на меня врагов? Не было ли это их местью за то, что я совершил в тот вечер нечто неслыханное – забыл себя? Но тогда это целиком твоя вина. Заставить меня забыть себя и моих демонов до сих пор не удавалось никому на свете.
(Непоциан умолкает)
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Прошло три дня – и никто нас не потревожил. Сын книготорговца понемногу успокаивается. Но на занятия с ним у меня времени, конечно, не остается. Он помогает Бласту выкашивать траву между деревьями в саду, и до меня долетают ритмичные позвякивания их серпов.
В город мы ездить все же не решаемся. Но арендатор, живущий по соседству, вчера вернулся из Иерусалима и сообщил, что императрица уже выехала из Антиохии. Ее ждут со дня на день. В церквах и часовнях все блестит и благоухает. Дома вдоль крестного пути Господня вымыты, балконы украшены коврами.
Но я не должен расслабляться. Дней, отпущенных мне, остается все меньше – я это чувствую. И все же невозможно перескочить через годы тюрьмы. Их было три. Целых три года. Ведь моя книга – о времени. А тюрьма – это есть время, сгущенное до невыносимой тяжести. Или наоборот – разреженное так, что нечем дышать. Я прожил эти годы день за днем, час за часом и многому научился. Выжить в тюрьме – это важная наука. Моим единоверцам необходимо овладеть ею. Да и не только им.
Первый месяц в тюрьме был самым тяжелым. Ты даже вообразить не мог, что у тебя так много можно отнять. Ведь тебе казалось, что у тебя и так уже ничего не было. Ничего?! А возможность подойти к уличному фонтану и выпить кружку чистой воды? А укрыться в тени дерева от солнечной жары? А убежать от источника вони? А послать другу письмо и получить ответ? А погладить собаку и не испытать позыва тут же растерзать ее и съесть?
С утра до вечера ты погружен в давку грязных, гниющих, кровоточащих тел. Они ползают по тюремному двору, дерутся за хлебные корки, выброшенные охранниками за крошечную полоску тени около стены. Или лежат, обессиленные и полумертвые, на раскаленных камнях. Первые недели ты отшатываешься от них в ужасе. Но незаметно сам становишься таким же, сливаешься с ними.
И тогда, изнутри, тебе открывается то, во что трудно поверить, глядя со стороны. Оказывается, даже в этой человеческой каше есть свои повелители и рабы, богатые и бедные, преуспевшие и погибающие, благородные и низкие. Чтобы выжить, нужно как можно быстрее усвоить, понять, кто есть кто, – кого следует остерегаться, кого обходить стороной, от кого ждать беды, а от кого – помощи.
Вот главные спасительные правила, которые я установил для себя:
СБЕРЕГАЙ СИЛЫ.
При постоянной нехватке еды каждое лишнее движение ослабляет тебя. Лови минуту покоя. Сразу садись, если стоял, ложись – если сидел. Когда не удалось увернуться от тяжелой работы, когда тебе приказано носить воду, дрова, камни – начинай заранее дышать сильно и глубоко. Не жди, когда тело потребует больше воздуха. Сон – бесценное сокровище. Научись засыпать днем, хоть урывками. Заползи в тень или под стол. Ночью вонь, стоны, давка тел спать не дадут.
ОТПУГИВАЙ БЕЗУМИЕМ.
В тюрьме нет защиты от разбойника. Сильный подходит и забирает все, что хочет. Не делай того, что он ждет от тебя. Не вступай в борьбу, не убегай, не моли – этого он как раз ждет. Запой гимн. Заговори на неизвестном ему языке. Начни биться в припадке. Притворись прорицателем и предскажи, какой смертью он умрет. Если тебе удалось озадачить врага – это уже шанс ускользнуть от него. Не сейчас – так в другой раз.
ЕШЬ СРАЗУ, НО МЕДЛЕННО.
Ничего нельзя откладывать на вечер, на следующий день, на потом. Любой объедок у тебя украдут или отнимут, или он сгниет в жаре. Но не спеши. Жуй долго и задумчиво, не отвлекайся на посторонние мысли. Докапывайся зубами до сердцевины каждого зернышка. Ведь и полено сгорает дотла, только если его расколоть на лучины. Иначе может превратиться в бесполезную головешку.
НЕ ЖДИ ОСВОБОЖДЕНИЯ.
Раньше тюрьма была местом, где обвиняемых держали в ожидании суда. Теперь обвиняемых стало так много, что на них не хватит и стократного числа судей. Римская тюрьма сегодня – это кара, предшествующая суду и приговору. Поэтому не мечтай, что вот придет твой час, ты предстанешь перед Фемидой, весы качнутся в твою пользу и двери тюрьмы распахнутся. Живи так, как будто все это – навсегда.
РАЗБИТОЕ НЕ СКЛЕИШЬ.
Пуще огня остерегайся любой царапины. В тюремной грязи она легко разрастется в большую рану. Всегда пускай глаза на разведку перед любым движением. Смотри, куда ставишь ногу, что берешь в руку. Подвернутая лодыжка, вывихнутый палец будут терзать тебя не хуже палача. Как бы ни был голоден, не суй в рот гнилье. Заплатишь неделями корчей в кишках.
ЖАЛЕЙ ТОЛЬКО СЕБЯ.
Сострадание – непозволительная роскошь, когда кругом лишь горе, боль и отчаяние. Ты не можешь помочь всем и каждому. Хорошо, если хватит сил хотя бы на одного. Выбери этого одного – и пусть им окажешься ты сам. Ты такой же полумертвый горемыка, как и все прочие. Вор уже отнял у тебя и плащ, и рубашку – тебе нечем больше делиться. Обе щеки исхлестаны – больше нечего подставлять под удары. Сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но ведь это означает, что сначала нужно возлюбить себя. Нигде не сказано: «Погуби себя ради ближнего».
Правда, это последнее правило мне выполнять удавалось не всегда. Особенно в первый месяц, когда они избивали Непоциана чуть не каждый день. Они выбрасывали его во двор тюрьмы, окровавленного, с исполосованной спиной, с разбитым лицом, часто – без сознания. Тогда у меня еще были силы поднять его, оттащить под навес, обмыть раны, поднести чашку к расплющенным губам. И каждый раз, видя мое лицо над собой, он отчаянно мотал головой и шептал сквозь стиснутые зубы:
– Я не сказал им, не сказал, не сказал…
Да, он так и не сказал палачам о том, что видел меня в Палестине с Пелагием. Так что никаких формальных улик против меня у них не было. При аресте на мне не нашли запрещенных текстов или воззваний. Я назвал им себя и увидел, что мое родство с епископом Паулинусом произвело впечатление. Пытать меня не решались – все же я принадлежал к сословию всадников. Но и выпустить меня без суда они не могли. Такие, как я, оставались в тюрьме годами.
Главное, что они пытались выбить из Непоциана: почему он послал церковных сыщиков по ложному следу? Те крались за Бластом чуть ли не до стен Рима. Но когда он остановился около придорожных торговцев и стал покупать козье молоко, они по его простонародному говору и жуткому македонскому акценту мгновенно поняли, какого низкого полета птица перед ними. Хорош епископ!
Непоциан только вопил, что он сам честно ошибся. Что в утреннем тумане нелегко было разглядеть черты лица. Что его заданием была слежка за этим Альбием Паулинусом, который с непонятной целью побывал в доме Фалтонии Пробы. Что за этим Паулинусом он и последовал от мельницы до Остии. Что и в «Банях Форума» он присоединился к своему «подопечному» и заговорил с ним только для того, чтобы войти в доверие и выяснить, не связан ли он с еретиками.
Ему не верили и били феруллой, совали горящие угли в подмышки, били флагеллумом, привязывали гири к ногам и подвешивали к потолку, били скутикой, выламывали пальцы. Никогда бы не поверил, что человек может пройти через такое и остаться живым. Крики его вылетали из подвального окна и заливали двор тюрьмы. Спрятаться от них было невозможно. Я утыкался лбом в стену, зажимал уши. Потом крики утихали, и я бежал к безжизненному, окровавленному куску мяса, выброшенному во двор, – обмывать, поить, возвращать к жизни. Зачем? На новые муки?
В день отплытия епископа Юлиана мельник, чуя опасность, не вернулся домой. Так что налет на мельницу, видимо, не дал никаких результатов. Там были только мешки с мукой, да несколько кур, да две дворняжки, охранявшие их с показным усердием. Я не знал тогда, что стало с Бластом, но очень надеялся, что ему удалось улизнуть. Иначе ведь меня давно бы потащили в пыточную камеру и заставили смотреть на истязания моего слуги.
Через несколько недель в тюрьму доставили новую партию заключенных. Работы палачам прибавилось, и они оставили Непоциана в покое. Про нас как будто забыли. Мы оба медленно сливались с толпой полумертвецов, копошившихся в грязи тюремного двора.
Вчера у нас кончилось масло для светильников. Делать нечего – пришлось мне послать Бласта в Иерусалим. Если я буду писать только при дневном свете, времени точно не хватит.
Неясная тревога томила меня с утра. Вспоминались те несколько месяцев, что мы прожили здесь, в этом доме, вместе с Пелагием. Как-то ему нужно было уехать на несколько дней в Тир, и я сказал, что мне будет очень одиноко без него.
– Сделай себе из этого встречу с самим собой, – сказал Пелагий. – Не ищи общества друзей, не спускайся в город, не придумывай развлечений. Попробуй побыть один. Зрелость человека измеряется числом дней, которое он может провести в одиночестве.
Я живу здесь в одиночестве так давно, что уже, наверное, созрел и перезрел до лопания кожуры. Но на что я употреблю эту зрелость? Нужна ли она мне?
С другой стороны, не превратил ли я свои свитки, папирусы, таблички в крепостной вал, за которым можно укрыться от мучений жизни? Не из страха ли я отказался от бремени семьи, потомства, приумножения имущества, от всех обычных тревог, в которых человеку назначено проводить свои дни на земле? Если у тебя нет ничего дорогого, тебе не грозит боль утраты. Ты ничем не рискуешь. Но тот же Пелагий сказал однажды, что порой ему становится скучно читать книги людей, которые не рискнули жизнью ради того, что они любят.
Вернувшийся Бласт переходил от светильника к светильнику, подливая в них масло из бутыли. При этом он поглядывал на меня как-то выжидательно. Такое выражение бывает у него, когда он собирается одарить меня какой-нибудь новостью. Новость может быть печальной, тревожной, ужасной – но Бласт все равно сияет. Он лелеет эти минуты превосходства над хозяином-всезнайкой. «Знаешь много – да не все, не все, не все», – говорит его взгляд.
– Ну что там у тебя? – устало сказал я. – Давай выкладывай поскорее.
Бласт осторожно поставил бутыль на пол и запустил руку в висевший на поясе кошель. Потом торжественно двинулся ко мне, протягивая вперед сжатую горсть. Встал передо мной, точно гонец с важным посланием, и разжал пальцы.
На ладони его поблескивал новенький квинарий.
– Ты честно возвращаешь мне сдачу, и это переполняет тебя гордостью?
Бласт поднял ладонь выше, поднес монету к моим глазам. Я вгляделся внимательнее и не удержался – испустил тихое и счастливое «ах!».
На монете были вычеканены два профиля: император Феодосий Второй и императрица Евдокия. Видимо, выпуск квинария был приурочен к ее паломничеству. Однако деньги путешествуют быстрее – и вот достигли Иерусалима раньше.
Но откуда?! откуда гравер мог знать, как выглядела императрица двадцать лет назад? Ибо он явно изобразил ее в пору ее юности. Как тонко был воспроизведен этот гордый взлет бровей! эта серебряная гладкость чуть приподнятых скул! И этот неповторимый профиль, которым я столько раз тайно любовался, когда она склонялась над свитком.
До меня вдруг дошло, что все эти годы я жил, не имея ни одного портрета императрицы. Только тот, что светился в моей памяти. Но теперь – эта монета!.. Я знал, что я с ней сделаю: осторожно просверлю дырочку и буду носить на шее как талисман…
Глядя на мое счастливое ошеломление, Бласт от удовольствия пританцовывал и похлопывал себя по коленям.
Шел уже седьмой месяц нашего заточения в тюремных стенах, когда судьба вдруг послала нам неожиданное облегчение: в тюрьму прислали нового начальника.
Прежний был жестокий пьяница, который не брезговал порой собственноручно пытать заключенных. Новый до таких развлечений не опускался. Его страстью были деньги. Кажется, он был откупщиком, а потом то ли проворовался, то ли разорился. И в своей новой должности пытался наверстать потерянное.
Главным источником его доходов стали взятки и вымогательство у родственников заключенных. Все, кто хотел передать своим близким какую-нибудь еду, одежду, теплое одеяло, должны были уплатить бывшему откупщику соответствующую мзду. За разрешение на свидание нужно было внести стоимость откормленной свиньи, за разрешение на визит врача – стоимость барана.
Но новый начальник не остановился на этом. Он стал отыскивать среди заключенных хороших мастеров и приспосабливать их к делу. В помещениях тюрьмы были устроены дубильня, столярная мастерская, кузница. Цены на изделия можно было держать вдвое ниже обычных, так что заказчики валили к нам толпой. Цеха ремесленников косо смотрели на новоявленного конкурента, но как-то никто не решался пожаловаться на человека, который мог когда-нибудь оказаться вершителем твоей судьбы.








