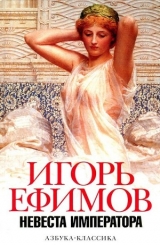
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Постепенно я входил в раж. Расхаживал перед Афенаис, как заправский мим, прыжками и гримасами изображая блаженные времена женского господства.
– Конечно, все управление финансами должно перейти в женские руки, как это и предлагала Лизистрата в комедии Аристофана. Только тогда кончатся безумные траты на строительство кораблей, дорог, храмов. Шелка из Индии, белила и сурьма из Сирии, бриллианты из Африки – вот на что должны расходоваться налоги. А образование? Прославленная Гипатия, конечно, возьмет в свои руки управление всеми университетами. Где изучаться будет только неоплатонизм. С ежемесячным перерывом на три дня. Чтобы Гипатия могла раздавать платки со своей священной кровью. Не нужно будет резать на алтарях ягнят и козлят. После смерти ее, конечно, причислят к сонму богов. И на Олимпе ей наконец подыщут достойного супруга. Кажется, там до сих пор никем не занят Ганимед…
Я чувствовал, что захожу слишком далеко. Но не мог остановиться. Даже когда Афенаис вскочила на ноги и встала передо мной и что-то сказала гневным голосом.
– Что? – не понял я.
– Дай мне твою руку.
Я повиновался в недоумении.
Она крепко взяла мою ладонь, подняла ее. И вдруг сильно ударила ивовым прутом по запястью.
Потом еще раз.
И еще.
Я задохнулся от боли и неожиданности. Мы стояли друг перед другом, укрытые кустами тамариска, ошеломленные, испуганные, чужие, как два путника, столкнувшиеся в безлюдных горах.
Мне было стыдно, что я не сумел удержать слез, но отереть их со щек было еще стыднее.
Афенаис растерянно и виновато смотрела на набухавшие рубцы.
Потом вдруг замотала головой, вложила свой прут мне в ладонь и протянула руки вперед, как напроказившая ученица. Зажмурила глаза, закусила губу.
Я отбросил прут, шагнул вперед.
Неловко прижал губы к ее щеке.
Она не отшатнулась, не открыла глаз. Мы осторожно касались друг друга пальцами, носами, губами. Голова у меня стала легкой-легкой, будто из нее внезапно улетучились все тяжеловесные знания, которыми я старательно загружал ее два года. Неведомая книга на незнакомом языке лежала перед нами.
Мы стояли обнявшись, не решаясь начать разматывать манящий свиток. Он казался бесконечным, многослойным, опасным, как лабиринт Минотавра.
Мне хотелось, как в детстве, побежать к Гигине с криком «оно твердое и болит».
Я оторвался от Афенаис, шагнул в ручей. Присел в нем, делая вид, что остужаю запястье. От поцелуев ледяной воды мой дракон начал поспешно уползать в свою пещеру. Я знал, что он будет там дожидаться ночной одинокой темноты, чтобы снова восстать во весь свой мучительный рост.
ЮЛИАН ЭКЛАНУМСКИЙ ТОСКУЕТ ПЕРЕД СТАТУЕЙ БОГИНИ
Иннокентий Первый был, быть может, самым достойным из римских первосвященников – вдумчивым, отзывчивым, блистательно образованным. Вера его была окрашена смирением и грустью, какие редко можно встретить у человека на таком высоком посту. Но доброта его и жажда душевного покоя с годами все дальше и дальше оттесняли остатки душевной твердости, необходимой для земного кормчего Церкви Христовой.
Когда он отправлял меня на пост епископа в Эклануме, мне было обещано, что ни один священник в моей епархии не будет назначен без моего согласия и одобрения. Однако уже в первый год это правило начали нарушать. Конечно, во времена смуты нелегко было кандидату добраться из Рима до Экланума, чтобы дать мне возможность убедиться в его пригодности. Но и после ухода визиготов и восстановления мира в Италии освобождающиеся вакансии в местных приходах порой заполнялись без моего ведома и участия.
Именно так появился на церковной кафедре в Ирпино отец Фелициан. Поначалу он произвел на меня впечатление скорее приятное. Мне понравилась его радостная возбужденность, которая вспыхивала тем сильнее, чем меньше было для нее видимых поводов. На его моложавом лице ухитрились вырасти две бородки: одна, неподвижная и аккуратно подстриженная, обрамляла подбородок, другая – маленькая и острая – прицепилась под нижней губой и плясала вместе с ней на каждом слове. Он рассказал мне, что рос на ферме своего отца в Лукании и что в десять лет ему во сне явился апостол Павел и повелел стать сеятелем света Христова.
Правда, я очень скоро понял, что его познания в Священном Писании весьма убоги, а из истории Церкви он с уверенностью может назвать лишь одну дату Никейского собора. Но мне не хотелось омрачать отношения с канцелярией римского первосвященника новым протестом. Священников не хватало, приход мог остаться надолго вообще без пастыря. Я снабдил отца Фелициана нужными книгами и настоятельно советовал употреблять на чтение их все свободное время.
Мой список срочных дел на каждый наступающий месяц всегда оказывался так растянут, что и шестидесяти дней было бы мало. Но все же я снова и снова втискивал туда запись: «Посетить отца Фелициана в Ирпино».
Увы, мне удалось осуществить это лишь год спустя.
Именно тогда, зимой и летом 414-го, в Италию начали поступать первые эпистулы и трактаты, обличавшие последователей Пелагия. Наступление из Африки возглавил осторожный и красноречивый епископ Гиппонский Августин. Из Палестины летели гневные послания Иеронима Вифлеемского. Казалось, где бы ни побывал наш учитель – в Сицилии, в Карфагене, в Иерусалиме, – он всюду пробуждал сердца, наполнял их своей любовью к Богу. К Богу, давшему нам бесценный дар – свободу воли. Но почему-то именно эти островки высокой набожности вызывали у церковных пастырей приступы ревнивого озлобления.
Мы жадно вслушивались в отзвуки этих словесных битв, долетавшие до нас, втягивались в богословские споры. Августин тогда еще не называл Пелагия по имени, нападал только на его учеников. Он упрекал их в том, что они не верят в необходимость крещения несмышленых младенцев, что отказываются допустить, будто Бог мог осудить на вечную муку всех людей за первородный грех одного Адама. Иероним же прямо обвинял самого Пелагия в следовании осужденному учению Оригена. Пелагий вынужден был защищаться и написал свой блистательный трактат «О природе». Книготорговцы говорили, что по числу проданных экземпляров этот труд уступал только книге Августина «Град Божий», появившейся годом раньше.
Домашние заботы тоже отвлекали меня от епископских обязанностей. Мне наконец удалось найти подходящего воспитателя для сына, который сумел оградить нашего мальчика от бестолкового кудахтанья нянек и служанок. Но, как я и опасался, эта перемена наполнила тревогой и тоской душу моей жены. У нее начали появляться симптомы той же болезни, которая свела в могилу нашего первого сына: бледность, вялость, неожиданные кровотечения из десен и носа. Поездки к врачам стали частью нашей повседневной жизни.
Именно одну из таких поездок я решил использовать, чтобы нанести наконец неожиданный визит отцу Фелициану. Вообще-то сведения, доходившие из его прихода, не внушали тревоги. Молодой священник не пьянствовал, не развратничал, богослужения совершал аккуратно. Число принявших крещение у него росло гораздо быстрее, чем в других городках. Так что, подъезжая тихим вечером вдоль сжатого поля к стоявшей на окраине церкви, я не ждал никаких неприятных сюрпризов.
Жена сказала, что она останется сидеть в эсседе, полюбуется закатом. Я вошел в церковь один.
Сначала мне показалось, что она совсем пуста. Потом я разглядел коленопреклоненного человека у алтаря. Святые дары слабо поблескивали в свете двух лампад. Слева от алтаря белел какой-то столбик, который я принял за подставку для Библии. Лишь подойдя ближе, я смог разглядеть, что это была мраморная статуя. Статуя женщины в нарядном балахоне до пят. И именно к ней-то и обращал человек свою молитву.
От гнева и возмущения я растерял все слова. Я бросился вперед по проходу, схватил человека за плечи. Поднял его, встряхнул, заглянул в лицо.
Это был сам отец Фелициан.
– Что ты делаешь, безумец? – завопил я свистящим шепотом. – Такое кощунство! Нарушить первую заповедь, самую священную. «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня!» Как ты мог? И где? Прямо в храме Господнем. Какое затмение на тебя нашло? Ты знаешь, что я должен теперь отдать тебя под суд?
Голова отца Фелициана покорно моталась от моих толчков, малая бородка под нижней губой прыгала вверх и вниз. Но в глазах его не было страха. Скорее какая-то восторженная покорность судьбе.
– Мне было видение, – наконец выговорил он. – Пречистая Дева Мария вышла ко мне из куста роз. И я сделал все, как она повелела.
– Что она тебе повелела?
– Поставить ее статую в церкви. Я ходил за ней в Беневентум. И купил на свои деньги. Обратно всю дорогу шел пешком и нес ее на спине.
– Кто тебе сказал, что это Дева Мария?
– Никто. Я сам сразу узнал ее в мастерской скульптора. Сам выбрал. Она немного повреждена вот здесь – поэтому скульптор уступил мне ее так дешево. А то бы у меня не хватило денег. Он не сказал мне, но я понял, что первоначально она держала на руках младенца Христа. Но вскоре я накоплю довольно денег и закажу статую младенца, которую мы прикрепим вот здесь.
– Несчастный невежда! Почему ты не спросил совета у старших, у знающих? Любой мало-мальски образованный священник сказал бы тебе, что это не Дева Мария, а языческая богиня плодородия Церера. И не младенца она держала в руках, а рог изобилия. Ты внес в христианский храм языческого идола!
Я говорил еще какие-то слова, а в душе беззвучно молился, прося Господа удержать, дать мне силы устоять перед накатывающим припадком бешенства. Отец Фелициан молчал.
Я отвел его к стене, усадил на скамью, сел рядом.
– Неужели ты не слыхал о празднике Цериалий, который язычники справляют девятнадцатого апреля? Храм Церере на Авентинском холме в Риме стоит вот уже девять веков. Ее детьми считаются Либер и Либера, и этой троице язычники поклоняются как главным дарителям плодородия. Прозерпина также почитается ее дочерью, которая возвращается к матери каждый год из подземного Аида в виде зеленых ростков.
Отец Фелициан слушал меня рассеянно и недоверчиво. Мне даже почудилось, что его подвижная бородка в какой-то момент задралась насмешливо.
– Но даже если бы кто-то изваял статую Девы Марии, ты не должен был бы устанавливать ее в церкви. Верующим следует почитать ее, но они не должны поклоняться ей наравне с Христом, с Богом Отцом, с Духом Святым. Помнишь, как Христос говорит в Евангелии: «Кто матерь моя и братья мои?» Мы должны немедленно убрать статую из церкви, чтобы не вносить соблазн в души верующих.
– Мои прихожане привыкли к ней, – сказал отец Фелициан. – Они могут потребовать ее назад.
– Привыкли? Но как давно притащил ты сюда это идолище?
– Вот уже скоро будет полгода.
– Силы небесные! И он говорит это так спокойно! Целых полгода его паства молится языческому идолу – а ему хоть бы что.
– Не у всех достанет духу обращаться с молитвой к самому Христу. Грешные люди боятся его лика. Они верят, что Божья Матерь скорее простит их и заступится перед своим Сыном. К этой статуе сходятся люди из других приходов. Иногда за два-три дня пути. Многие согласились креститься только в надежде на ее заступничество.
– Вот что, отец Фелициан, – твердо сказал я. – Такое уже бывало много раз. Помнишь, как евреи в пустыне начали поклоняться статуе тельца, когда Моисей удалился на гору Синай? Люди слабы, неустойчивы в вере. На то мы и поставлены пастырями над ними, чтобы удерживать их от заблуждений и гибели. Статую нужно вынести из церкви немедленно. Вдвоем мы поднимем ее без труда.
Фелициан молчал и не двигался с места. Пальцы его вцепились в край скамьи, точно он ждал, что я попытаюсь поднять его силой. Страшные строчки из Книги Исхода запали мне в память еще со школьных времен: «И сказал Моисей сынам Левииным: возьмите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Три тысячи из поклонившихся Золотому Тельцу пало в тот день!
Но прошли времена пророков. Веры нашей едва хватает на то, чтобы одолеть собственные слабости – не чужие.
Я встал и направился к статуе в одиночку. Я не знал, что я буду делать, если безумный священник накинется на меня. Я ждал удара сзади и чуть не наступил на тело, распростертое перед статуей Цереры.
Это была Клавдия, моя жена.
Не знаю, когда она вошла в церковь. Слышала ли она мой разговор с отцом Фелицианом? Решила бросить мне открытый вызов? Или и ей привиделась во сне статуя Богоматери и она вдруг узнала ее въяве? «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», – повторял я. Но что же делать нам – тем, кому уже не вернуться к этой блаженной нищете?
Я беспомощно попятился по проходу, вышел в вечерний сумрак.
Вскоре до меня стали доходить слухи, что и в других приходах люди начинают поклоняться Богоматери наравне с Сыном.
Канцелярия римского первосвященника на мои запросы не отвечала.
А потом пришло известие, что отец Фелициан установил в своей церкви в Ирпино еще одну статую: Дионис с ягненком на плечах. И объяснял своим прихожанам, что это не кто иной, как Пастырь Добрый, отыскавший заблудившуюся в горах овцу. И число крестившихся у него после этого стало расти еще быстрее.
(Юлиан Экланумский умолкает на время)
СТРАШНЫЙ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ НАД АВГУСТОЙ ПЛАСИДИЕЙ
Как счастливо он начинался, этот год! Как зеленели испанские горы под весенним солнцем! Как радостно встречали барселонцы армию визиготов, только что пересекшую Пиренеи, чтобы защищать их от страшных вандалов.
«Эта земля дала Риму великих императоров, – думала я. – Траян, Адриан, мой отец – Феодосий Великий, – все они были вспоены молоком и медом Испании, закалены ее ветрами. Может быть, не зря судьба швыряла меня по всему миру? Может быть, она тайно вела меня сюда, чтобы и мой сын был рожден здесь? Может, и ему предстоит стать великим властителем, который вернет Риму славу и единство?»
Я ничуть не боялась приближавшихся родов. Наоборот, они окрашивали новым светом все привычные вещи вокруг меня. Я представляла себе, как глаза моего сына будут следить за вспышками золота на моей пряжке, – и по-новому радовалась ей. Представляла, как он будет ползать по полу и ловить ладошками мозаичных рыбок на нем. Как впервые возьмет в руки виноградную гроздь. Весь мир превращался в большой, большой подарок, приготовленный специально для него.
Мы назвали мальчика Феодосием – в честь деда. Меня немного смущало, что в далеком Константинополе вот-вот должен взойти на трон его двоюродный брат с тем же именем. Не увидит ли он здесь враждебности, какого-то покушения на свои права? Но Атаулф уверял меня, что Константинопольский двор не обратит внимания на такой пустяк. Зато имя Феодосий священно для его воинов. Ведь в армии визиготов еще немало тех, кто сражался под знаменем моего отца. Они пойдут за юным наследником в огонь и воду.
Обряд крещения епископ Сигезариус совершил на двух языках: готском и латыни. Крестным отцом был брат Атаулфа. Три дня и две ночи праздничная толпа перекатывалась по улицам Барселоны. Моему Галиндо с трудом удавалось набирать трезвых воинов, чтобы сменять караул у нашего дворца.
Нам повезло с кормилицей. Молодая приветливая кондитерша полыхала здоровьем и чадолюбием. «Не жадничай, не жадничай, – приговаривала она, отнимая от соска собственную дочку и обмывая грудь теплой водой. – Дай-ка и маленькому королевичу подкрепиться. Будешь ему доброй молочной сестрой – он тебя одарит богатым приданым».
Прошло почти три недели, прежде чем я вынырнула из облака счастливого дурмана и заметила тревогу на лице Эльпидии.
– Что? что тебе не нравится? – накинулась я на нее. – Да, у мальчика слегка раздвоена верхняя губка. По-моему, это даже мило. Не всякому мужчине суждено вырастать Адонисом. И почему нужно сразу напускать на себя мрачность из-за таких пустяков?
Но в глубине души я и сама уже знала, что это не пустяки. Эльпидия осторожно приподняла губку ребенка и показала глубокую щель, разделявшую беззубые десны, уходившую в нёбо.
– Заячья губа… У римских и греческих детей ее почти не бывает. У африканских – никогда. А у северных, у голубоглазых, – довольно часто. Никто не знает, за что им такое проклятие. Но ребенок не может сосать как следует. Заглатывает воздух и остается голодным.
Огорченная кормилица виновато показывала нам, как она надавливает грудь, пытаясь направить струю молока прямо в горло мальчика. Но он только захлебывался, кашлял, плакал. Молоко выливалось у него изо рта, текло по щекам вперемешку с пузырями.
Мы пытались кормить его жидкими кашами – не помогало. Я подсовывала ему свою грудь – он только терзал мой сосок беззубым ртом. Эльпидия говорила, что она слышала об одном хирурге в далекой Антиохии, который научился сшивать раздвоенные губки у детей. Но никто из местных врачей не соглашался совершить подобную операцию – да еще над ребенком королевской крови.
Я с завистью, почти со злобой смотрела на его молочную сестру, чмокающую у материнской груди, на ласточку, влетавшую с червячком в клюве в свое гнездо под крышей, на рыбок в бассейне, ловивших брошенные им крошки. Почему? Почему простейшее умение глотать, дарованное всему живому, было отнято у моего мальчика с первых же дней? За что?
В шепоте служанок за моей спиной начали мелькать слова «грех», «кара», «согрешила». Может быть, и правда мы с Атаулфом забылись и зачали ребенка в воскресенье? Или в другой святой день? Девять месяцев назад мой муж только-только начал ходить после раны, полученной под Марселем. Силы быстро возвращались к нему. И страсть бросала нас друг к другу неудержимо. Могли и забыться.
Епископ Сигезариус приходил ко мне утешать и вместе молиться.
– Помните то место в Евангелии от Иоанна, где Иисус встречает слепорожденного? Ученики спросили его: «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И что отвечает Христос? «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Не нашему слабому уму постигнуть дела Божии. Но из этих слов Христа ясно, что не всякое страдание посылается человеку за грехи его. Взять хотя бы историю Иова…
О да, книгу Иова я не выпускала из рук в те горестные дни.
«Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? – восклицает страдалец Иов, пораженный проказой. – Зачем приняли меня колена? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне было бы покойно…»
Кто знает? Быть может, моего мальчика тоже ждала страшная судьба? Может, не давая ему сосать сосцы, Господь спасает его от поджидавших страданий?
А ведь я воображала себя искушенной в науке страдания. После того, что мне довелось пережить в осажденном Риме, после того, как я была завалена ранеными и умирающими близ Равенны, могло ли что-то ужаснуть меня?
«Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма…»
Маленький Феодосий умер, не прожив и двух месяцев. Я не погибла в Риме, когда кругом нечего было есть, а он умер от голода рядом с сосцами, полными молока.
«Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. Дни скорби объяли меня…»
И самое страшное: я предчувствовала, что смерть ребенка – не конец моим страданиям.
«Он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается».
В своем горе я едва замечала окружающее, едва узнавала людей, пытавшихся утешать меня. Но наболевшее сердце слышало толчки скрытой вражды кругом, слышало накипавшую злобу. И утром рокового дня душевная боль стала такой нестерпимой, что меня вырвало прямо на постельное покрывало.
Встревоженный Атаулф послал за врачом, сам оставался у моей постели больше часа. Он пытался отвлечь меня, фантазировал вслух о наших будущих детях. Пусть даже сначала родится девочка – он не против. Назовем ее в честь моей бабки, императрицы Жюстины. Тем более что она тоже исповедовала арианскую веру. А если сын – пусть носит имя Стилихона. Потомок варваров, но верный защитник Рима. Тысячи смелых сердец до сих пор вспоминают это имя с благодарностью.
Он ушел, когда я забылась. Потом мне рассказывали, что в тот день пригнали табун отборных испанских коней. Купцы просили, чтобы Атаулф выбрал себе лучшего скакуна в подарок. Он двигался в полумраке конюшен от стойла к стойлу, переговаривался с офицерами свиты, шутил.
Убийца притаился под брюхом одного из коней.
Он дождался, когда Атаулф подошел вплотную, и тогда нанес удар снизу.
Никто не успел стать между ними.
Телохранители даже не сразу поняли, почему их король схватился за живот и уперся лбом в конский круп.
Только когда убийца вылез из своей засады и попытался улизнуть в суматохе, его схватили и повалили на землю. Но было уже поздно. В бессильной ярости телохранители тут же изрубили нападавшего, вместо того чтобы допросить и пыткой вырвать имена подославших его.
Раненого Атаулфа отнесли наверх и положили на кровать рядом со мной. Я вспомнила, что мы уже лежали так, рядом, перепачканные его кровью, – под Равенной, пять лет назад.
Королевский врач хлопотал с бинтами и мазями, пытаясь унять кровотечение.
Но я сердцем знала, что надежды нет.
«Погибни день, в который сказано было „зачался человек!“ День тот да будет тьмою… И да не воссияет над ним свет! Ночь та, – да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев!.. Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы…»
Атаулф пытался что-то сказать мне, но стоны рвали его слова на части. Я слышала только: «Брат… брат спасет… не бойся… сохранит…»
Мне было горько, что в последние минуты жизни он – такой гордый – был так унижен болью. Я держала его лицо в своих ладонях, заслоняла его от приближенных, толпившихся вокруг. Один из них, по имени Валия, оторвал меня, склонился над умирающим и прокричал:
– Наследник!.. назови наследника!..
Но мой несчастный муж мог только прохрипеть что-то невнятное. Глаза его потухли и закатились. Душа воина так много раз чувствовала близкое дыхание смерти, что была готова. Она рассталась с телом легко, не дожидаясь последних ударов сердца.
Я не запомнила похорон, не запомнила отпевания в церкви, не запомнила выборов нового короля. Помню только ночь, когда одноглазый Галиндо прокрался в мою спальню и уговаривал немедленно бежать. Он что-то говорил о смуте в войске, о заговорщиках, о борьбе за королевский титул, о кознях Синегерика. Но я была в каком-то чаду. Мне казалось, что я все знаю лучше и раньше него. Какая разница, как зовут врагов Атаулфа и его брата, сколько их, что они замышляют? Важно лишь то, что должно исполниться пророчество Даниила и от этой судьбы нам не уйти. «Дочь южного царя не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденный ею и помогавшие ей в те времена».
И когда утром они ворвались в мою спальню, когда выбросили полуголую из постели и за волосы поволокли по лестнице, я испытала чуть ли не облегчение. Наконец-то боль телесная слилась с мукой сердечной и даже пересилила ее.
До сих пор в ночных кошмарах вскипает перед моим умственным взором обезумевшая уличная толпа.
Я слышу свист бичей, вижу епископа Сигезариуса – он прикрывает голову от летящих камней.
У Галиндо руки связаны за спиной, он бредет, опустив лицо, почерневшее от кровоподтеков.
Седые космы Эльпидии то исчезают, то снова мелькают впереди.
Вереница пленников тянется вдоль домов, время от времени к ней добавляют новых. Мы не знаем, куда нас гонят, не знаем – зачем. Наверное, на казнь. Босые ступни истерзаны острыми камнями, кровь на щеках быстро запекается под солнцем. А в воспаленном мозгу плывут и плывут вечные слова:
«Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?.. Что сделал я Тебе, страж человеков?.. Зачем Ты поставил меня противником Себе? Вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет. Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны?.. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями… Возгнушаются мною одежды мои… Взгляни на бедствие мое; Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня… Он князей лишает достоинства, и низвергает храбрых, покрывает стыдом знаменитых, и силу могучих ослабляет.
Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною».
(Галла Пласидия умолкает)
МАРКУС ПАУЛИНУС О ВОЗВЫШЕНИИ ДЕВОЧКИ АВГУСТЫ
Когда известие о гибели короля визиготов и о последовавшем мятеже достигло Константинополя, двор пришел в большое волнение. Патриарх Аттикус служил в храме молебны о спасении Галлы Пласидии, но многие считали ее погибшей. Юный император Феодосий Второй вряд ли мог помнить свою тетку – она покинула Константинополь, когда он был пятилетним ребенком. Но в памяти его старшей сестры, Пульхерии, образ знаменитой Галлы сохранился очень ярко и был даже окружен ореолом восхищения, которое она не всегда умела объяснить.
Возможно, чувство особой близости вырастало из сходства их судеб: обе рано осиротели, обе росли в Константинопольском дворце, среди вечных интриг и скрытой борьбы, обе с детства чувствовали в жилах тяжелую кровь императорского рода, обе рано выучились верить только себе, полагаться только на себя. Сомнения, страхи, трепетные колебания чувств, отзывчивость, доверчивость – казалось, все эти девические черты были отброшены и выжжены Пульхерией очень рано. Когда я впервые встретился с ней, она выглядела совсем ребенком, но уже тогда ее слова падали бесповоротно, как молот на орех.
Рассказывали, что ее мать, императрица Эвдоксия, всегда несла вокруг себя невидимое облако бушующих страстей, через которое трудно было пробиться к ней. Пульхерия же, наоборот, несла облако холода, в котором никакая страсть не могла выжить. Только воля.
А встреча наша произошла так. В тот день она собрала в Порфировом зале полдюжины молодых придворных. Нам не было сказано, для чего нас зовут, но у всех сосало под сердцем, как перед трудным экзаменом. Пульхерия сидела в простом дубовом кресле. Два евнуха стояли по бокам, опустив глаза и старательно подняв уши, словно им было поручено запомнить каждое слово и передать его правящему опекуну Анфемию.
– Наш юный император Феодосий Второй, да продлит Господь его дни, через несколько лет взойдет на трон, – сказала Пульхерия. – Я вовсе не хочу, чтобы все эти годы он провел над свитками, погружаясь в пучину полезных и бесполезных знаний. Но в то же время невозможно допустить, чтобы правитель не знал того, что знает каждый из его подданных. Поэтому я прошу вас помочь мне. Пусть каждый расскажет, чему он учился в риторской школе. Потом мои писцы сведут ваши рассказы воедино. Имена ученых, философов, поэтов, повторяющиеся из рассказа в рассказ, и составят список того, что следует знать образованному молодому человеку в наши дни.
Услышав такое задание, мы кинулись наперегонки вываливать перед юной принцессой книжную добычу, застрявшую в сетях нашей памяти. Если бы нам дали волю, наши излияния растянулись бы на несколько дней. Но Пульхерия была начеку и строго осаживала нас, как возница квадриги осаживает четверку своих коней, готовых проскочить трудный поворот.
– История?.. Труды Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Плутарха?.. А из римских?.. Ливий, Светоний, Тацит… Кто из новейших? Евсевий Кесарийский, Аммиан Марцеллин?..
…Нет, не нужно пересказывать содержание их книг. Я верю, что вы помните все глубоко и в деталях. Сегодня моя цель – только составление списка. Поэты и философы – это понятно. Но знакомили ли вас с астрономией, математикой, медициной?.. Музыка, военное дело?.. А как обстоит дело со Священным Писанием? Жития святых великомучеников? Включают сегодняшние риторы это в программу или вам приходится брать уроки у священника?..
Если слова говорившего казались Пульхерии особенно важными, она жестом просила его замедлиться, чтобы скорописец успел внести их в свиток. Но если мы опять срывались на тщеславные излияния, она поднимала к груди сжатые кулачки, словно натягивала вожжи.
Наша беседа продлилась часа два. Мы уже шли к дверям, когда принцесса окликнула меня и попросила остаться.
– Маркус Паулинус?.. Скажите, знаменитый Меропий Паулинус, епископ в Ноле, – не родственник вам?
– Он мой двоюродный дядя.
– Мне понравилось, что вы можете цитировать Священное Писание и на латыни, и на греческом. Но я бы хотела сейчас задать вам неожиданный вопрос. Совсем про другое. Умеете ли вы плавать?
– Поместье моего отца в Македонии стоит на берегу озера Охрид. В спокойную погоду я переплывал его без труда.
– Наши покойные родители страдали водобоязнью. Мне бы очень не хотелось, чтобы брат Феодосий унаследовал это свойство. Могли бы вы научить его хотя бы плыть рядом с лодкой?
– Моего младшего брата Альбия я выучил плавать за один день.
– А как насчет воинских упражнений? Езда верхом, метание копья и диска, бег в доспехах, борьба?
Не знаю, что тут на меня нашло. Гонг, висевший в углу, мог бы послужить метательным диском, но Порфировый зал был слишком мал – его невозможно было превратить в палестру или в гимнасий. И тогда я просто перевернулся вниз головой и прошелся перед августой на руках. Потом застыл в стойке на пальцах одной руки, как цирковой гимнаст.
При виде такого нарушения этикета евнухи чуть не прыгнули на меня, чуть не выбросили за дверь. Но Пульхерия остановила их и засмеялась.
Кажется, это был первый и последний раз, когда мне удалось ее рассмешить. Ее узкое худощавое лицо заострилось, как нос корабля, и словно поплыло ко мне через волны холода, вечно окружавшего ее. Но остановилось на полдороге. Смех умолк, льдины сомкнулись.
– Я прошу вас принять должность спортивного наставника императора Феодосия Второго, – сказала Пульхерия.
Дрожь прокатилась у меня вниз по спине. Так конь, наверное, чувствует прикосновение стрекала к позвонкам. Ее тихое «прошу» было как крик возницы – «марш! марш!».
Впоследствии Феодосий любил шутить надо мной, рассказывая, как я вступил в должность, двигаясь вверх ногами.
Хотя я был старше его на четыре года, мы с ним сразу сошлись. Ему нравилось, что, при своих широких плечах и крепких мышцах, ростом я не вышел. Он вскоре перерос меня и мог поглядывать свысока. Пульхерия покровительствовала нашей дружбе и время от времени вызывала меня для доклада о ходе занятий.
Как я дорожил этими встречами! Какое это было торжество, когда мы с Феодосием у нее на глазах прыгнули в имплувий и переплыли его три раза! Я научился удерживать себя от хвастовства и позерства – этого она не выносила и не прощала. Но даже если мне удавалось вызвать мимолетную улыбку на ее губы, холодное облако не исчезало никогда.








