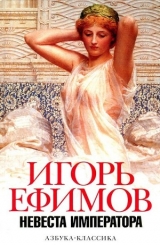
Текст книги "Невеста императора"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
ЮЛИАН, ЕПИСКОП ЭКЛАНУМА, – О СВОЕЙ СВАДЬБЕ
Четыреста второй был годом моей свадьбы. Мне было всего шестнадцать лет, но отец мой, глядя на меня, понял, что дальше откладывать нельзя. Вожделение терзало меня, как лихорадка, мутило разум. Женщины, молившиеся в церкви отца, одевались, конечно, очень скромно, но и они сводили меня с ума. Вид открытой шеи вызывал во мне какие-то волчьи инстинкты – желание накинуться, впиться зубами. Голос мой при чтении священных текстов то ослабевал до хрипа, едва слышного в первых рядах, то наполнялся какими-то непристойными взвизгиваниями.
Конечно, я считал себя безнадежно утопшим в грехе. Демон похоти завладел мною всецело – это было ясно. Никакой надежды сподобиться Царствия Небесного, никакой надежды спастись от адских мук. От самоубийства меня удерживала лишь мысль, что это – еще более страшный грех. Но тем не менее у меня не было сил совладать с собой. Снова и снова по вечерам я прокрадывался к южной стене Колизея, где подмастерья художников приторговывали непристойными рисунками и статуэтками. Снова и снова пытался задержаться в общественных банях допоздна, как-нибудь затаиться там и дождаться того часа, когда они открывались для женщин. (Конечно, служители каждый раз находили меня и вышвыривали.)
Священное Писание я изучал весьма усердно, но даже в нем было место, где буквы почти стерлись, а папирус свитка истончился. Нечего и спрашивать, какое это было место, – конечно, «Песнь песней». «…Округление бедер твоих как ожерелье… живот твой круглая чаша, два сосца твои как два козленка… Стан твой похож на пальму и груди твои – на виноградные кисти… Влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее…» и так далее.
Моему отцу не пришлось долго искать подходящую «пальму» для меня. У Мемориуса, священника в церкви Святого Иоанна, была дочь четырнадцати лет – весьма добронравная девица по имени Клавдия. Двум священнослужителям, призывавшим прихожан «не собирать себе сокровища на земле», нетрудно было договориться о всех пунктах брачного контракта, о приданом и даже о том, чтобы свадьба отстояла от обручения всего на два месяца. Но все дело чуть не застопорилось, когда вмешалась мать Мемориуса – закоренелая язычница. Она не могла смириться с тем, чтобы ее любимую внучку отдали замуж без старинных обрядов, освященных веками.
Многие римские семьи переживали в те годы похожие драмы. Недаром Спаситель предупреждал нас: «Враги человека – домашние его». Мемориус уважал мать и не хотел огорчать ее без нужды. Клавдия же просто боготворила бабку. Неизвестно, что оказалось бы сильнее: послушание отцу и воспитание в христианской вере или твердое бабкино «нет». Пришлось искать компромисс. Только после свадьбы я узнал, как долго и как яростно велись переговоры.
Гаданья и жертвоприношения тогда уже были запрещены – об этом нечего было и думать. Но хлеб?!
– Какая вам разница, каким хлебом причащаться? – восклицала бабка. – Почему это не может быть полбенный хлеб? Нигде в ваших священных книгах не говорится, какой хлеб преломил ваш Иисус во время тайной вечери. Это вполне мог быть хлеб из полбы. И все гости – даже христиане – будут в глубине души довольны, если старый обычай будет сохранен.
На хлеб из полбы два священника согласились. Но из-за кольца для невесты битва загорелась вновь. Как? Позволить надеть на палец христианской девицы кольцо с изображением Юноны? или Цереры? Или – хуже того – самой Венеры!
– Но зачем же «с изображением»? – отбивалась бабка. – Пусть будет простое железное кольцо. Пусть даже со знаком креста. Зато представьте себе, что брак окажется бездетным? Или что наши дети невзлюбят друг друга? Не станете ли вы потом думать, что это бог домашнего очага мстит за то, что мы не хотели уступить ему в такой малости?
Годы спустя жена созналась мне, что накануне свадьбы бабка уговорила ее тайно исполнить и другие старинные обряды: они вместе сожгли на домашнем жертвеннике ее старые одежды и детские игрушки; они завязали на тунике пояс узлом Геркулеса, специальным острым гребнем бабка расчесала ей волосы на шесть прядей, затем в каждую вплела шерстяные нити и уложила под венок из цветов.
Но главное, хитрая старуха добилась, чтобы ее назначили распорядительницей свадьбы – пронубой. И тут уж она разошлась. Конечно, она не могла никак повлиять на церемонию, проходившую в церкви, – там распоряжались оба священника, и пелись христианские гимны, и родители держали венцы над нашими головами. Однако во всем остальном от нее не было спасения. Фата невесты? Непременно шафранового цвета. А факел, который мальчик нес перед процессией, – непременно из прутьев боярышника. А где три медные монеты, которые должна иметь невеста? А запасены ли лепестки роз и фиалок – осыпать новобрачных? А заплачено ли певцам и флейтистам? И ради всех богов, ради Христа и Юпитера, внося мою девочку в дом жениха, не дайте ей задеть ногой за порог – нет ничего ужаснее этой приметы.
Не все родственники и друзья из провинции поспели вовремя, поэтому свадьба, застолье и поднесение подарков растянулись чуть не на три дня. Меропий Паулинус (да-да, твой дядя) написал в нашу честь чудесные стихи. Конечно, в те дни я не мог оценить их по достоинству. Супружество ввергло меня в какой-то транс, наполнило душу изумлением и облегчением. Друзья рассказывали потом, что в жизни не доводилось им видеть ничего глупее улыбки, с которой я спустился к ним после первой брачной ночи. Я двигался среди них, парировал их остроты, ел и пил, благодарил, паясничал, подпевал певцам, но сам то и дело взглядывал на солнце с одной мыслью:
«Скорей! как ты ползешь! о, провались ты за край Земли! Чтобы я снова мог остаться с этим незнакомым чудесным существом. С этим подарком судьбы. Чтобы снова, помирая от страха, мы нашли под одеждой лоно, чресла, ноги друг друга. И чтобы повторилось наше невозможное, незаслуженное, неудержимое – не удержать в руках – счастье!»
Нет, не буду выдумывать задним числом – не мог я в таком состоянии заметить и запомнить среди гостей скромного друга Мемориуса, Пелагия Британца. Но когда он – много лет спустя – рассказал, что был на моей свадьбе и подарил нам бронзовый светильник, я немедленно вспомнил этот подарок – благодаря надписи, сделанной на нем. Она так мне понравилась, что я – когда мой рассудок вынырнул обратно на свет из любовного угара – перечитывал ее много раз, читал гостям и родственникам.
«Не гони горе страхом – не отгонишь. Не мани радость надеждой – надежда и есть твоя радость».
Эта надпись оказалась первым произведением Пелагия, которое я – еще не зная его имени – заучил наизусть.
(Юлиан Экланумский умолкает на время)
ГОД ЧЕТЫРЕСТА ТРЕТИЙ
ГАЛЛА ПЛАСИДИЯ СЛЫШИТ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Первый раз я видела состязания колесниц еще совсем девочкой. Вся императорская семья присутствовала в ложе, которая соединялась с дворцом закрытым коридором. Самих лошадей и возниц я почти не могла разглядеть. Но тем острее проникало в меня напряжение, висевшее над ипподромом. Будто тысячи этих кричащих ртов и выпученных глаз заставляли воздух вокруг тебя сжиматься, тяжелеть, дрожать. И в груди становилось больно, и в этой боли была щекочущая сладость, и я уже тогда смутно догадывалась, что ради этого сладостного прокола в корке души люди и рвутся на ристалище.
Нечто похожее я всегда испытывала, когда ко мне приближалась, когда со мной заговаривала – даже когда проходила в дальнем конце зала – императрица Эвдоксия. Она будто постоянно несла вокруг себя такое облако готовности к схватке, к состязанию. И каждый поневоле напрягался при ее приближении. Она будто постоянно бросала вызов – людям вокруг, свету за окном, времени, судьбе. Как это делают дети: «А ну давай наперегонки! А ну поборемся – кто кого!» И ты с готовностью вскидываешься ей навстречу и начинаешь подбирать вожжи, и вся пятерка твоих чувств уже рвется нестись вперед. Но вдруг понимаешь – нет, не угнаться. Ибо твои-то чувства стучат копытами, а ее – шумят крыльями.
О да, хитрый евнух Этропий знал, что делал, когда подсовывал Эвдоксию в жены моему брату. Не красотой она взяла его – дочка всесильного Руфинуса, ее главная соперница, была миловиднее, – а именно этим: неудержимостью чувств. Рядом с ней человеку начинало казаться: еще немного – и я тоже смогу взлететь. Не было нужды взвинчивать себя зрелищем конских ристалищ. Видимо, поколения ее франкских предков так и не смогли усвоить правила римского хладнокровия. Я видела много раз, как император Аркадий взбадривался рядом с женой, выходил из своей обычной полуспячки. Но, конечно, ее страсти, ее желания были настолько сильнее, что она командовала в семье, как ее отец командовал в своем легионе. А с рождением наследника ее власть стала сильно ощущаться и за пределами двора.
Беда была лишь в том, что ей теперь как бы не с кем было тягаться. Думаю, ее горячая религиозность тоже коренилась в жажде непомерного. Только любовь к Богу могла быть по-настоящему безграничной. Помню торжества, связанные с перевозкой мощей святого великомученика Фокаса из Понта в Константинополь. Произошло небывалое: императрица сама приняла участие в ночной процессии. Вслед за Златоустом и его священниками она шла все девять миль до усыпальницы святого Томаса в Дрипии и несла в руках ларец с мощами. Придворные, чиновники, монахи, паломники, простые горожане шли и шли в свете факелов, распевая гимны, – и конца им не было видно.
На следующий день Иоанн Златоуст в своей проповеди превозносил императрицу до небес, восхвалял ее набожность, ликовал по поводу преданности сильных мира сего делу Церкви Христовой. Эвдоксия действительно поначалу боготворила архиепископа, участвовала в его добрых делах, жертвовала на больницы, дарила серебряные подсвечники собору, помогала руководить церковным хором. Но я уже и тогда предчувствовала, что эти двое рано или поздно столкнутся друг с другом, как колесницы на полном скаку. Слишком много в обоих было неуемной страсти, слишком быстро случайно оброненное слово вырастало для них – не без помощи тайных злопыхателей – в смертельное, намеренное оскорбление.
На чем они схлестнулись тогда, в первый раз? Ей-богу, не могу вспомнить. Кажется, императрица попросила приезжего епископа помолиться за заболевшего сына. А тот оказался, как назло, из партии александрийских врагов Златоуста. «Как она могла обратиться с просьбой о молитве не к вам, а к вашему врагу?» – шепчут заушники. И на следующий день в проповеди архиепископа поминается развратная и безбожная царица Иезавель, гонительница пророков израильских, покровительница жрецов Ваала. И сразу придворные интриганы бубнят вокруг императрицы, что это не случайно, что сравнение слишком прозрачно.
А нужно при этом помнить, как простой народ боготворил Златоуста. Каждое слово его проповеди подхватывали действительно как золотую песчинку и передавали до самых дальних городских предместий, а потом и дальше, по всей стране. Особенно когда он бичевал богатых, объявляя их виновниками всех бед, включая землетрясения и наводнения.
Богатых в те годы было не больше, чем сейчас, но они как-то совсем не знали удержу и щеголяли своей роскошью друг перед другом и перед простонародьем. Даже ночные посудины у многих делались из серебра и золота. А толпы челяди, а заморские повара, а многодневные пиры с флейтистами и танцовщицами!..
Обращение со слугами и рабами часто было бессмысленно жестоким. Думаю, в каждом втором доме могли случаться сцены вроде той, которую живописал Златоуст в одной из проповедей: как муж и жена истязали плеткой привязанную к кровати служанку. Доставалось от него и священникам – за обжорство, за сребролюбие, а главное – за обычай заводить в своих домах домоправительниц, которые незаметно превращались в наложниц.
О, он умел плодить себе врагов! Так что, почувствовав гнев императрицы Эвдоксии, они немедленно сгрудились вокруг нее, ощетинились, стали подливать масла в огонь. И с ее помощью созвали синод епископов в городе Оке, который закончился осуждением Златоуста и просьбой к императору: сместить и судить за измену.
Весь двор гудел, шептался, затаивался, ждал. Создавались кружки и партии, возникали и рвались мимолетные заговоры. Но император все оттягивал решительный шаг. Его страсть до последней возможности искать примирения выливалась в бесконечные совещания с доверенными придворными за закрытыми дверьми. Наконец он нашел золотую (ох, не из фальшивого ли золота?) середину: отверг обвинения в измене, за которую полагалась смертная казнь, но подписал указ о высылке.
Что тут началось!
Народ кинулся к храму Святой Софии и окружил его сплошной стеной. Люди вопили, рыдали, клялись защитить своего пастыря любой ценой. Толпа с факелами и свечами была так густа, что стража не могла добраться до архиепископа в течение трех дней. Но он сам, опасаясь бессмысленного кровопролития, позволил увести себя ночью через боковой ход. Взошел на корабль и отплыл в Азию.
Конечно, среди врагов его началось ликование. Они уже распределяли между собой епископаты и церковные приходы. Друзья же Златоуста в панике разбегались из города, искали укрытия кто где мог.
И вдруг – гром среди ясного неба. Проносится весть, что императрица Эвдоксия призывает Златоуста обратно.
«Злые и порочные люди устроили этот заговор, – писала она изгнанному архиепископу. – Все было сделано за моей спиной. Разве могу я забыть, что ты крестил моих детей? Я обняла колени императора, умоляя его вернуть пастыря пастве, главу – обезглавленному телу, лоцмана – кораблю. Не будет мира в империи до тех пор, пока ты не займешь свое законное место у алтаря в соборе».
Что заставило ее так круто сменить гнев на милость?
Каких только домыслов не высказывалось по этому поводу! Одни говорили, что она испугалась народного бунта. Другие – что случившееся в те недели землетрясение было ею истолковано как знак Божьего гнева. Что поля были побиты градом величиной с куриное яйцо. Шептались даже о том, что Божий гнев ударил ее гораздо больнее и что в ночь изгнания архиепископа у нее случился выкидыш. Но я не помню, чтобы кто-нибудь назвал вслух причину, которая казалась столь очевидной мне, пятнадцатилетней: сердце императрицы разрывалось пополам.
Ибо в моих глазах схватка между Эвдоксией и Златоустом с самого начала была схваткой двух ревнивцев. Я чувствовала, что горячая вера этих двоих в Господа порой приобретает все черты любовной страсти. А где страсть – там и ревность. Непредсказуемая, неуправляемая. Позднее, читая «Исповедь» Августина из Гиппона, те места, где он называет Господа «моя поздняя радость», «мое блаженство», я все время вспоминала лицо императрицы, разгоравшееся порой от молитвы, как от чтения любовных стихов. В ней молча и невыразимо горела та же страсть, что прорывалась вспышками нездешнего огня в проповедях Иоанна Златоуста.
Они соперничали в любви к Господу, как дети соперничают порой в борьбе за родительскую любовь.
Для вечно готовой к состязанию императрицы Златоуст был непобедимым и незаменимым соперником.
Она изгнала его, потому что он был непобедим.
Она вернула его, потому что он был незаменим в своей непобедимости.
Но я не верила, что их примирение может продлиться долго. Я ждала новой схватки в любой день. И, увы, оказалась права в своих предчувствиях.
(Галла Пласидия умолкает на время)
Выехав из Капуи, мы взяли направление на Формию. Маний свел нас со своим родственником, который работал почтарем на этой дороге и обещал устроить нам дешевый ночлег на почтовых станциях. Мы ехали бок о бок, и почтарь жаловался мне, что из-за жадности почтовых чиновников курсус публикуспользуется теперь недоброй славой. Придорожные деревни были обязаны поставлять фураж для почтовых лошадей и мулов, но чиновники платили им по низким, государственным ценам, а потом перепродавали ячмень и сено на рынке в два-три раза дороже. Немудрено, что появилось выражение «худая почтовая кляча», – бедным животным порой вообще не перепадало ничего, кроме соломы.
И это при том, что каждый теперь считает своим долгом писать родне по любому поводу. Корова отелилась – все должны немедленно узнать об этом. Жена обварила ногу супом – послание на четырех дощечках. У сына прорезались зубки – свиток длиной в «Энеиду». И почтарь в сердцах поддал ногой тяжелую почтовую сумку, переброшенную через лошадиный круп.
Ночь мы провели неплохо, устроившись без затей на сеновале почтовой станции. Коза Бласта даже растерялась от такого обилия корма и позволяла своему хозяину доить себя не в горшок, а прямо в рот. Я, памятуя наставления Афенаис, замазал уши воском. Она была великий знаток насекомых и рассказывала мне о всякой нечисти, которая таится в сухой траве, а потом заползает вам куда не следует.
Наутро почтарь объявил, что здесь наши пути расходятся. Подвода из его родной деревни не приехала, и ему придется отвезти туда почту самому. При этом слова он цедил как-то таинственно, оглядывался, слегка приседал. Потом протянул неопределенно:
– Коли ты друг Мания… Впрочем, кто вас поймет, иноземных… Но если хочешь… Тебе ведь и самому приходится что-то прятать… Может оказаться интересно… А крюк небольшой… В полдень уже будем обратно на главной дороге…
Я заверил его, что спешить нам некуда и что мы будем рады проехать через его деревню. Мне не хотелось лишаться проводника. Да и любопытство разбирало. Мне еще не доводилось побывать в настоящей итальянской глуши. А ведь мои предки со стороны матери были из этих краев. Старая самнитская кровь.
Около часа мы ехали по узкой горной дороге, все вверх и вверх. Наконец на одном из поворотов почтарь спешился и поманил меня за собой. Мы оставили Бласта сторожить наш маленький караван, а сами стали подниматься по крутому склону к небольшой кленовой роще. Среди деревьев почтарь пригнулся и пошел крадучись. Пройдя рощу, мы прилегли на траву и осторожно выставили головы над краем обрыва.
Внизу лежало вспаханное поле.
Земля была красноватой, тяжелой и сырой, как мясо. Год за годом убиравшиеся с поля камни выросли в невысокую насыпь, тянувшуюся по краю. И за этой насыпью двигалась процессия людей в белых одеждах. На головах у них были венки из прошлогодних колосьев и масличных листьев. Доносились пение и удары тимпанов. Выпряженные из повозок и плугов волы паслись невдалеке. Рога их тоже были украшены венками.
Почтарь обернул ко мне сияющее лицо и прошептал то ли с гордостью, то ли мечтательно-удивленно:
– Амбарвалии…
Процессия теперь проходила прямо под нами, так что можно было разобрать слова гимна:
Вакх, снизойди, и с рожек твоих да склоняются грозди,
Ты же, Церера, обвей вязью колосьев чело.
В день святой да почиет земля, да почиет оратай.
Тягостный труд свой прервав, в доме оставит сошник.
Впереди процессии шел жрец с зажженным факелом в руке. За ним двое юношей несли жертвенных животных – поросенка и ягненка. Толпа завилась широкой петлей вокруг сложенного из камней алтаря. Потом внутри началась какая-то возня, смех, и несколько парочек смущенно вышли прочь из круга, стали поодаль. В ответ на мой вопросительный взгляд почтарь хихикнул и пояснил:
– Кто накануне предавался Венериным утехам, не должен приближаться к алтарю.
В этот момент внизу грянул хохот.
Толстая тетка тащила прочь из круга дряхлого старичка. Тот для виду упирался, прихватывал красную пыль с земли, посыпал себе голову. Но потом с гордостью присоединился к «отверженным».
– О Юпитер Пирующий, – начал жрец, – молюсь тебе и прошу тебя: будь благ и милостив к нам и к домам и домочадцам нашим… О Янус Двуликий, бог всякого начала и завершения, ради тебя повелел я обойти этим шествием вокруг поля… Да запретишь, защитишь и отвратишь болезни зримые и незримые, недород и голод, бури и ненастье; да ниспошлешь рост и благоденствие злакам, лозам и саженцам; да сохранишь невредимыми пастухов и скот… Будь почтен этими животными сосунками, коих приношу тебе в жертву.
Жрец передал юноше факел, взял у него визжащего поросенка, поднял его за заднюю ногу над алтарем.
Сверкнул тяжелый нож, брызнула кровь. Визг смолк.
Жрец склонился над рассеченным тельцем, раздвинул пальцем внутренности.
Толпа затаилась.
– Бог принимает жертву! – провозгласил жрец, распрямляясь.
Запылал хворост в жертвеннике, поплыл фимиам божественного обеда.
Толпа взялась за руки и снова запела гимн.
Тут мой почтарь не выдержал. Он вскочил на ноги, сорвал с себя серый балахон. Под ним оказалась короткая белая туника, подпоясанная витым шнуром. Высоко вскидывая ноги, как танцор, он понесся вниз.
Поселяне на секунду замерли, готовясь бежать в панике. Но тут же узнали земляка, разорвали для него круг, поглотили, закружили.
А я смотрел на их ликование и не чувствовал ни гнева, ни презрения, которые подобали бы правоверному христианину. Да, они закоренелые язычники. Пройдут века, прежде чем они смогут отказаться от веры своих отцов и дедов. Прежде чем почувствуют отвращение к живой крови на алтаре. Прежде чем научатся понимать разницу между истинным Богом и ложными богами.
Но разве можно обвинять их? К кому им пойти, кому верить? Священнику, который призывает их к посту и воздержанию, а сам втихомолку развратничает и обжирается? Или к этому жрецу, который живет среди них с рождения и так же берется за ручки плуга с каждым восходом солнца?
А сам я? Разве смог бы я смотреть на них без злобы и осуждения, если б не узнал на себе, что это значит – прятаться, дрожать, таить свою веру? Их храмы осквернены, статуи богов разбиты, обряды под запретом. За участие в сегодняшних амбарвалиях каждого могут привлечь к суду, бросить в тюрьму, конфисковать имущество. И не скрыта ли в гонениях на нас, пелагианцев, непостижимая милость Господня? Лишив нас победы в земной борьбе, не спасает ли нас Господь от самого страшного – от превращения в безжалостных гонителей?
МЕРОПИЙ ПАУЛИНУС И СЕНАТОР СИММАХ
Должен сознаться, что живой человек, обладающий даром Слова, действовал на меня всегда сильнее, чем Слово написанное – даже таящее в себе дар жизни вечной. Не знаю, открылся бы для меня когда-нибудь свет христианской истины, если б не довелось мне еще в детстве услышать проповедь Амвросия Миланского.
Впоследствии я стал его горячим почитателем. Его послания против Алтаря Победы я заучивал наизусть. Как замечательно говорит он там о глубочайшей разнице между христианами и эллинами:
«Мы гордимся пролитой кровью, их волнуют расходы. То, что мы считаем победой, они расценивают как поражение. Никогда язычники не принесли нам большей пользы, чем в то время, когда по их приказу мучили, изгоняли и убивали христиан. Религия сделала наградой то, что неверие считало наказанием. Какое величие души! Мы выросли благодаря потерям, благодаря нужде, благодаря жертвам, они же не верят, что их обычаи сохранятся без денежной помощи…»
Язычники тогда просили императора вернуть золотую статую Победы к алтарю в курии сената и платить жалованье ее жрецам. Они говорили, что старые боги хранили великий город Рим уже тысячу лет и что не следует вызывать их гнев. Эти аргументы не казались мне убедительными. Ведь и враги Рима, такие как Пирр и Ганнибал, не менее усердно приносили жертвы тем же богам, а победы не добились.
Но вот довелось мне встретиться – незадолго до его смерти – с главным оппонентом Амвросия, сенатором Симмахом. И что же? Обаяние старого аристократа захватило, взволновало, увлекло меня. Он говорил и держался с таким достоинством, что возникало ощущение какой-то таинственной власти, – она подхватывала твою душу и возносила ее над землей.
Не только тон и манера речи – внезапный поворот острой мысли вдруг поражал тебя, как удар меча в незащищенное место. Например, мне запомнилось обсуждение вопроса о веротерпимости, завязавшееся однажды в доме Мелании Старшей.
– Если бы нынешние порядки господствовали в Римской империи во времена Христа, – сказал Симмах, – ваш апостол Павел не добрался бы ни до Антиохии, ни до Коринфа, ни до Афин, ни до Эфеса, ни до Фессалоник. Только под защитой старых римских законов мог он ходить из города в город и проповедовать. В наши дни его арестовали бы в воротах Иерусалима и казнили бы за ересь. Точно так же, как ваши нынешние епископы казнили недавно своего собрата Присцилиана и его последователей.
– Епископ Присцилиан был казнен при власти не настоящего императора, а узурпатора Максимуса, – неуверенно возразил я. – Амвросий Миланский и Мартин Турский осудили казнь Присцилиана.
– Но в это же время христианнейший император Феодосий Первый выпускает эдикт за эдиктом, один свирепее другого, против еретиков. Вот вы сейчас зачитываетесь писаниями Августина из Гиппона. А кто-нибудь из вас задавал себе вопрос, в чем была причина его поспешного отъезда из Африки в Рим? Такого поспешного, что он даже бросил родную мать на африканском берегу.
– Он дает объяснение в своей «Исповеди», – заметила Мелания Старшая. – Ученики в карфагенских школах стали такими распущенными, что невозможно было вести занятия.
– Ученики в римских школах к этому времени стали еще хуже. И вдобавок они приобрели привычку исчезать перед концом курса, оставляя профессора без платы. Но если вы вспомните точную дату переезда Августина через Средиземное море, многое прояснится для вас. Что такое триста восемьдесят четвертый год? Это год, в котором император Феодосий Первый выпускает эдикт, грозящий смертной казнью за исповедование манихейства. Но в книге, называемой «Исповедь», бывший манихеец Августин не сознается, что именно это явилось причиной его панического бегства из мест, где все знали его как горячего сторонника этой секты. Мне ли не помнить, от чего он бежал! Ведь это я помогал ему на первых порах в Риме. Это я устроил его на место официального ритора в Милане. И сделал я это по рекомендациям и по просьбам его манихейских друзей. Ибо мы, язычники, и манихейцы в те годы сделались союзниками поневоле. Нас свела вместе нетерпимость христиан.
В речах сенатора Симмаха история последних сорока лет империи – начиная с императора Юлиана Отступника – преображалась в непрерывную борьбу двух главных сил: эллинизма и христианства. Вот молодой император Грациан начал свирепую атаку на язычников, распорядился даже удалить Алтарь Победы из курии сената. И что же? Когда узурпатор Максимус переплыл со своим войском из Британии, армия оставила Грациана, перешла на сторону восставших. Ибо видела в них защитников древних традиций. Собственные города закрывали перед бегущим императором ворота один за другим.
А поход Феодосия против Максимуса в 388 году? Это, по сути, контрнаступление христиан. Максимус был разбит, Феодосий посадил на трон сына Грациана – Валентиниана, но и его убивает армия, которая в 392 году возводит на западный трон узурпатора Евгения, явного сторонника эллинизма. Недаром знаменитый язычник Флавианус стал на его сторону, а епископ Миланский Амвросий предпочел удалиться. И снова восточному императору Феодосию пришлось оставить Константинополь, собирать армию и вести ее на запад. Конечно, он не мог в этой борьбе обойтись без поддержки варваров-христиан. Крещеные визиготы Алариха были в его армии ударной силой.
Гневные возражения клокотали в моем христианском горле, и только уважение к сединам прославленного Симмаха сдерживало их. Возвращаясь из дома Мелании Старшей по вечерним улицам Рима, я сочинял в уме длинные речи в защиту набожных императоров, поднимавших армии на защиту христианской веры. «Нет, не гражданские войны заливали кровью наши поля десять лет подряд, – декламировал я. – Их нельзя уподобить войнам Суллы и Мария, Цезаря и Помпея, Октавиана и Антония. Здесь Господняя сила поднималась против сил безбожия и побеждала раз за разом!»
Но, оказавшись дома и снова погрузившись в чтение, я опять попадал в сети словесного колдовства сенатора Симмаха. Как очаровательно старомодна его латынь в речи, призывающей молодого наследника погибшего Грациана вернуть Алтарь Победы в сенат. «Загадка мироздания ускользает от слабого человеческого ума, – пишет он. – Дайте старинному обряду и обычаю править там, где разум не в силах вести и наставлять нас. Особенно если эти старинные обычаи связаны с веками славы, побед, процветания».
И еще, однажды, совсем незадолго перед своей кончиной, он удостоил меня беседы и сказал нечто, что ранило многих христиан, стоявших кругом, но что мы не могли отбросить как выдумку или неправду.
– Ярость наших споров, нашей борьбы – не от разницы наших вер, – сказал умирающий сенатор. – Тем, кто верит в бессмертных богов на Олимпе, нетрудно поверить в Христа, воскресшего на Голгофе. Разница – в праве стоять лицом к лицу с Богом. Каждый язычник, поклоняющийся Юпитеру, остается жрецом его перед домашним алтарем. Поэтому родной дом для него – святыня, обиталище бога. И за эту святыню он был готов сражаться и умирать. Каждый христианин нуждается в посреднике между собой и Богом, в священнике. Или так, по крайней мере, внушают ему жрецы Христа. Только они могут направить блуждающую душу простого человека к Богу верным путем.
Сенатор сделал паузу, словно ожидая – почти надеясь, – что ему возразят. Но мы молчали.
– …В этом есть большой соблазн. Люди любят отдать себя вожатому, ваша паства растет числом. Она верит, что Христос защитит ее от всех бед, в том числе и от вражеских армий. Нужно только во всем подчиняться священнику – тогда и не будет нужды браться за меч, не нужно будет идти на смерть. Поэтому-то наши границы рвутся под напором варваров. Но если бы вы могли хотя бы создать мир внутри страны. Нет, мира между вами не будет никогда… Вы способны объединиться только против общего врага, каковым вы почитаете нас, эллинов. Но когда вы нас победите – о, тогда вы схватитесь между собой всерьез. Ибо нет и не может быть согласия между людьми в выборе пути к Богу.
Что тут можно было возразить? Ведь и перечитывая Священное Писание, мы с тревогой узнавали, что раздор и разделение существовали даже в ранних общинах христиан. Ведь и апостол Павел умоляет в своем послании жителей Коринфа не ссориться, не разделяться на последователей Апполоса, Кифы и Павла. «Разве разделился Христос? – взывает он. – Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?»
Но единодушие в вере с каждым годом казалось все более далекой мечтой. Один из соратников Амвросия Миланского составил каталог осужденных ересей. И сколько он насчитал? Трудно поверить – 158!
В те годы Аммиан Марцеллин заканчивал свою «Историю». В юности он был солдатом, воевал в армии императора Юлиана Отступника. В его книге много достоверного, но к христианам он явно несправедлив. Написать, что «дикие звери не проявляют такой ярости к людям, как большинство христиан в своих разномыслиях», – это грубое преувеличение. Доказательством может служить факт, что даже его книгу мы читали в доме Юлии Пробы и горячо обсуждали.








