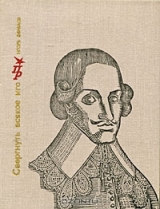
Текст книги "Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
15 апреля, 1643
Оксфорд
– Не могу, синьор, как хотите, не могу. – Тюремщик говорил громко, хотя и не очень уверенно. – Строгий приказ коменданта. Всякий раз, как приводят новых пленных, он напоминает нам: «Суйте их куда угодно, только не к этому бешеному Лилберну». И правда, синьор, бывает, в плену человек оробеет, пораскинет мозгами, поймет свою ошибку и, глядишь, уже готов вернуться к повиновению его величеству. Но стоит ему хоть день провести в камере Лилберна, и он снова превращается в злобного парламентского пса.
Второй голос тоже казался знакомым, но слов было не разобрать. Лилберн усмехнулся, отошел от дверей к топчану, сел. Что они еще задумали? Высоко под потолком голуби на подоконнике, отталкивая друг друга от рассыпанных им крошек, стучали крыльями по прутьям решетки, мешали вслушиваться. Лишь когда дверь распахнулась и человек вслед за тюремщиком вошел в камеру, он вспомнил: Джанноти. Ну конечно же он.
В первый месяц плена, когда его таскали в суд и обратно, они столкнулись разок во дворе замка, и теперь Лилберн припоминал, что крикнул ему тогда что-то обидное или угрожающее. Неужели он пришел теперь отомстить? Смешно. Что можно сделать человеку, который уже почти полгода в одиночном заключении ждет исполнения смертного приговора?
– Насколько я помню, синьор, вы прибыли в Англия для того, чтобы отдохнуть от войны. Позвольте спросить, как проходит отдых?
Джанноти стоял, заложив руки за спину, раскачивался с носка на пятку.
– Ваше злорадство преждевременно. Смута и раздор, посеянные вами, не принесут вам ничего, кроме позора и гибели.
– Мы не сеем смуту. Мы боремся за свои прирожденные права и вольности, если вы можете понять, что это значит. Боюсь, в наши времена слово «свобода» при переводе на итальянский утрачивает свой смысл.
– Уже тогда, на корабле, мне следовало бы догадаться, чего можно ждать от страны, населенной фанатиками вроде вас. Но хватит об этом. В последнюю нашу встречу вы осмелились бросить мне упрек в доносительстве. Накануне расстрела человек имеет привилегию кричать что ему вздумается, и я не придал значения вашим словам. Но теперь у меня есть возможность пристыдить вас, и я не желаю от нее отказываться. – Он сделал шаг назад и махнул кому-то рукой. – Давайте его сюда.
В коридоре застучали сапоги, и двое кавалеристов втолкнули в камеру обросшего щетиной человека в лохмотьях, которые когда-то были голубым мундиром лондонского ополчения.
– Оставим их вдвоем, – усмехнулся Джанноти. – Им есть о чем потолковать.
– Но только до завтрашнего утра, синьор, не дольше, – сказал тюремщик. – Я и так ради вас нарушил инструкции. Хотя, конечно, ваша щедрость…
Дверь захлопнулась, ржавый замок коротко взвизгнул.

Человек, прижимаясь спиной к стене, пятился от Лилберна в дальний угол, прикрывал лицо рукой. Глаза его метались по сторонам, словно ища лазейки или укрытия, ноги разъезжались на каменном полу. Из порванного сапога торчали грязные пальцы.
– Чиллингтон! – охнул Лилберн. – Вот где довелось встретиться. Значит, и вы попали к ним в лапы?
– Нет! Не подходите! Я буду кричать!
Лилберн остановился на полпути, с изумлением глядя на забившееся в угол, раздавленное страхом существо.
– Вы не имеете права… Я докажу… Вы должны понять… Выслушайте меня сначала… Я ранен, не могу защищаться…
Чье-то лицо появилось в зарешеченном окошке дверей, горящий любопытством и ожиданием взгляд перебегал с одного пленника на другого.
– Прекратите, Чиллингтон, – тихо сказал Лилберн. – Прекратите и успокойтесь. Нашим сторожам очень бы хотелось, чтобы мы сцепились, как двое голодных псов. Неужели мы доставим им такое удовольствие?
Он отошел к сундуку, стоявшему в углу, достал из него краюху хлеба и сыр. Кувшин с водой, кружка, горсть сушеных слив и, как главное украшение, подсохшая половинка лимона. Ножа не было, сыр приходилось распиливать натянутым куском дратвы.
– Садитесь, поешьте и расскажите, что происходит в старой доброй Англии. Где вас взяли?
Воспаленные глаза Чиллингтона были прикованы к еде, кадык ходил вверх и вниз, вздымая покрытую щетиной кожу. Косясь по сторонам и благодарно кивая, он присел на край табурета, взял придвинутый ему кусок левой рукой – правая бессильно висела вдоль тела – и впился в него зубами. Лилберн с грустью смотрел на него, маленькими глотками отпивая воду из кружки.
– Извините, у меня все так спуталось в голове… Где взяли? На западе, мистер Лилберн, да, около Монмута. С неделю назад. Генерал Уоллер отступал к Глостеру, и наша рота шла в арьергарде… Еще сыру?.. Да, благодарю вас. Там тоже очень было голодно, и мы все время отставали, пытались добыть чего-нибудь в деревнях. У кого были деньги, те платили, а если нет… Я не могу назвать это мародерством, не помирать же, на самом деле. Там-то нас и накрыли. Большая часть отбилась и ушла, а я замешкался в доме, и вот… – Он показал на правую руку. – Кость, кажется, цела, но боль такая, что не могу спать. Нет, не пуля и не сабля. Обидно сказать – лошадиное копыто.
– Значит, Глостер еще наш. А что в других местах? Восток, север? Что в Лондоне? в Ирландии?
– Все вперемешку, очень трудно понять. Сегодня город за нас, назавтра уже сообщают – за кавалеров. Вроде бы в восточных графствах дело обстоит прочнее всего. Часто поминают какого-то Кромвеля, берет город за городом. Зато на севере, в Йорке, кавалеры делают что хотят. У Ферфакса[24]24
Ферфакс Томас (1612–1671) – генерал парламентской армии, с 1645 года – главнокомандующий.
[Закрыть] слишком мало сил, поговаривают, что ему придется совсем уйти оттуда.
– А в средних графствах?
– То так, то эдак. В Ноттингеме некий Хатчинсон объявил себя за парламент и захватил замок. Личфильд наши взяли штурмом, но когда осадили собор святого Чадвика, – такое горе! – был убит лорд Брук.
Лилберн издал короткий стон и прикусил костяшки пальцев.
– Боже мой, лорд Брук…
– Как раз второго марта, в день святого Чадвика. Пленные из кавалеров говорили, что пулю послал глухонемой солдат. Врут, наверно, хотят показать, что само провидение на их стороне, что святой покарал осквернителя храма. Многие верили им, народ был испуган.
– Непостижимо! Льется кровь, страна горит, а здесь, в Оксфорде, парламентские комиссары вымаливают мир у короля. Что это – глупость? трусость? измена? Предать дело, за которое уже погибло столько людей. И каких людей!..
Лилберн чувствовал, что слова эти были для площади, для речи перед большой толпой, что в тесной камере с единственным слушателем они были неуместны, почти смешны. Но других у него не было. Он сидел, сжав голову руками, острые локти – на острых коленях. Чиллингтон поглядывал на него украдкой, словно боясь встретиться взглядом, поджимал черные пальцы, торчавшие из сапога. Рот его несколько раз открывался и закрывался беззвучно, прежде чем он решился снова заговорить.
– Мистер Лилберн, с того самого дня… Я хочу сказать, все эти годы я со страхом ждал встречи с вами. Думал, что вам скажу, готовил целую оправдательную речь. Если, конечно, вы стали бы вообще слушать меня.
– Я ни о чем не спрашиваю, Чиллингтон. Время ли сейчас ворошить старое.
– Нет, дайте мне сказать! Поверьте… Я знаю, мне нет оправданий, и все же… Это была слабость, а не злой умысел, не коварство. Когда они арестовали меня, я решил, что итальянец все рассказал им про тюки и что запираться бесполезно. Они получили мои показания под присягой, и только тогда я понял, что про книги в тюках они ничего не знали. Этот Джанноти и не думал доносить. Нас всех предал слуга мистера Вартона, тот, который заманил вас в засаду. Я пытался отказаться от своих показаний, мистер Лилберн, клянусь вам, требовал порвать их – они только смеялись. А в день экзекуции… В тот день, когда вас… Я хотел руки на себя наложить. И не смог… Не смог…
Он уронил голову на грудь и заплакал громко, по-женски. Немытые волосы свесились вниз, закрыли его лицо, здоровая рука шарила по карманам в поисках платка. Лилберн, не вставая с места, смотрел на него со смесью недоумения и досады, потом заговорил негромко, будто для себя:
– Да, сознаюсь, бывали моменты, когда при мысли о вас волна ненависти готова была задушить меня. Особенно первое лето в тюрьме. Но вскоре это прошло. Порой мне начинало даже казаться, что в моей жизни вы сыграли роль слепого орудия, что вы были посланы просветить меня. Да-да, есть знание особого рода, его не добудешь и из тысячи книг. Опыт страдания, опыт тюрьмы – это своего рода университет. Боюсь, что и вам предстоит теперь получить в нем образование.
– Все-таки я отказался выступить обвинителем на суде, – всхлипнул Чиллингтон. – Они не могли представить живого обвинителя, только мои показания. А как они стращали меня! Чем только не грозили! Мысль, что я им все-таки не поддался, только она и держала меня. Мне было очень тяжело, мистер Лилберн. После появления вашего памфлета прежние друзья отступились от меня, даже у родных я не мог найти сочувствия. Не дай вам бог перенести такое. Да, не смейтесь, иногда я готов был поменяться с вами местами.
Лилберн встал с топчана, подошел к Чиллингтону, легонько потряс за плечо.
– Полноте, оставим это. Вы видите, я не держу на вас зла. Крепитесь. Вам понадобится теперь все ваше мужество, иначе здесь не выжить. Среди пленных есть лекарь, я постараюсь, чтобы его допустили к вам. Мы должны ждать, надеяться и помогать друг другу. Вот, возьмите. – Он выгреб из кармана несколько монет и сунул их в руку Чиллингтону. – Без денег вы не добудете здесь и глотка воды. Когда мне пришлют еще…
Он замолчал, прислушиваясь к шуму в коридоре, – топот сапог, громкий спор, пьяное пение.
– Ханжи и канальи, вперед, вперед! – орал кто-то. – Вы гимны святые поете; избранники неба, вас слава зовет, но кончите на эшафо-о-о-те!
– Сэр, вы обещали вести себя тихо, – урезонивал поющего тюремщик. – Вся эта рвань ничего, кроме виселицы, не заслуживает, ваша правда. Но ведь и некоторые кавалеры сидят у них в Лондоне в плену, вот беда. Вы пристукнете здесь одного, отведете душу, а вдруг и там кого-нибудь из наших…
– Нет, ключник, не держи меня. Хоть одному я должен отстрелить сегодня нос. Или хотя бы палец. Ба-бах! Бью без промаха. Ты видишь, я лишился в бою мизинца. Эй, круглоголовые! Вылезайте-ка из углов, мне надо получить с вас должок!
– Остановитесь, сэр! Вам потеха, а отвечать-то мне.
– Ох, ключник, лучше бы тебе не вставать между мной и круглоголовыми. А то начну прямо с тебя.
– Что вы делаете?!
– Считаю до трех…
– Опомнитесь!
– Раз…
– Ну хорошо же, вы еще пожалеете…
Дверь в конце коридора хлопнула, пьяный хохот и пение начали приближаться.
Каменные своды ломали, отбрасывали, множили звуки. Казалось, что движется целая толпа.
– Так… А здесь у нас кто?
Дуло пистолета просунулось в зарешеченное окошко, за ним мелькнуло усатое лицо. Чиллингтон, пригнувшись, метнулся от стола к стене, прижался к ней спиной. Лилберн стоял, расставив ноги, развернувшись грудью к двери. Голова его постепенно наклонялась, шея раздулась, тонкий рот начал складываться в презрительную гримасу. Потом вдруг вспыхнул счастливой улыбкой.
– Эверард! Наконец-то…
Он кинулся к дверям, припал к окошку.
– Ну, мистер Лилберн, если вы так быстро меня признали, дело плохо. Пора мне убираться из Оксфорда. Живо давайте письмо, пока меня не вытащили отсюда за эти шикарные локоны. Знаете, сколько я за них заплатил хозяину «Глобуса»?
Лилберн, отбежав к топчану, лихорадочно рылся в соломе тюфяка. Чиллингтон с изумлением смотрел то на одного, то на другого.
– Круглоголовые собаки! – завопил Эверард. – Попрятались! А ну, выползайте на середину! Неужто вам неинтересно поглядеть, как стреляют драгуны его величества?
– Вот, – Лилберн просунул в решетку две бумажные трубочки. – Это к друзьям, можно напечатать. Это для Элизабет. Как она? Вам удалось ее повидать?
– Здорова, мистер Лилберн. Я бы даже сказал, здорова за двоих.
– Что вы несете?
– Вам надо готовиться к роли отца.
– О боже милостивый…
– Прислала немного денег – держите. К сожалению, я больше не смогу появиться. Оксфордский климат становится не для меня. Того и гляди, действительно отправят стрелять в своих.
– Но мирные переговоры?
– Прерваны сегодня. Парламент отверг условия короля и отозвал своих комиссаров. Теперь свалка пойдет всерьез.
– А мы в это время должны гнить здесь заживо.
– Ваши друзья не оставят вас. Я сам постараюсь захватить какого-нибудь маркизика, чтобы вынудить их к обмену.
Воспаленное лицо Чиллингтона поднялось над плечом Лилберна.
– Сэр, могу ли я просить?
– Только живо. Моя свита, кажется, уже у дверей.
– Кэнон-стрит, лавка торговца пуговицами Чиллингтона. Умоляю, передайте моей жене, что я здесь, что жив, но совершенно без денег.
В дальнем конце коридора хлопнула дверь, шаги и голоса угрожающей волной покатились по каменной кишке.
– Джентльмены, ну что вы, ну зачем? – Эверард отвалился от окошка, пошел навстречу. – Этот тюремный хорек напрасно вас потревожил. На счастье парламентских крыс, мой пистолет оказался не заряжен. Зато в одной из камер произошла прелестная сцена. Один из них как раз спускал штаны около параши…
Конец фразы он произнес вполголоса – в ответ грянул раскатистый хохот.
Лилберн отошел от дверей, опустился на колени у топчана и принялся собирать и прятать на место выпавшие соломинки. Растерянная улыбка блуждала на его лице.
Весна, 1643
«После того как переговоры были прерваны, главнокомандующий парламентской армии, милорд Эссекс, выступил к Редингу, где у короля был гарнизон, и осадил его. Королевская конница попыталась снять осаду, и произошло столкновение, в котором пало много видных джентльменов с обеих сторон. Несколько дней спустя Рединг сдался графу Эссексу на условии, что город заплатит осаждавшим, но не будет отдан на разграбление. К этому времени в Англии уже не оставалось такой местности, где бы человек мог считать себя сторонним наблюдателем, но все они превратились в сцены, на которых разыгрывалась трагедия гражданской войны; только Ассоциация восточных графств, благодаря энергии мистера Кромвеля, сумела подавить все замыслы роялистов; в других же местах сторонники короля добились таких успехов и положение парламента стало настолько отчаянным, что многие члены верхней и нижней палат бежали к королю».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
18 июня, 1643
«В то утро, получив известие о рейде принца Руперта, мистер Гемпден не стал дожидаться, пока подойдет его собственный полк, но возглавил ту часть, которая уже находилась на марше. Хотя характеру его, при несомненном мужестве, были свойственны известная осмотрительность и осторожность, на этот раз он решил напасть на противника еще до подхода главных сил. Авторитет его был так велик, что ни один офицер не посмел оказать ему неповиновения. При первой же атаке выстрелом из пистолета ему раздробило плечо, и шесть дней спустя он умер в тяжких мучениях. Смерть его явилась причиной такого всеобщего горя среди сторонников парламента, какого не вызвало бы и поражение целой армии; в Оксфорде же известие о ней было встречено с великой радостью».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
16–19 сентября, 1643
«Суббота, шестнадцатого. Мы шли 8 миль. В это утро были принесены известия, что кавалеры пришли в Чиренчестер, захватили и убили многих из наших людей, которые оставались позади, предаваясь пьянству и не заботясь о том, чтобы идти со своими офицерами; их много жалеть нечего. Сегодняшний день мы гоним вместе с армией около тысячи овец и шестидесяти коров; восемьдесят семь овец предназначено нашему полку, но впоследствии, когда началось сражение, мы всех их потеряли. Вторник, девятнадцатого. Главнокомандующий предполагал расположиться в эту ночь в Ньюбери, но король уже вошел в город за день до нас и прислал вызов дать бой на следующее утро».
Из дневника сержанта парламентской армии
19 сентября, 1643
Ньюбери
Фруктовые сады на южной окраине города выглядели такими ободранными, что можно было подумать, будто гигантская саранча пронеслась здесь недавно, обломала ветви, содрала листву. В проломе забора мелькнули фигуры двух солдат, с азартом рубивших развесистое дерево. Каждый удар сабли по стволу отзывался глухим стуком яблок о землю. Костры уходили в покрытые сумраком поля, терялись вдали. Огни армии Эссекса должны были быть где-то правее, но, видимо, их скрывали холмы.
Джанноти свернул к крайнему дому, спешился, привязал коня. Дежурный офицер пошел доложить о нем и почти сразу вернулся:
– Его светлость ждет вас.
Фокленд, только что закончивший бритье, изучал в зеркале свое исхудавшее лицо.
– Милорд, – поклонился Джанноти, – я принес вам свою повинную голову. Вот письмо, которое вы просили передать мистеру Хайду. К сожалению, я так и не смог попасть в Оксфорд за эти две недели. Мы шли за их арьергардом по пятам, и не было дня, который обошелся бы без стычки.
– Да, я знаю, – Фокленд улыбнулся ему. – Похоже, вашей повинной голове уже досталось?
Джанноти машинально потрогал толстый кокон бинтов, сдавливавший ему шею.
– Вчера под Олдборном было довольно жаркое дело. Рана неглубокая, но крайне неприятная, – вынуждает смотреть собеседнику прямо в глаза, даже когда совесть требует отвернуться. Если в письме было что-то очень важное и срочное…
– О нет, не тревожьтесь. Мистер Хайд писал мне под Глостер, упрекая в легкомыслии и бравировании опасностью, я счел необходимым послать ему какие-то оправдания. Только и всего. Судьба распорядилась так, чтобы письмо не попало ему в руки, – тем лучше.
– Быть может, судьба тем самым хочет показать, что вашему поведению нет оправданий.
– Да?
– Государственный секретарь не должен просиживать дни в первой линии траншей. Осажденные стреляют, как правило, с поразительной меткостью – им приходится беречь порох.
– Не вынуждайте меня пересказывать вслух содержание письма. Смысл его сводится к тому, что человек, который твердит о мире столько, сколько я, который без конца умоляет, требует, взывает к миру, должен постоянно доказывать, что миролюбие его вызвано отнюдь не личной трусостью.
– Милорд, не сочтите мои слова дерзостью, но я видел вас под Глостером своими глазами и верю им больше, чем любым объяснениям. Вы ничего не доказывали. Вы упрямо искали только одного – смерти.
Фокленд поднял на него унылый взгляд, долго молчал, потом вздохнул и жестом пригласил его сесть. На столе в свете двух свечей поблескивал покрытый чеканкой поставец. Он открыл его, извлек графин с вином, два кубка, отодвинул в сторону бумаги.
– Я давно хотел спросить вас, милый Джанноти: каким образом вам удалось в таком совершенстве овладеть английским?
– Приказчик моего отца был родом из Дувра. Страстный католик, он все надеялся, что Англия одумается, припадет к папской туфле, и тогда он сможет вернуться на родину. Я провел в его доме половину детства и всю юность. Вместе с его детьми мы разыгрывали сцены из Шекспира. Он с женой были единственными зрителями, но слезы лили за полный зал.
– Да, Шекспир… – Фокленд сжал виски ладонями, натянул до блеска кожу на щеках. – Не знаю, чего во мне было больше, – восхищения и зависти к нему или злости, отвращения, даже презрения. Но может быть, именно сейчас я созрел для того, чтобы перечесть его заново. «Распалась связь времен. Ужели я связать ее рожден?» Раньше эти строки казались мне многозначительной бессмыслицей.
– А теперь?
– Мы воочию видим, что значит «распалась связь времен».
– Милорд, я отказываюсь понимать, что происходит в вашей стране, и душа моя в полном смятении.
– «Душа в смятении, а стало быть, жива…»
– Нет, на такое стихи уже не могут дать ответа. Поймите, у вас всех есть родные места, родные люди, имущество, почва под ногами, мне же приходится летать в безвоздушном пространстве, и я устаю ужасно. Я способен на личную преданность, но не способен на преданность идее. Мне безразлична идея королевской власти – я предан лично королю Карлу со всеми его слабостями и недостатками. Но я предан также и вам и поневоле заражаюсь вашими мучениями и раздвоенностью. Вы виновник моего смятения – ответьте же мне. Вы не доверяете королю, не любите королеву, презираете двор. Почему же вы здесь, в этом лагере, а не в том, за холмами? Почему в глазах у вас тоска, а грудь полна тяжких вздохов? Почему даже лучшему другу – лорду-канцлеру – не удается заразить вас уверенностью в правоте и близкой победе нашего дела?
– Да, мистер Хайд не знает сомнений. Ему удалось внушить себе идею, будто все нынешние мученья и раздоры вызваны кучкой дьявольских интриганов и властолюбцев, засевших в Вестминстере. Будто разумное большинство ненавидит их власть и только и ждет случая скинуть ее. Сидя безвылазно в Оксфорде, легко поддерживать в себе такую иллюзию. Но если б он провел хоть неделю под стенами Глостера, если б посмотрел на этих высохших от голода горожан, кидавшихся с остервенением на вылазки, увидел женщин, таскавших мешки с землей, детей с горящими от ненависти глазами… Нет, капитан, мы плохо знали свою страну. Выпьем же за эту бедную истерзанную Англию и за то, чтобы завтрашняя битва оказалась для нее решающей и последней.
Шея Джанноти была как деревянная – он смог пить, только откинувшись назад всем корпусом. Фокленд промакнул батистовым платком усы, поднял графин к свету и снова наполнил кубки.
– А что творилось в округе! За три недели мы превратили все окрестности в пустыню. Дикие турки вели бы себя милосерднее. Военная необходимость требует добывать продовольствие для армии, но не требует жечь дома и насиловать женщин. Фуражиры, врываясь в поместье, не спрашивали хозяина, за короля он или за парламент. Нет, они приставляли пистолет к его голове и спрашивали, где зарыта его кубышка, а если он медлил с ответом… Не краснейте, капитан. Я знаю, что и вам довелось оказаться замешанным в подобных сценах. Но там, где англичане грабят англичан, какой может быть спрос с иностранца. Мы двинулись в Глостершир лишь потому, что считалось – там полно роялистов. Боюсь, теперь их не осталось ни одного. Стыд – я чувствую его почти физически, он заполняет грудь, раздувается в горле, как черная жаба.
– Старый Верни накануне своей гибели под Эджхиллом сознавался мне в подобных же чувствах. И когда я спросил, что же удерживает его около короля, мешает вернуться в Лондон к сыну – члену парламента, он только развел руками и показал глазами на небо.
– Вернуться в Лондон? И что? Бить витражи в церквах, сбрасывать статуи и распятия, резать иконы? Топить в Темзе картины Рубенса? Говорят, крест на Чипсайде уже срыт до основания. В своих так называемых мирных предложениях они требуют суда над «изменниками», то есть над теми, кто пытается защитить достоинство королевской власти. Вы хотите, чтобы я принял участие в этих процессах, послал на эшафот мистера Хайда и десятки других?
– Но должен же быть какой-то выход!
– Видимо, он был… где-то раньше… Мы проглядели его. Теперь же, когда все охвачено пожаром войны… Помните, как там у Донна:
Корабль пылал… Спасенья нет нигде!
Лишь разве там, за бортом, – меж волнами…
Но вмиг сжигало из орудий пламя
Тех, кто искал спасения в воде.
Вот так…
Он, сощурившись, искал на потолке выскользнувшие из памяти слова, и Джанноти закончил за него:
– Волшебный, непостижимый дар! С чем действительно жаль расставаться, так это со стихами. «По ком звонит уж колокол прощально…»
– Милорд, если б вы знали, каким тяжким грузом уныние командира ложится на души подчиненных.
– Уже ночь, милый Джанноти, и у меня нет больше подчиненных. Перед вами не государственный секретарь, но рядовой кавалерийского полка лорда Байрона.
– Значит, и в завтрашней битве вы будете лезть на рожон?
– Да. И, я надеюсь, моим терзаниям настанет конец. Если эти надежды сбудутся, передайте лорду-канцлеру, что чувство моей сердечной привязанности к нему оставалось неизменным, несмотря ни на какие размолвки, что я просил его не оставить без поддержки моих детей, и если придется…
Он обернулся на шум отворившейся двери. Слуга вошел со стопкой чистого, свежевыглаженного белья и остановился в нерешительности.
– Прощайте, капитан. – Фокленд поднялся из-за стола. – Я хочу помолиться перед завтрашним днем. Желаю вам пройти через все невредимым и вновь увидеть мирную Англию. Надеюсь, его величество не отпустит вас завтра от себя. Вы не можете сражаться, глядя только вперед, – первый же удар сзади станет для вас последним.
– Прощайте, милорд, и храни вас бог.
Джанноти поклонился слишком низко, наткнулся на боль в ране, вышел на крыльцо и, стоя под черными несущимися облаками, потирая бинты ладонью, повторил несколько раз про себя: «Храни вас бог».
20 сентября, 1643
«Утром накануне битвы при Ньюбери лорд Фокленд выглядел бодрым и весело занял свое место в первом ряду полка лорда Байрона. „Противник, – рассказывал впоследствии его командир, – выбил нашу пехоту из огороженных участков холма и занял позицию неподалеку от изгороди. Я подъехал посмотреть, как обстоят дела, и приказал расширить проход в ограде для атаки, но тут пуля попала в шею моей лошади и мне пришлось потребовать себе другую. В это же время милорд Фокленд, проявив больше доблести, нежели благоразумия, дал шпоры коню и ринулся в узкую брешь, где оба – и конь его, и он сам – были немедленно убиты“. Он получил смертельную рану в низ живота, и тело его не было найдено вплоть до утра следующего дня, так что еще оставалась слабая надежда, что он взят в плен; но близкие друзья, хорошо знавшие его характер, не могли тешить себя подобной надеждой».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
20 сентября, 1643
«Они открыли огонь из всех батарей еще за полчаса до того, как нам удалось подвезти хоть одно орудие. На правом фланге у нас стоял голубой полк городского ополчения, который вел себя в высшей степени храбро. В этот день вся наша армия носила на шляпах зеленые ветки, чтобы отличаться от противника. Пушки неприятеля обстреливали главным образом красный полк городского ополчения. Несколько ядер попали в наши ряды; было ужасно видеть, как человеческие внутренности и мозги летели нам в лицо. Если бы я попытался восславить поведение двух упомянутых полков, я бы скорее только затемнил славу того мужества, которое бог вложил в них в этот день: они стояли под артиллерийским огнем, как столбы, показав себя людьми бесстрашного духа, что даже враги наши должны были признать».
Из дневника сержанта парламентской армии
Сентябрь, 1643
«Когда спустилась ночь, королевская конница и пехота все еще удерживали свои позиции на другом конце луга, где мы и ожидали найти их на следующее утро, решив либо прорваться, либо умереть. Но ночью они ушли. Наутро наша армия беспрепятственно прошла по тому самому полю, где кипела битва, и несколько дней спустя вернулась в Лондон.
Лорд-генерал Эссекс был принят городом с великой радостью и почетом. Милиция и вспомогательные части маршировали поротно, на улицах друзья приветствовали возвращающихся солдат, а лорд-мэр и старейшины устроили торжественную встречу в Тэмпле. Теперь чаша весов переместилась, и значение парламента сильно возросло. К тому же в те самые дни был заключен союз – Священная лига и Ковенант – с нашими шотландскими братьями для защиты и укрепления религии, закона и народных вольностей в обоих королевствах».
Мэй. «История Долгого парламента»







