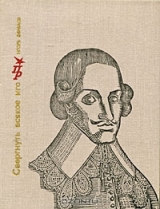
Текст книги "Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Январь 1638
Или, Кембриджшир
– А вы, мистер Кромвель? Что вы думаете о шотландских делах?
Кромвель поднял глаза от сочащейся гусиной ноги и еще раз оглядел сидевших за столом. Воскресные обеды устраивались членами местного филантропического общества по очереди. Сегодня принимал мистер Пэйдж. Справа от него сидел вислощекий, плешивый доктор Фуллер – декан собора святой Троицы. Нэнси, его племянница, от возбуждения и любопытства все время забывала о еде. Дальше Оливер, Элизабет – Кромвель взял только их, хотя приглашали его со всей семьей. На дальнем конце стола аптекарь Гудрик, ближайший друг Пэйджа, бубнил себе под нос что-то невнятное, ни к кому не обращаясь. Мистер Хэнд поддевал ножом коричневую корочку гусиной кожи с такой сосредоточенностью, словно заданный им вопрос был сущей безделицей и мало его занимал.
– Беспокойство шотландских подданных его величества можно понять, – медленно начал Кромвель. – Молитвенник Нокса[5]5
Нокс Джон (1505–1572) – кальвинистский проповедник, вождь Реформации в Шотландии.
[Закрыть] стал для них не только делом их веры. С ним у них впервые появилось нечто общее, объединяющее. Впервые они могли почувствовать себя не сборищем диких кланов, а народом. И когда кто-то теперь покушается на их молитвенник, им кажется, будто у них хотят отнять веру и душу саму.
– Вы называете это беспокойством? Почему бы не сказать попросту – бунт?
– О, я не одобряю тех бесчинств, которые творились в церкви святого Джайльса. Думаю, английские девушки никогда не позволили бы себе таких безобразий, как эти эдинбургские горничные. Кидать табуреты в священника! Вам бы и в голову не пришло такое, не правда ли, Нэнси?
– Нэнси – плохой пример, отец, – сказал Оливер-младший. – Всем известно, что она способна растоптать ногами совершенно новую шляпу человеку только за то, что он случайно отдавил хвост ее котенку.
Старшие засмеялись, припомнив этот эпизод. Нэнси сделала вид, будто хочет заколоть Оливера вилкой. Оливер послушно подставил ей сердце. Все опять засмеялись.
– За английских женщин ваше преподобие может быть спокойно, – сказала Элизабет. – Если завтра архиепископ Лод прикажет вам обращаться к богу другими словами, они это стерпят. Ибо все равно каждая молится в душе по-своему.
– Не все так миролюбивы в делах веры, миссис Кромвель. Вы не представляете, сколько фанатической нетерпимости таится в душах многих англичан. Среди них есть такие, что не простили бы нам этой бутылки вина к воскресному обеду.
– Вино здесь ни при чем, доктор Фуллер, – вскинулся на своем конце аптекарь. – Вы отлично знаете, что не в вине дело.
– Мистер Гудрик?..
– …Но есть такие формы идолопоклонства, которые люди не могут выносить. Даже самые правоверные англикане. Вспомните хотя бы судью Шерфильда.
– Кто это?
– Вы не слышали про Шерфильда из Солсбери? Он был еще более строгим судьей, чем вы, мистер Кромвель. И особенно для сектантов. Но он был также искренне верующим и не мог стерпеть того, что в витраже их церкви был изображен бог-отец. Седовласый румяный старичок – бог-отец! Как вам это понравится?
– «Не сотвори себе кумира», – процитировал хозяин дома, подняв палец. – «Не делай никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу… Не поклоняйся им и не служи им…»
– Вот именно, мистер Пэйдж, вот именно. И однажды совесть заговорила в судье Шерфильде так громко, что он не выдержал: взял у церковного сторожа ключи, заперся ночью в храме божьем и с палкой в руке полез к витражу. Он был старый человек и несколько раз срывался вниз. Но, несмотря на боль и ушибы, он лез снова и снова, пока, наконец, не дотянулся и не расколотил палкой весь витраж.
Голос аптекаря от возбуждения сделался тонким, почти визгливым. Копна волос свесилась на лоб и закрыла на минуту глаза.
– Его схватили?
– Он и не собирался бежать. Суд Звездной палаты приговорил его к штрафу в пятьсот фунтов.
– Пятьсот фунтов?! – мистер Хэнд с недоверием покачал головой.
За столом притихли. Звездная палата была слишком скользкой темой, чтобы касаться ее при посторонних.
Вошел слуга и стал собирать опустевшие блюда. Где-то далеко, за подмерзшими топями, за бурыми полосами кустарников, на краю земли, лежало малиновое закатное солнце, и отпечатки оконных переплетов едва заметно ползли вверх по стене столовой. Снизу, из кухни, шел запах дров, дыма, кипящего жира, тепла.
– Я рад был заметить, мистер Хэнд, что вы спокойно восприняли окончание осушительных работ, – сказал декан, ковыряя в зубах обломком пера.
– Спокойно? Я просто устал бороться. Двадцать лет – с меня хватит. Разве что мистер Кромвель подменит меня теперь, когда он унаследовал имение дядюшки.
Все головы повернулись к Кромвелю. Вот уже год, как он обосновался здесь, в Или, обосновался прочно, перевез всю семью, но к нему все еще присматривались, привыкали. И в то же время будто чего-то ждали от него, чего-то такого, на что у самих уже не хватало сил.
– Как, мистер Кромвель? Неужели вы тоже противник осушения?
– На церковные доходы осушение, конечно, не повлияет, доктор Фуллер. Я буду так же исправно уплачивать вам ту же ренту за арендуемую у вас землю. Для всей же округи оно может обернуться полной катастрофой.
– Дядюшка Вильям, я вас умоляю! – Нэнси сложила ладони перед грудью. – Раз и навсегда растолкуйте мне эту загадку: почему все кругом так против осушения? Король и граф Бедфорд и эти купцы-сукноторговцы вкладывают огромные деньги, вместо болот и топей в графстве появятся сотни акров пахотной земли. Говорят, впервые в этом году не будет наводнения и наш Или не окажется на острове. Что в этом плохого?
Декан пожал плечами и откинулся на спинку стула, как бы открывая племяннице единственного человека, знающего ответ на этот трудный вопрос.
– Да то, милая Нэнси, – сказал Кромвель, – что это будет уже не наша земля. Она попадет в руки спекулянтов и придворных фаворитов, которые немедленно огородят ее и начнут вздувать цены.
– Но ведь сейчас от нее нет никакой пользы.
– О нет. Топь – неважное место для посева и для прогулок, но летом это – прекрасное пастбище. За право пользоваться им наши крестьяне платят мне треть шиллинга с коровы и очень довольны. На сухих участках они выкашивают столько сена, что им хватает его почти до марта.
– В хорошие годы – до новой травы, – вставил Пэйдж.
– Землей же владеют их преподобия, и они продают эти пастбища казне по цене болота. То есть отдают даром.
– Вы же знаете, мистер Кромвель, что мы не можем противиться распоряжениям королевского казначея.
– Я знаю только одно: крестьяне, оставшись без болотной травы, будут разорены. Очень небольшая часть их сможет арендовать осушенную землю по той цене, которую с них будут требовать за нее. Они еще не научились хозяйствовать по-новому, как в Эссексе или Кенте, и не сумеют извлечь из земли столько, сколько нужно на покрытие увеличенной ренты. Может, лет через двадцать осушение и начнет приносить пользу. Но неужели ради этого ныне живущие должны помирать с голоду?
Огромный яблочный пирог, внесенный тем временем слугой, застыл в воздухе, потом проплыл над головами гостей и опустился на стол заметно ближе к Кромвелю, чем к хозяину. Слуга жил в доме давно, ему многое позволялось. Он взял салфетку и зачем-то начал обтирать спинку стула, на котором сидел Кромвель, бормоча при этом:
– Золотые слова, сэр, мистер Оливер, да благословит вас бог… золотые слова…
– Поверьте мне, джентльмены, я-то смогу обойтись без этих коровьих шиллингов. Я даже думаю, что, арендовав часть этой осушенной и огороженной земли, я смог бы найти для нее крепких йоменов[6]6
Йомен – свободный крестьянин, обладавший наследственным правом собственности на земельный участок.
[Закрыть] и мои доходы возросли бы. Но, – Кромвель указал пальцем в сторону окна, – мы не должны забывать, что все разорившиеся крестьяне превратятся в нищих и бродяг, которые лягут на плечи нашего же прихода. Что люди, доведенные до отчаянья, перестают слушать всякие резоны и убеждения. Что в тюрьме ли, в богадельне ли – кормить их придется нам же. Милая Нэнси, если мы не сумеем помешать тому, что происходит… у нас не будет наводнения, зато будет бунт. Как тридцать лет назад здесь, по соседству – в Нортгемптоншире. Восставших называли тогда левеллерами.[7]7
Левеллер – в переводе означает «уравнитель».
[Закрыть] Они обижались на эту кличку, но она точно выражала суть дела: на дне своей нищеты они ничего другого не хотели, как сравнять всех, кто побогаче, с собою, все тучные поля – с своим запустеньем, все высокие дома – со своими, то есть практически с землей. Сравнять – в этом есть огромный соблазн!
На протяжении всего этого разговора аптекарь Гудрик, ни на кого не глядя, то усмехался, то с сомнением склонял ухо к плечу, то вопросительно поднимал бровь, то одобрительно кивал головой, будто вел беседу с кем-то невидимым. Но тут он резко повернулся к Кромвелю и крикнул своим тонким голоском:
– А откуда же король взял деньги на осушительные работы и скупку земель?
Мистер Пэйдж перестал резать пирог и развел руками, словно прося у всех прощения за манеры своего друга. В комнате стало светло – слуга зажигал свечи.
– Его величество – крупный предприниматель, мистер Гудрик. Монополия на торговлю табаком, порохом, игральными картами, таможенные сборы, продажа патентов, продажа баронских и рыцарских титулов… Я не могу вам перечислить все источники доходов казны, но всякому ясно…
– Нет! На этот раз вы, мистер Кромвель, вы сами снабдили его деньгами.
– Мистер Гудрик! – В голосе Пэйджа укоризна пыталась прикинуться строгостью.
– И вы тоже, мистер Пэйдж. Вы оба уплатили в этом году корабельную подать, хотя отлично знали, что налог этот – незаконный.
– Вы хотите сказать…
– Именно! Я хочу сказать, что вы должны были поступить, как ваш кузен, мистер Гемпден. Ему тоже ничего не стоило уплатить эти несчастные двадцать шиллингов и жить спокойно. Но он отказался подчиняться произволу, не побоялся пойти под суд за отказ. И не говорите мне, что у вас семья, дети, хозяйство. У него тоже есть семья и чувство долга перед ней. Но есть же, в конце концов, и долг перед Англией!
– Неужели двадцать шиллингов могут что-то изменить?
– Речь идет не о двадцати шиллингах, доктор Фуллер, а о свободе государства. За последние три года корабельный налог из чрезвычайного сделался постоянным. Скоро король сможет на эти деньги не только скупать за бесценок земли, но и нанять армию. Наемную армию, джентльмены! И мы окажемся под властью такого же деспотизма, как испанцы, турки, русские. Мистер Гемпден прекрасно это понимал. И вот он под судом, а король содержит судебную стражу за счет его родственников. Браво! превосходно!
– Я слышал, что пока суд не вынес никакого определенного решения. Дело передано на рассмотрение двенадцати высших судей королевства.
– Судьи королевства? Хотел бы я посмотреть, что станет с тем из них, кто посмеет вынести решение не в пользу короны.
– Вы думаете, что в стране вообще не осталось честных и мужественных людей?
– Ах, мистер Кромвель. Десять лет назад эти люди собрались в парламенте – и что? Вы были среди них, вы голосовали за Протестацию. О, я помню наизусть. «Если какой-либо купец или какое-либо другое лицо добровольно внесет или уплатит в качестве подати означенный выше потонный и пофунтовый налог, не утвержденный парламентом, тот должен быть признан предателем вольностей Англии и врагом отечества». Разве корабельные деньги утверждены парламентом? Вашими же словами могу сказать вам теперь, мистер Кромвель. – Он запнулся и произнес тихо, но решительно: – Вы предатель и враг отечества.
Оливер-младший с грохотом отодвинул стул, вскочил, сжимая кулаки, но Кромвель ухватил его за плечо и усадил на место.
Тягостная тишина нависла над столом.
Нэнси разглаживала скатерть перед собой, хозяин сидел, прикусив губу, Элизабет сверлила аптекаря тяжелым, ненавидящим взглядом. Трещала, не желая разгораться, свеча. Кромвель согнулся, опершись лбом на сцепленные руки, потом поднял налившееся кровью лицо и сказал – в голосе его была усталость, боль и в то же время что-то угрожающее:
– Мне нечего возразить вам на это, мистер Гудрик.
Аптекарь тоже вдруг обмяк, нервное возбуждение оставило его, глаза в чаще волос погасли.
– Я прошу меня извинить… Мистер Пэйдж, в вашем доме… И вы, мистер Кромвель… Только мое искреннее уважение к вам позволило… толкнуло меня… Но мне пора. Я совершенно забыл, срочная работа… лекарство для жены мэра… Прошу извинить…
Он, кланяясь, встал из-за стола, повернулся и быстро пошел к дверям. Развязавшаяся шнуровка чулка свешивалась сзади из штанины. Когда он вышел, слуга с сердитым видом убрал его стул к стене.
Зима, 1638
«Суд Звездной палаты много раз допускал вынесение приговоров, присуждавших к непомерным наказаниям, не только для поддержания и содействия монополиям и связанным с ними незаконным сборам, но и по различным другим предметам. Посредством этого подданные его величества были притесняемы путем наложения отяготительных штрафов, задержания, клеймения, изувеченья, наказания плетьми, выставления к позорному столбу, забивания кляпа, тюремного заключения, изгнания».
Из антиправительственной Ремонстрации
Март, 1638
«После того как суд Звездной палаты вынес мне приговор – штраф, бичевание и позорный столб, – смотритель Флитской тюрьмы запер меня в камере и вплоть до дня экзекуции не выпускал даже на прогулки в тюремный двор, говоря, что за мое дерзкое поведение перед судом и этого наказания мало».
Джон Лилберн. «Дело зверя»
18 апреля 1638
Лондон, Вестминстер
– Вы видите перед собой новоиспеченного капитана конвоя его величества, мистер Хайд. – Джанноти сделал стремительный пируэт – плащ, шпага, кружева, локоны на минуту перешли в горизонтальное положение. – Он умоляет, он настаивает, он жаждет видеть вас сегодня на небольшом дружеском банкете, посвященном торжественному событию.
Хайд, улыбаясь, приподнял шляпу и слегка развел руками:
– Синьор! Если вы умеете делать с лондонскими поварами такие же чудеса, как с лондонскими портными, было бы глупо не принять приглашение.
– Не скрою, я нашел одно довольно приличное заведение за Чаринг-кросс. «Петух и кошка». Сбор гостей через три часа.
Хайд щелкнул крышкой карманных часов и передвинулся поближе к окну. По утрам даже в самые солнечные дни западная сторона Вестминстерского дворца бывала темноватой. Галерея постепенно заполнялась посетителями, клерками, адвокатами и прочим судейским людом. С площади нарастал неровный гул, прерываемый резкими лопающимися звуками, – будто кто-то рывками раздирал бумагу лист за листом.
Хайд и Джанноти выглянули наружу.
Толпа двигалась по проезду от Кинг-стрит, окружая пустую телегу с одиноким возницей на козлах. Сзади шел голый по пояс человек, руки его были привязаны к телеге, лицо поднято к небу. Палач, почему-то тоже по пояс голый, с кожей по-весеннему белой, блестящей от пота, поднимал кнут и с каждым ударом как бы прыгал на свою жертву.
Помощник шерифа, распоряжавшийся экзекуцией, пришпорил коня, обогнал телегу и знаком показал вознице, чтоб ехал помедленней. Сверху казалось, будто на спину осужденного накинуто что-то красное и лохматое. Он жадно ловил ртом воздух и, похоже, не слышал подбадривающих криков, не замечал толпы, почти не чувствовал ударов, но весь был сосредоточен на какой-то трудной работе, происходившей внутри него.
– Дева Мария, да ведь это Лилберн! – воскликнул Джанноти. – Ох-хо-хо, это он, мистер Хайд, уверяю вас.
Хайд с брезгливым недоумением посмотрел на радостное лицо итальянца и отвернулся.
– Значит, он все же допрыгался со своими книжонками! Какой подарок к торжественному дню. О, не смотрите так осуждающе. Это единственный человек в Англии, которому я желаю зла. И поверьте, у меня есть к тому основания. Нет, не могу отказать себе в удовольствии. Какой спектакль! Я должен досмотреть его до конца.
Телега, продвигаясь в сторону здания Звездной палаты, исчезла из поля зрения, и Джанноти, помахав Хайду, кинулся к противоположному окну.
– Джентльмены, умоляю, потеснитесь немножко. За место в первом ряду плачу фунт. Мне нельзя пропустить заключительную сцену, прошу вас.
– Не горячитесь, капитан. Похоже, что продолжения не будет.
– Разве? – спросил кто-то. – А позорный столб?
– Судьи решили, что бичевания достаточно. Позорный столб отменят, если молодчик признает себя виновным.
Джанноти наконец протиснулся к окну и успел увидеть, как Лилберна отвязали от телеги и увели в какую-то дверь под вывеской. Толпа с глухим гулом заливала площадь. Справа, в открытых окнах Звездной палаты, зрители устраивались поудобней, окликали знакомых.
Шлемы выстроенных стражников образовали вокруг помоста сверкающий квадрат.
Прошло около получаса.
Вдруг раздалась барабанная дробь, дверь открылась, стража раздвинула толпу, и по образовавшемуся коридору Лилберн – рубаха накинута на плечи, в открытом вороте видны наспех наложенные бинты – прошел к помосту.
– Глядите, – он отказался признать себя виновным!
– А вы что думали? Все пуритане упрямы как ослы.
– Разве он пуританин?
– Во всяком случае, какой-нибудь сектант.
– О, вы еще не знаете этого типа. Я же обещал вам, что представление будет занятным.
– Капитан, вы говорите с такой гордостью, словно он ваш близкий родственник.
– Хуже. Он… Не знаю, как это сказать по-английски… Он мой самый близкий враг.
– Все же это немного дико: бить человека до полусмерти, потом передавать его в руки врача только для того, чтобы можно было мучить его дальше.
– Смотрите, еще одного выводят.
– Это книготорговец, продававший вредные книжонки. Их судили вместе.
– Хорошая компания – один желторотый, другой на ладан дышит. А туда же еще.
Мистер Вартон, поддерживаемый палачом, с трудом влез на помост и, растерянно улыбаясь, что-то сказал Лилберну. Тот ничего не ответил, только кивнул, не глядя нашел плечо старика, пожал. Казалось, он по-прежнему старался сосредоточить все силы на невидимой внутренней работе и не хотел отвлекаться ни на что другое.
Палач снял верхний брус с колодки позорного столба и велел обоим вложить головы в полукруглые вырезы нижнего. Лилберну пришлось для этого сильно нагнуться. Рубаха плотно облепила спину, и в нескольких местах на ней проступили красные пятна. Палач положил верхний брус на место, примотал его ременной петлей и отошел к краю помоста, отирая руки о кожаные штаны. В тот же момент голова Лилберна ожила, приподнялась, насколько позволяла колодка, и крикнула голосом сдавленным, но громким и настойчивым:
– Братья мои!
Толпа всколыхнулась, качнулась вперед, застыла.
– Братья мои! К вам, кто любит господа нашего Иисуса Христа и желает, чтоб он царствовал и правил в сердцах и жизнях наших, ко всем, кто слышит меня, обращаю свою речь.
Над площадью воцарилась полная тишина. Только в дальних воротах было заметно какое-то движение – люди продолжали протискиваться внутрь и вдоль стен пробирались на свободное место.
– Братья! Не по божьему закону, не по закону нашей страны, не по воле короля терплю я это наказание, а только по злобе и жестокости прелатов. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Не о прелатах ли это сказано?
– Придержи язык! – крикнул помощник шерифа. – Тебя судили по закону, и ты получил меньше того, что заслужил.
Толпа глухо зашумела и сдвинулась плотнее.
– По закону? В каком английском законе сказано, что от обвиняемого можно требовать показаний против самого себя под присягой? А когда я отказался дать эту безбожную и незаконную присягу, судьи Звездной палаты бросили меня в тюрьму. Они говорили, что меня обвиняет какой-то Чиллингтон, но ни разу не поставили меня лицом к лицу с обвинителем. Даже римские язычники не позволяли себе такого. Они хуже язычников, хуже книжников и фарисеев, эти наши мучители – епископы, забравшие над нами такую страшную власть.
– Аминь! Аминь! – откликнулось несколько голосов. Помощник шерифа раздвинул стражников конем и, подъехав к помосту, протянул плетку к самому лицу Лилберна:
– Замолчишь ты или нет? Еще одно слово, и я прикажу содрать с тебя рубаху и выпороть второй раз.
– Не замолчу! Я буду говорить, хоть бы вы грозились повесить меня на Тайбернских воротах. Я не богохульствую и никого не оскорбляю. У меня нет злобы ни на одного из епископов лично – я нападаю на их сан, на должность, на непомерную власть.
– Заткни ему рот! – приказал помощник шерифа.
Палач посмотрел на него сверху и покачал головой:
– У меня нет такого приказа.
– Я! Я приказываю тебе!
– Письменный приказ их светлостей – вот что мне нужно. Я подчиняюсь только их распоряжениям.
– Ну хорошо же! – Помощник шерифа в бешенстве соскочил с коня, быстро прошел между рядами стражников и исчез в дверях Звездной палаты.
У Лилберна больше не было сил держать голову поднятой. Он видел теперь только доски помоста, но голос его, будто отражаясь от этих досок, далеко разлетался над замершей площадью. Потом он сунул руку в карман, достал оттуда несколько экземпляров «Литании» и неловким, но сильным движением швырнул их в сторону. Книжки перелетели через ограду из алебард и тут же исчезли, расхватанные десятками жадных рук.
– Вот книга, за которую я страдаю! Возьмите ее, прочтите и рассудите сами, есть ли в ней что-нибудь против законов божьих, или законов нашей земли, или блины короля и государства.
Помощник шерифа появился в дверях и почти побежал по проходу, держа перед собой свернутую в трубку бумагу.
– Братья мои! Не бойтесь принять страдания за свободу духа. Сегодня я на себе испытал, сколько душевной силы приливает тому, кто верит в свою правду, как отступает перед нею всякий страх и боль. Облекитесь и вы во всеоружие божие, чтоб вам можно было стать против козней дьявольских. Помните, что наша война не против плоти и крови, но против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы…
В этот момент руки палача ухватили его за волосы, задрали кверху лицо и сунули в открытый кричащий рот тугой комок пеньки; потом пригнули голову и затянули завязки кляпа на затылке.
За оставшиеся полтора часа на небе так и не появилось ни одного облака, и толпа молча стояла под палящим солнцем, не расходилась, чего-то ждала. Пятна на спине Лилберна расползлись, почернели, засохли. Только когда положенное время истекло и осужденных стали вынимать из колодки, поняли, что старик Вартон без сознания.
Хайд вернулся в Вестминстер, когда все уже было кончено и площадь опустела. В переходах и галереях дворца возобновилась обычная деловая суета, и лишь новоиспеченный капитан конвоя одиноко и задумчиво стоял у окна.
– Синьор Джанноти, вы еще здесь? Значит, я напрасно спешу на банкет?
Джанноти оторвал взгляд от опустевшего помоста и виновато улыбнулся:
– Да-да, пора. Мы как раз успеем к назначенному часу.
Они вместе спустились по лестнице, вышли на улицу.
– Варварская расправа все же отравила вам праздник? Это меня радует. Сознаюсь, мне давеча стало не по себе, когда я увидел, с каким злорадством вы разглядывали спину этого бедняги..
– Расправа? Нет, мистер Хайд. Тому, кто видел костры в Испании, четвертования в Париже, колесования в Кельне, такое зрелище не может подействовать на нервы. Но люди… эта толпа… Народ…
– Что же вас так в них поразило?
– Как они слушали. И как молчали. Я в жизни своей не видал ничего подобного.
– Боюсь, я не совсем вас понимаю.
– Их лица… И это терпеливое ожидание. В других странах я видывал толпу глумящуюся, хохочущую, грозящую осужденному. Или в тех редких случаях, когда она была на его стороне, могла начаться свалка, кто-то мог попытаться отбить его у стражи. Но это… Какая-то смесь законопослушности и упрямого отпора, несогласия, непризнания. Вы бывали за границей, мистер Хайд?
– Не довелось.
– Значит, вам не с чем сравнивать. Для вас английская толпа – зрелище привычное. Но для меня… Сознаюсь, мои мечты о спокойной жизни на вашем острове сильно поколебались. Скажу вам даже более прямо: вы живете на притаившемся вулкане.
– Полноте, – засмеялся Хайд. – Во всей Европе вы не найдете сейчас власти более прочной и устойчивой, чем власть его величества короля Карла Первого.
При этих словах он отвесил поклон Уайтхоллу – королевскому дворцу, мимо которого они как раз проходили.
– Дай бог, дай бог… А чего они, в сущности, хотят, эти сектанты? Кажется, их еще называют «пуритане»? Ведь Англия вот уже сто лет – протестантское государство. Ни папы, ни кардиналов, ни инквизиции, ни иезуитов. Чего им еще надо?
– Во-первых, они уверяют, что существует опасность возвращения к папизму. Что реформы в области богослужения и церковного убранства, предпринятые его преосвященством архиепископом Лодом, все направлены на это.
– Есть тут доля правды?
– Католикам, конечно, делаются сейчас некоторые потачки. Но ведь и сама королева – страстная католичка. В высшем обществе это становится даже модным. Говорят, одна знатная дама недавно перешла в католичество и, когда архиепископ спросил ее, зачем она это сделала, отвечала: «Все спешат к Риму, ваше преосвященство, в том числе и вы; а я не люблю идти в толпе, поэтому решила обогнать вас».
– Очень мило.
– Мило, но неверно. Я встречался несколько раз с его преосвященством и говорил с ним. Его настоящая цель – придать англиканской церкви окончательное единообразие в организации, в формах богопочитания, в учении. Тогда всем этим полуграмотным крикунам, доморощенным проповедникам не останется уже никакой возможности нести, как они выражаются, божий свет людям. Это-то их и бесит, из-за этого-то они и нападают на новый молитвенник, на облачения священников, на епископат. Папизм! происки Рима! сатанинские искушения! Темный народ с готовностью слушает эти вопли. Но что поразительно – сектанты находят поддержку и среди людей достойных и образованных. Некоторые даже берут их к себе домашними учителями.
– Воображаю, каких унылых ханжей вырастят подобные наставники.
– Вообще говоря, пуританам нельзя отказать в некоторых достоинствах. Как правило, они честны, воздержанны, не корыстолюбивы. Многим прелатам епископальной церкви следовало бы поучиться у них жизни скромной и целомудренной, вместо того чтобы предаваться чревоугодию, пьянству, охоте. Но эта узость мысли! Этот тупой фанатизм! Долой театр, долой танцы, долой праздники и развлечения, долой наряды и маскарады, долой стихи, музыку, живопись, долой все книги, кроме Библии!..
– Неужели и английскую поэзию?..
– Безусловно. «Пред тем, как тихо испустить дыханье, я огласить хотел бы завещанье…»
– «…глаза дам Аргусу, пока смотрю, – подхватил Джанноти, – ослепнут – их Амуру подарю. Слух – дипломатам иностранным, а слезы – женщинам иль океанам».[8]8
Перевод Б. Томашевского.
[Закрыть]
– Вот видите. Вы, найдя у меня на столе эти стихи, лихорадочно заучиваете их наизусть, пуританин же вышвырнул бы их в огонь. Ибо для него Джон Донн такой же гнусный источник соблазна и совратитель душ, как Спенсер, Шекспир, Бен Джонсон.
– Кстати, я все хотел спросить вас: известно ли, почему сам Джон Донн при жизни не публиковал своих стихов? У книготорговцев я видел только его проповеди.
– Величие Джона Донна, может, в том и состояло, что он умел наполнить свои обращения к богу поэзией и свою поэзию – обращением к богу.
Они были уже у дверей «Петуха и кошки». Хайд, двигаясь с тем особым бальным изяществом, какое бывает свойственно молодым, но рано располневшим людям, взбежал на крыльцо и прочел, подняв руку к небу:
Хозяин таверны с поклонами проводил их в заднюю комнату, где уже собрались почти все приглашенные.
– Джентльмены, – сказал Хайд, – наш храбрый капитан в ужасном расположении духа, но, поверьте, не я его расстроил. Просто в его сердце засело тягостное предчувствие… Вы никогда не догадаетесь какое.
– Что мы съедим и выпьем сейчас вдвое больше того, на что он рассчитывал.
– Что капля томатного соуса упадет на его новый мундир.
– Что красотка забудет его, пока он будет стоять в ночных караулах.
– Что его величество отправит его до скончания дней посланником к русскому царю.
– Что кончится мода на высокие каблуки.
– Нет, нет и нет. Но он со всей серьезностью уверяет меня, что вся Англия не сегодня-завтра будет охвачена мятежом.
Собравшиеся разразились в ответ дружным смехом.
Апрель, 1638
«Шотландские представители, собравшиеся в Эдинбурге, решили возобновить торжественную клятву – Ковенант. Всякий, кто подписывал эту клятву, обязывался защищать чистоту реформированной религии против папизма и любых нововведений. Посланцы с огненными крестами везли текст от селения к селению, от города к городу, и к концу апреля в Шотландии едва ли оставался хоть один протестант, не принявший Ковенанта».
Мэй.[10]10
Мэй Томас (1595–1650) – английский поэт и историк, с 1646 года – один из секретарей парламента.
[Закрыть] «История Долгого парламента»
Лето, 1638
«Что касается созываемой ими Генеральной Ассамблеи, то хотя я и не жду от нее никакого добра, однако надеюсь, что вы помешаете большему злу, во-первых, если возбудите между них прения насчет законности их выборов во-вторых, если станете протестовать против их неправильных и насильственных действий. Если же вы могли бы распустить ее под каким-нибудь ничтожным предлогом, то ничего лучшего нельзя было бы и желать».
Из письма Карла I маркизу Гамильтону
Ноябрь, 1638
«Король назначил шесть лордов своего Тайного совета в помощники маркизу Гамильтону на Генеральной Ассамблее в Глазго. Их не впустили на заседания; в праве голоса им было отказано, и члены Ассамблеи заявляли, что, если бы и король явился сюда собственной персоной, он имел бы всего лишь один голос, и этот голос отнюдь не был бы правом вето. Столь свирепая решимость вынудила королевского комиссара поставить под вопрос законность Ассамблеи и выпустить прокламацию о ее роспуске. Ковенантеры отказались разойтись, изгнали из своей среды епископов, отлучили некоторых из них от церкви и вскоре совсем упразднили епископат. Маркиз Гамильтон вернулся в Англию, ковенантеры же приступили к вербовке солдат, установлению налогов, строили одни укрепления и крепости, захватывали другие и срочно готовились к войне».
Уайтлок.[11]11
Уайтлок Балстрод (1605–1675) – юрист и политический деятель, член парламента, автор обширных мемуаров.
[Закрыть] «Мемуары»







