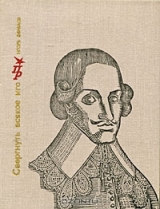
Текст книги "Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Пусть останется прежнее – «Невиновность и правда».
– Прекрасно. Я бы запустил что-нибудь поострее и потерял бы на этом половину серьезных читателей. А терять их для нас сейчас так же опасно, как ронять себя в мнении присяжных, когда речь идет о жизни и смерти. И право, что нынче происходит с вами, как не великая тяжба? Враги выступают с обвинениями и клеветой, вы произносите защитительную речь, но состав суда уже не ограничен палатами парламента. Весь народ! Да, весь народ должен выступить судьей в нашем споре. И он хочет знать ваше дело досконально. А дело ваше – вся ваша жизнь. Поэтому я настаиваю: пусть останется все, как есть, вплоть до записки вербовочного комитета о вашем переводе в кавалерию, хоть документ этот и не первостепенной важности.
– Ричард, Ричард… Я знал, что ваш язык умеет жалить, как оса, но не подозревал, что он может быть так медоточив. – Лилберн усмехался, качал головой, но при этом было заметно, как он польщен. – Берегитесь, я могу подвергнуть вашу терпимость и снисходительность ко мне такому испытанию, которого они не выдержат.
– Получите укус осы, только и всего.
– Вот прочтите, – Лилберн протянул ему пачку листов тем отбрасывающим, досланным до конца жестом, по которому близко знавшие его сразу опознавали изрядную степень волнения. – Я бы хотел это вставить вместо эпилога. Что скажете?
Овертон жадно схватил листки, придвинулся к окну. Крутой скат заснеженной крыши напротив лил в мансарду остатки дневного света. Две кошки крались по карнизу, время от времени заглядывая вниз, в уличную черноту. Лилберн зажег свечу, потом еще одну. Ему не было нужды всматриваться через плечо Овертона, обновлять в памяти текст – он сам переписал его прошлой ночью, когда решил, что будет печатать. Это было давнишнее письмо, переправленное им для Элизабет из Флитской тюрьмы. «…Дорогой и любимый друг, когда вы пишете, что при воспоминании обо мне слезы радости текут по вашим щекам…»
– Все же самое поразительное в этой истории – что вы остались в живых. Забаррикадироваться в собственной камере, выдерживать осаду! Вы бы могли составить полезное руководство для всех нынешних и будущих заключенных – «Как выжить в одиночке». А Принн напишет в ответ руководство к созданию абсолютно смертельной камеры.
– Ричард, не зубоскальте. Дело серьезное, и я хотел знать ваше мнение. Отрывок… письмо… С одной стороны, оно представляется уместным, но, с другой, барка и так перегружена. Этот тюк на двадцать страниц может окончательно пустить ее ко дну.
Овертон наконец соизволил заметить, в каком состоянии его собеседник, но сделал вид, что и сам он полон сомнений.
– Конечно, это продолжение саги о ваших страданиях. Вернее, начало, вставленное в конец. И это та самая тюрьма, в которой вы оказались, защищая нынешних своих гонителей. Это важный кусок вашей жизни, и я считаю, что он тоже должен быть представлен присяжным. Однако мне сдается, что главная причина, по которой вы хотите вставить письмо в памфлет, другая.
Он вдруг зашел за стол и упер оттуда в Лилберна прямой и острый взгляд из-под треугольничков бровей.
– Главная причина в том, что в вас уже нет такой возвышенной любви и такой пламенной веры, как раньше. Их вытеснила другая страсть, но вы по привычке цепляетесь за те, прежние, и хотите то ли воскресить их, то ли увековечить в печати, пока пресвитериане не покончили с вами окончательно. Вы уже не можете найти в душе былых чувств и решили по крайней мере воспользоваться былыми словами. Не вижу в этом ничего дурного.
– Замолчите! К дьяволу вашу хваленую проницательность, Ричард. Вы воображаете, что видите каждого человека насквозь, но уверяю вас – только на уровне своего носа. Дайте сюда письмо и не смейте никому рассказывать о нем.
Лилберн грохнул кулаками по столу и тут же выбросил их вперед растопыренными, требовательными пятернями. Но Овертон уже пятился к дверям, поспешно складывая листки и запихивая их за борт камзола.
– Не надо горячиться, подполковник, не надо спешить. Наберем, сделаем пробные оттиски, прикинем туда-сюда… – Он схватил шляпу и, наполовину исчезнув, докончил негромко и очень серьезно: – Единственное, чего я боюсь, – моя Мэри, прочитав, изгрызет меня за то, что ни разу в жизни не получила от меня подобного письма.
Март, 1646
«Даже если бы мне была предоставлена власть над всем миром, я бы согрешил, пытаясь в вопросах религии пойти дальше, нежели мягкое и дружеское разъяснение основ истины, пользы и добра. Пресвитериане оскорбляют всю нацию, утверждая, что дело реформации должно быть завершено за счет уменьшения человеческой способности суждения, за счет сведения религии к единообразию, в то время как главная задача состоит в уничтожении прелатско-папистского духа преследований за религиозные убеждения».
Уолвин. «Шепот в ухо мистера Эдвардса»
Апрель, 1646
«Сэр Томас Ферфакс осадил Оксфорд, но король, переодевшись, бежал оттуда. Некоторое время о нем ничего не было слышно; потом пришло известие, что он объявился в лагере шотландцев и отдал себя в их руки. Совершил ли он это под влиянием дурных советов, или судьба вела его – так или иначе, решение оказалось пагубным для него; ибо, если бы он отправился прямо в Лондон и внезапно предстал перед обеими палатами, он бы, по всей вероятности, погубил их – так велика к тому времени была распря между пресвитерианами и индепендентами. Но предпочтя сдаться на милость шотландцев, он явил перед всеми такое закоренелое озлобление против английского народа, что отвратил от себя многие сердца».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
11 июня, 1646
Лондон, Виндмилская таверна
– Итак, господа военные, вы все же упустили его.
– Помилуйте, мистер Уолвин, если мы чего и боялись, так лишь того, что он попадется нам в руки. Что бы мы стали с ним делать? Поставьте себя на наше место. Что? Опуститься перед ним на колени? Целовать руку? Спрашивать повелений? Или посадить на первый попавшийся корабль и отправить куда-нибудь подальше? Или просто засунуть за решетку, как обыкновенного преступника?
Уолвин не спеша потянулся к кувшину с пивом и при этом незаметно оглянулся на нижние столики – слышат там или нет. Они сидели у самого окна на возвышении, отгороженном от остального зала деревянным барьером с резными колонками. Таверна была полна в этот час, и косые столбы солнечного света все гуще наливались табачным дымом. Хозяйка стояла у дверей кухни и короткими кивками рассылала своих подручных туда, где терпение посетителей, как ей казалось, готово было истощиться. Кое-кто из завсегдатаев время от времени, не чинясь, сам подходил к стойке с пустой кружкой, продолжая орать что-то в сторону собеседников, оставшихся за столом. К общему гвалту добавлялись звуки арфы, которую безжалостно щипали в углу две подвыпившие дамы.
– Проиграв все на поле боя, его величество, несомненно, попытается теперь что-нибудь отыграть на нашей распре с пресвитерианами, – сказал Уолвин, запуская руку с платком под седеющие пряди волос, закрывавших полную шею. – Кстати, дорогой Уайльдман, вы тогда были еще при штабе. Расскажите, как там приняли известие.
– Что касается самого Ферфакса, то он человек замкнутый и не любит обнаруживать своих чувств. Остальные же открыто выражали озлобленность и тревогу. Больше всего боятся, что король примет Ковенант, возглавит шотландцев и заключит союз с пресвитерианами. Тогда можно смело сказать, что вся кровь в этой войне была пролита зря.
– Пресвитериане здесь больше всего боятся обратного союза короля с индепендентами. Нас обвиняют в том, что мы давно вели тайные переговоры с Оксфордом.
– Но это же клевета!
– Страх ослепляет. Кроме того, с чисто объективной точки зрения такой союз даже более вероятен. Индепенденты, отстаивая свободу вероисповедания, не покушаются по крайней мере на англиканскую веру короля.
– А командование армией?
– Этого не уступят ему ни те ни другие. Да и смешно было бы с его стороны настаивать на сем пункте, находясь фактически в плену у своих почтительных подданных. Другое дело – управление церковью. Похоже, что он крепко усвоил любимую поговорку своего отца: «Нет епископа – нет короля».
– Довольно трудно отстаивать епископов, когда у тебя не осталось ничего, кроме двух-трех гарнизонов, запертых в дальних крепостях.
– Вы недооцениваете силы роялистских настроений. Причем не только среди знати. Для многих темных и бедных людей возвращение монархии означает возвращение к тем временам, когда не было разорительных налогов на содержание армии. Даже в данную минуту мы с вами тратимся на армию, переплачивая вдвое за это пиво. Так что у короля есть достаточно оснований продолжать свои интриги, тянуть время и ждать, когда враги его истощат силы во взаимной борьбе.
Уолвин выговаривал слова не спеша, часто сопровождая их скользящей полуулыбкой, собиравшей у глаз пучки тонких морщин. Было заметно, что, несмотря на грозную серьезность обсуждавшихся вопросов, он получал большое удовольствие от самого процесса обсуждения их, от точного отливания мыслей в слова, так же как и от вкуса прохладного пива и жареных говяжьих мозгов под ореховым соусом, и от всей атмосферы оживленного возбуждения, царившей в таверне. Уайльдман, наоборот, явно тяготился его неспешной манерой и сам говорил подчеркнуто быстро и отрывисто, словно спеша наверстать время, упущенное собеседником. Пышные, до плеч, волосы и полувоенный наряд привлекали к нему любопытные взгляды.
Какой-то человек, в расстегнутой рубахе, с корзиной на плече, пробрался между столиками и что-то негромко сказал хозяйке. Та кивнула и, колыхаясь, повела его за собой к резному барьеру.
– Мистер Уолвин! Принесли ваших цыплят.
– Благодарю, мой друг, благодарю вас. Сколько я вам должен? Держите. И передайте хозяину, чтобы завтра прислал столько же.
Он принял через барьер корзину, затянутую мешковиной, и поставил ее под стол. Слабый писк добавился к общему шуму. Уолвин не глядя запустил вниз руку, извлек из корзины тонкую брошюру и подвинул ее через стол Уайльдману:
– Это то, что я вам обещал. Там три пачки по пятьдесят экземпляров. Было бы очень славно, если б вы могли дать крюк и завезти одну из них в полк Роберта Лилберна, брата автора. Цыплят съешьте за мое здоровье или выкиньте – как пожелаете.
Уайльдман раскрыл брошюру и, не таясь от зала, впился глазами в неряшливый шрифт.
– «Оправдание справедливого»? Я прочел уже по вашему совету «Невиновность и правда» и должен сказать, что, несмотря на рыхлость, оторваться невозможно. Прекрасный пример того, как искренняя страсть может заполнить провалы в логике.
– О, эта совсем в другом тоне. По виду – жалоба главе суда прошений. По сути – горький укор всей системе нашего судопроизводства. Дайте-ка на минуту… Где это?.. Ага, вот: «Когда я наблюдаю практику судов в Вестминстере, со всеми неясностями, увертками, латынью, трескучими адвокатами, волокитой, потайными входами и выходами, я склоняюсь к убеждению, милорд, что практика эта не от бога и его закона, не от закона природы и разума, даже не просто от разумных и честных людей, а от дьявола и от воли тиранов». Упростить законы, перевести их на английский язык, учредить в каждом графстве суды присяжных и выездные сессии высших судов – без всего этого мы действительно никогда не покончим с произволом местных властей.
– На что тогда нужны будут судейские, если всякий человек сможет сам читать, понимать и толковать законы? Попомните мое слово – на него поднимется шип, как из разворошенного змеюшника.
– Если б еще только это. Я вас прошу внимательно прочесть четырнадцатую страницу. Как о чем-то само собой разумеющемся там говорится о вещи, по чести говоря, нами забытой. Мы так поглощены борьбой против власти короля и епископов, за власть парламента, что забываем спросить себя, в чем же вообще источник всякой власти в государстве. И здесь это впервые написано черным по белому: источник всякой власти – народ.
В ходе разговора Уолвин еще раз запустил руку в корзину, извлек оттуда сразу примолкшего цыпленка и теперь кормил его с ладони хлебными крошками.
– То, что для короля подобная идея всегда будет выглядеть абсурдом, само собой разумеется. Но с грустью следует признать, что и большинство членов нашего парламента изумятся и вознегодуют, если им сказать, что они не повелители народа, а слуги его. Верхняя палата вообще сочтет это за оскорбление. Вы заметили, как мелочно-строптиво она ведет себя последние месяцы? Сколько уже биллей, проведенных индепендентами в общинах, было отклонено лордами. Если так пойдет и дальше, мирное устроение государства снова сделается невозможным.
Он хотел еще что-то сказать, но тут взгляд его упал на деревянную решетку. Две тонкие руки сжимали точеные столбики, и закинутое женское лицо смотрело на него сквозь них, беззвучно шевеля полными губами.
– Миссис Лилберн?! Боже правый, что случилось? Подождите минуту, я сейчас.
Он вскочил и с проворством, неожиданным для всей его неспешной манеры, сбежал по ступеням, взял Элизабет за талию и повел ее вверх. Она никак не могла отдышаться, виновато кивала и показывала рукой на горло. Платье ее сильно круглилось на животе, и пятна под скулами после бега проступали особенно резко. Хозяйка таверны незаметно оказалась рядом, помогла довести ее до столика.
– Господь всемогущий, что еще стряслось? – приговаривал Уолвин. – Только сначала сядьте и придите в себя. Это друг, мистер Уайльдман. Да-да, вы слышали о нем. Выпейте немного. Пиво слабое, оно не повредит ни вам, ни младенцу. Уж поверьте отцу одиннадцати детей, как-никак, у меня есть опыт в этих делах. Ну, итак? Мистер Лилберн, да? Что-нибудь с ним?
– Ну да, конечно… С кем еще в нашем доме может что-нибудь случиться? Только с ним. – Элизабет убирала выбившиеся из-под чепца волосы и одновременно отирала пот со лба, щек, висков. – Утром они явились втроем, словно за каким-то опасным бандитом, и подняли такой стук, что Джон-маленький проснулся на втором этаже, а я, скажу вам по чести, чуть не выкинула от испуга. Джон им открыл, я тоже выглянула с лестницы. Офицер и двое стражников, приказ от палаты лордов: явиться к их светлостям сегодня же, дать объяснения по поводу памфлета. Ну, ясное дело, этого самого, что юный джентльмен держит в руке.
– А им-то он чем не по нутру? – всплеснула руками хозяйка.
– Милая матушка Вильямс. – Уолвин для пущей убедительности притянул ее за локоть. – То место в памфлете, где говорится о зловредных капелланах графа Манчестера, затуманивших ясность его взгляда на подчиненных, кажется вам образцом деликатности после всего, что вам приходится слышать здесь в таверне. Для их сиятельств то же самое место – прямое оскорбление спикера их палаты, покушение на привилегии, призыв к бунту.
– Экие чувствительные.
– Вы же знаете Джона, – продолжала Элизабет. – Он может взорваться от любого пустяка, но тут он вел себя поразительно. Вежливый, спокойный тон, каждое слово взвешивает, как ювелир – золотой песок. «Да, сэр, я явлюсь, но мне бы не хотелось быть неверно понятым. Я соглашаюсь прийти не потому, что считаю такой вызов законным, а из личного уважения к лордам и из благодарности за оказанную мне помощь». Хороша помощь, скажу я вам! Пять лет они не могли взяться, наконец проголосовали вернуть нам штраф, наложенный еще Звездной палатой. Но до сих пор из двух тысяч фунтов мы не получили ни шиллинга.
– И офицер ушел?
– Да, поверил на слово и стражников своих увел. А Джон сразу же пошел писать письменную протестацию лордам. Он так теперь начитался Кока,[33]33
Кок Эдуард (1553–1634) – видный английский юрист и политический деятель, автор четырехтомного труда «Институции английских законов».
[Закрыть] что в знании законов может заткнуть за пояс самого верховного судью. И так убедительно он им там доказывает, что они не имеют права вызывать и судить никакого английского гражданина, а только самих себя, что я думала…
– Вы думали, что лорды поймут, застесняются и извинятся перед ним?
– Вроде бы я не очень похожа на наивную дурочку, мистер Уолвин. Я только хотела вам объяснить, насколько Джон владел собой. Ведь он не сразу отправился в Вестминстер, а зашел сначала домой к одному из членов палаты лордов, с которым они знакомы по армии, чтобы предупредить, что не будет отвечать на их вопросы. Что, если они хотят обвинить его в чем-то, пусть действуют через обычный суд, а так из их встречи ничего, кроме скандала, не выйдет. И вот он ушел из дома утром, а сейчас прибежал верный человек и сказал, что своими глазами видел, как его вводили в Ньюгейтскую тюрьму. Да нет, миссис Вильямс, я не плачу, но посудите сами, не обидно ли рожать и второго ребенка в тот момент, когда отец его за решеткой.
За время ее рассказа вокруг их столика собралось еще человек десять, теперь подходили новые, тихо спрашивали, что произошло. Тревожная весть быстро облетела таверну.
– Я вам скажу, миссис Лилберн, кого мне напоминает ваш муж. – Уолвин сделал паузу и обвел взглядом лица собравшихся. – Он похож на капитана самого отчаянного брандера, который при виде врага начиняет себя порохом и в одиночку летит на всех парусах прямо навстречу неприятельскому флоту.
– Причем нацеливается, как правило, на флагманский корабль, – вставил Уайльдман.
– Но поверьте, он не останется одинок. Честные люди сумеют оценить его мужество и придут на помощь. Помните, год назад его не смогли продержать в заключении больше двух месяцев. Теперь же его известность так возросла, что их сиятельства еще горько пожалеют о содеянном. Не будем терять времени. Мистер Уайльдман, вы проводите миссис Лилберн домой? Мне нужно срочно повидать кое-кого. Тогда, я думаю, уже завтра мы получим вести от нашего друга.
Он поднялся, кивнул головой двоим из собравшихся, приглашая их следовать за собой, и быстро пошел к дверям. Остальные расходились по залу, заметно посерьезнев и протрезвев, к ним кидались с расспросами. Уайльдман, держа в одной руке корзину, другой сводил Элизабет по ступеням. Забытый цыпленок с жалобным писком бродил по столу среди полупустых кружек, ореховый соус тянулся за ним по скатерти цепочкой извилистых следов.
Июнь, 1646
«Не будем же обвинять мистера Лилберна за избыток мужества, а скорее себя – за недостаток его. И если дело этого достойного джентльмена затрагивает лично меня, как любого человека, который сегодня ходит на свободе, а завтра окажется в Ньюгейте, коли это заблагорассудится палате лордов, то не затрагивает ли оно также и весь народ Англии? Не ставит ли оно его перед выбором: либо сунуть голову в это рабское ярмо, либо крепко задуматься о том, какими средствами быстрее и надежнее всего можно было бы освободить от него как себя, так и последующие поколения».
Уильям Уолвин. «Справедливый в цепях»
Июль, 1646
«Сэр, я свободнорожденный англичанин и, следовательно, не гожусь в рабы или вассалы их сиятельствам лордам. Я также человек, приверженный миру и покою, и желал бы не нарушать их, если только меня не вынудят к этому. Но бежать на цыпочках к свидетельскому барьеру их сиятельств было бы равнозначно для меня предательству своих прирожденных прав. Сэр, конечно, вы можете применить ко мне насилие и притащить меня из камеры на их суд силой, но я дружески советую вам со всей рассудительностью обдумать такой шаг, прежде чем вы решитесь совершить непоправимое».
Джон Лилберн. Из письма смотрителю Ньюгейтской тюрьмы
11 июля, 1646
Лондон, Ньюгейт и Вестминстер
Шляпа была как будто нарочно для такого случая. Тулья ее держалась на гибких пластинах из китового уса, которые быстро – хоть садись на нее, хоть спи на ней, хоть топчи ногами – возвращали ей правильную форму. Лилберн отвернулся лицом к стене, расстегнул камзол и запихал шляпу на живот, под пояс. Дверь камеры он задвинул столом еще с вечера и две ножки стола опустил в щербины в полу, которые сам же и расковырял железным гребнем. Нехитрый прием, но заставит их повозиться не меньше, чем в прошлый раз. Внутренний засов у него сняли еще в июне, когда им пришлось взламывать дверь, чтобы тащить его на первый допрос к лордам.
«Свобода свободному» проняла их тогда довольно крепко. На лицах было написано презрение, злоба, настороженность, но только не то высокомерное равнодушие, которое они так любили напускать на себя. Манчестер – тот вообще вел себя не как спикер палаты, а как бедная жертва клеветы, пришедшая просить защиты. Что ж, сегодня он тоже не собирался щадить их; они сами спровоцировали его на борьбу, теперь должны почувствовать, что кресла давно трясутся под ними.
– Мистер Лилберн! Эгей! Долговязый Джон, где ты там? Покажись-ка, тут кое-кто хочет перемолвиться с тобой словечком.
Он подошел к окну, выглянул во двор тюрьмы. Утренняя муть висела в воздухе, подсвеченная наверху солнцем, и двигалась так лениво, будто еще прикидывала, обернуться ли ей дождем или так и остаться влажной, постепенно разогреваемой духотой. Крик донесся снова. Лилберн понял, что кричат не со двора, а из окна напротив. Какой-то небритый проходимец махал ему просунутой сквозь решетку рукой, строил гримасы, посылал воздушные поцелуи. Потом лицо его пропало, за прутьями мелькнул женский чепец, и родной голос, полный ликования и испуга, прорезал сумрак двора:
– Джо-о-о-он!
– Лиз?! Что ты там делаешь, боже правый?
Лилберн вцепился в прутья и пытался растянуть их в стороны. Поврежденный глаз уже отказывался служить ему на таком расстоянии, да и здоровый неожиданно налился слезой, видел как сквозь туман.
– Я все-таки прошла, видишь! Они не пускают к тебе никого, но я узнала, кто сидит в камере напротив твоей, и назвалась женой этого джентльмена. У него их, похоже, так много, что одной больше, одной меньше – разница невелика.
– Элизабет, слушай…
– Это такой простой трюк, я даже не надеялась, что мне удастся.
– Элизабет, они все же потащат меня на свой фарсовый суд. Как раз сегодня. Ты успела очень вовремя.
– Боже, сегодня? Еще бы несколько дней! Ты не представляешь, какой крик поднялся в городе в твою защиту. Распечатана прокламация, тысячи подписей. Памфлеты так и летают из рук в руки, куда ни глянь. «Справедливый в цепях!», «Жемчужина в навозной куче!» Их рвут из рук. Жемчужина моя, ты сейчас знаменитей, чем генерал Ферфакс.
– Лиз, а ты-то как? Как младенец? Скоро ему на свет? Говори скорей, а то они, кажется, уже идут за мной.
– Джон, не бойся за меня. Это главное, что я хотела тебе сказать: за меня не бойся. Все помогают мне, да и у самой сейчас столько сил! Я прошу, и мне дается, прошу – и дается. И вместе с силами – радость. Кэтрин ругает меня бездушной за то, что я почти не плачу, но ты-то поймешь. Ты ведь сам мне рассказывал про такое. Будто вылетаешь из собственного тела, и только ветер свистит в ушах, и ничто-ничто уже не может тебя достать. Джон, я хотела, чтоб ты знал: я счастлива тобой. Слышишь? Все равно счастлива!
– Лиз! Мой столик трещит! Они сейчас ворвутся. Но я не дам им потачки. Так и скажи всем в Виндмилской таверне. Их власть держится лишь до тех пор, пока мы ее сносим. Пусть друзья шумят, пусть протестуют, но только пусть не просят пожалеть и помиловать бедного, израненного подполковника. Если они решатся сегодня…
Последние его слова были уже почти не слышны из-за грохота. Наконец ножки стола подломились, дверь распахнулась – он услышал топот сапог, почувствовал цепкие чужие пальцы на своих плечах, локтях, ногах. Его рванули, голубой квадрат зарешеченного окошка перевернулся в глазах, голова больно ударилась о пол.
Потом волокли по коридору.
Потом вниз по лестнице, на улицу, в повозку – лицом в солому.
Какая-то улюлюкающая компания, человек в сорок, окружила его и конвойных, двинулась рядом, впереди, сзади.
Сначала он не мог понять, куда его везут, не узнавал улиц. Почему не выезжают на Стрэнд? Почему эта отчаянная братия, которую уже кто-то подпоил с утра, вопит что-то о скучающем палаче и веревке под Тайбернскими воротами? Потом догадался: боятся. Боятся толпы, возмущения, свалки и везут в объезд, на Тайберн, словно обычного вора. Довольно громоздкий спектакль.
От соломы нестерпимо несло навозом и гнилью, голова гудела.
Он перевернулся на спину, вытер лицо, протянул поудобнее ноги. Какая-то старушка, высунувшись из окна верхнего этажа, грозила ему сухоньким кулачком. Полоскалось на веревках белье, голуби толклись на карнизах. Перемазанный сажей человек полз по черепице, держась за веревку, привязанную к каминной трубе. Стражник, сидевший на краю повозки, что-то сказал вознице, тот подобрал вожжи – колеса застучали реже. Видимо, подсудимого велено было доставить к определенному часу, не раньше, не позже; а то, чего доброго, у друзей его хватит наглости устроить сборище прямо под окнами Вестминстера.
Первое, что бросалось в глаза входящему в Расписную палату, было обитое алым бархатом пустое кресло, стоявшее посредине, сверкавшее золотым шитьем и шляпками мелких серебряных гвоздей, которые образовывали на спинке его витиеватый узор. Лилберн попытался вспомнить, видел ли он его месяц назад. Если нет, если это было новшеством последних дней, то, конечно, местоположение кресла должно было означать явную перемену политического ветра. Ибо предназначалось оно не для спикера (Манчестер уже сидел в глубине палаты, переговариваясь о чем-то с клерком), а для кого-то повыше. Но кто может быть выше спикера палаты лордов? Только король. Иными словами, все это должно было означать, что законного монарха ждут здесь с нетерпением и надеются на скорое возвращение его из шотландского плена.
Клерк отошел к столу, взял лист бумаги и тоном холодным, но вежливым предложил подсудимому приблизиться к свидетельскому барьеру и опуститься на колени для выслушивания предъявляемых ему обвинений.
Стало тихо.
Сарджент палаты дал знак стражникам. Двое из них, оставив алебарды товарищам, приблизились к Лилберну сзади на тот случай, если он начнет упираться, как в прошлый раз. Медленно, словно покоряясь неизбежному, он вышел вперед – те, обманутые его покорностью, остались на месте, – стал у барьера, спокойно расстегнул пуговицы камзола, достал шляпу и двумя руками нахлобучил ее на голову.
Клерк сморщился, как от зубной боли.
Кто-то из лордов вскочил, кто-то крикнул: «Негодяй!»
Манчестер качал головой словно бы с сожалением, пальцы теребили и тискали бахрому подлокотников. Стражники, опомнившись от замешательства, ринулись вперед, как кулачные бойцы, сбили с Лилберна шляпу, навалились в четыре руки. Он упирался, изворачивался, что-то кричал. Ноги его скользили по каменному полу. Еще двое стражников подоспели на помощь, кое-как прижали подсудимого к барьеру в нелепой, полусидячей, полусогнутой позе. Он затих, тяжело дыша, оскалившись в напряженной усмешке.
Торжественная атмосфера суда была безнадежно смята.
– Подполковник Лилберн! Вы обвиняетесь, первое: в печатании и распространении клеветнических измышлений, чернящих спикера верхней палаты, лорда Кимбольтона, графа Манчестера; второе: в недопустимом умалении власти и авторитета палаты лордов, выразившемся в отрицании за нею права суда над всяким подданным его величества; третье: в наглом и вызывающем поведении перед лицом означенной палаты; четвертое…
Клерк читал быстро, словно спеша воспользоваться минутным затишьем, не отрывая глаз от листа.
Лилберн извернулся, высвободил руки и заткнул уши пальцами. Стражники снова накинулись на него, опять началась возня, но Манчестер махнул рукой – «оставьте».
Губы клерка теперь шевелились беззвучно, но Лилберну не было нужды вслушиваться в произносимые фразы. Он знал заранее все пункты обвинения, знал их уже тогда, когда с пером в руке взвешивал слова своих памфлетов, сделавших этих людей его смертельными врагами. Обводя взглядом ряды лиц под роскошным балдахином, он подумал о том, насколько труднее была бы его задача, если б лорд Брук, живой, сидел среди них или Эссекс, одолев очередной приступ болезни, явился бы сюда, на суд. Но их не было, и это помогало ему ощущать свою правоту тем радостней и полнее, чем грубее с ним обращались, чем тяжелее нависал над ним приговор.
Клерк кончил, с поклоном передал лист спикеру. Манчестер рассеянно проглядел его и поднял взгляд на подсудимого.
Стражники отпустили Лилберна. Он встал, размялся, положил руки на барьер.
– Странный способ вы избрали, мистер Лилберн, для того чтобы показать нам, что с обвинением вы знакомы. Несмотря на ваше оскорбительное поведение, мы не собираемся подтверждать вашу клевету и нарушать английские законы. Поэтому предоставляю вам воспользоваться вашим правом: мы готовы выслушать все, что вы скажете в свою защиту.
Манчестер откинулся в кресле и забарабанил пальцами по подлокотнику. Потом снова склонился вперед и добавил:
– Хочу лишь заметить, что сказанное вами повлияет не только на вашу судьбу, но и на отношение верхней палаты к вашим друзьям и их идеям. Вы требуете терпимости? Не к тому ли, что вы нам только что продемонстрировали? Боюсь, что на такую терпимость нас не хватит.
Среди гобеленов, бархата, драпировок, ковров он чувствовал себя гораздо уверенней, чем посреди военного лагеря. Оливковое лицо, вобрав в себя красные отсветы тканей, выглядело еще моложе, восточные глаза чернели насмешливо. Пущенный им аргумент – «нельзя отпугивать верхнюю палату чрезмерными требованиями» – был довольно ходким последнее время и производил некоторое впечатление даже в Виндмилской таверне.
– Милорды! – Лилберн с облегчением услышал, что голос его звучит ровно, что ему по силам удерживать и скрывать то болезненное натяжение, которое накапливалось в его груди с самого утра. – Милорды, я достаточно ясно выразил свое отношение к этому суду. Вы не вправе судить никого, кроме самих себя. Вы или ваши предки получили свой титул от короля, вы не избраны народом и поэтому не можете обладать судебной властью ни над одним свободнорожденным англичанином. Это свое мнение я и раньше открыто высказывал некоторым из вас, и мы свободно обсуждали сей вопрос в дружеской беседе. Единственный правомочный судья в тяжбе между мной и вами – парламент.
– А мы, по-вашему, уже не имеем отношения к парламенту?
– Джентльмен, конечно, имеет в виду одну лишь палату общин, – усмехнулся клерк.
– Да, вы правы. И я надеюсь дожить до того дня, когда это будет ясно всякому так же, как и мне. Источник всякой власти – народ, и только тот, кто избран народом, может осуществлять над ним верховную власть.
– В каком-то из сочинений вы утверждали, что и король в свое время был посажен на трон народом, не так ли? – Манчестер делал вид, что говорит абсолютно серьезно. – В таком случае, можно ведь считать, что король, облекая нас полномочиями и титулом, просто делился с нами властью, полученной им от народа, то есть абсолютно законно, даже с вашей точки зрения. Не дает ли это нам некоторую надежду на оправдание в ваших глазах? Не согласитесь ли вы снять с нас хотя бы обвинение в узурпации?







