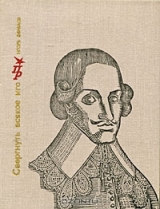
Текст книги "Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Март, 1641
«22-го числа начался этот громкий процесс графа Страффорда. Множество дурных деяний, совершенных им как в Ирландии, так и в Англии, день за днем вскрывались на суде. Но граф, будучи человеком красноречивым, строил свою защиту таким образом, чтобы отвести от себя удар обвинения в государственной измене; из преступлений же, вменявшихся ему в вину, он одни отрицал, другим находил извинения и смягчающие обстоятельства, упирая при этом главным образом на то, что, сколько бы преступлений человеку ни приписывалось, из них нельзя получить одной государственной измены простым складыванием их вместе, если ни одно из них само по себе не является изменническим деянием.
Мнения судей и зрителей разделились. Придворные кричали в пользу графа, и дамы, голоса которых довольно сильно могут порой влиять на дела государства, все, как один, были на его стороне».
Мэй. «История Долгого парламента»
26 апреля, 1641
Лондон, Пиккадилли
– Милорды! Чем же провинились добрые жители Севера, что только их оказалось необходимым лишить всех привилегий, гарантированных «Великой хартией вольностей» и «Петицией о праве»?[18]18
«Великая хартия вольностей» (1215) и «Петиция о праве» (1628) – документы, в которых королевская власть была вынуждена гарантировать неприкосновенность некоторых прав подданных.
[Закрыть] К чему все наши статуты и законы, если чуть не треть населения острова оказывается изъятой из-под их действия? Что такого натворили эти лояльные подданные его величества, что их оказалось возможным разорять штрафами и губить тюрьмой без всякой ссылки на закон, единственно «по благоусмотрению» королевских судей?
По напряженной тишине, царившей в Расписной палате, Хайд чувствовал, что красноречие его приносит плоды: слушатели заражались. Северный суд он ненавидел какой-то особой, личной ненавистью. Конференция между делегациями верхней и нижней палат подходила к концу.
– «Действовать по благоусмотрению»! Большинство судей понимало и понимает это как «делайте что хотите». В 1628 году, когда президентом Северного суда был граф Страффорд, инструкции раздвинули их полномочия еще далее. Было поставлено единственное ограничение: чтобы наказания и штрафы были не меньше предусмотренных законом. Больше – сколько угодно, лишь бы не меньше. «Благоусмотрение», как сыпучий песок, поглощало жизнь, свободу и имущество жителей, давало безграничный простор наглости, злобе, дурному настроению, личной вражде судейских чиновников. От имени палаты общин я обращаюсь к вашим светлостям с просьбой спасти население северных графств от подобного «благоусмотрения». Мы не видим никакой возможности реформировать Северный суд или заниматься исправлением судей. Его следует отменить целиком раз и навсегда и умолять его величество в будущем не создавать особых судов нигде в королевстве.
Председатель конференции пошептался со своими соседями и поднялся:
– Мистер Хайд! Пожелание нижней палаты будет завтра же передано палате лордов. Ваша речь была настолько убедительной, что не оставила у слышавших ее никаких сомнений в неправомочности Северного суда. Не согласились бы вы предоставить мне копию текста, чтобы завтра я мог повторить все слово в слово?
Польщенный Хайд поклонился и вложил пачку листов в протянутую руку.
Собрание начало расходиться.
На ступенях лестницы Хайду передали записку – граф Бедфорд просил его встретиться с ним в Пиккадилли для разговора по важному делу. За последние месяцы Хайд чувствовал, как постепенно менялось отношение к нему, как возрастало число людей, искавших его поддержки, помощи, совета, но только теперь ему стало ясно: он сделался заметной фигурой. Получить подобное приглашение от графа – это было уже настоящее признание.
Нынешней весной деревья зазеленели раньше обычного, и, соответственно, раньше начался сезон в Пиккадилли. Лужайки сделались пригодными для игры в шары еще до распускания листвы, но покуда деревья и кусты стояли голые, место было лишено своего главного достоинства – тенистых аллей, укромных, вымощенных гравием тропинок, где можно было встретиться как бы невзначай, свести вместе нужных людей, завязать знакомство. Даже те встречи, которые в частных домах выглядели бы как начало заговора, здесь могли состояться, не вызывая никаких подозрений. Члены парламента, судейские, лондонская знать, придворные из Уайтхолла и Сент-Джеймса после четырех часов дня стекались сюда со всех сторон и исчезали в зарослях шиповника и сирени, клубившихся по краю рощи.
Хайд нашел графа Бедфорда на верхней площадке. Шар, только что пущенный им, катился на желтевшие вдали кегли, и граф тянулся за ним всем телом, словно пытался еще сейчас поворотом плеча, силой взгляда изменить его направление. Было видно, как крайняя слева кегля пошатнулась, но устояла – удар был неважный.
– За зиму рука забывает все, чему ее учили глаза прошлым летом. Но к июлю я буду опять сбивать десятку с одного шара, вот увидите.
Они отошли от играющих и углубились в одну из аллей. Каждый раз при встрече с этим человеком Хайду приходилось напоминать себе, что перед ним – богатейший вельможа, строитель Ковентгардена, осушитель гигантских болот в восточных графствах, признанный закулисный лидер обеих палат парламента. Если подобная простота манер и была искусственной, то это было искусство высокого класса.
– Мистер Хайд, нужно ли мне тратить время на комплименты и рассказывать, как высоко я ценю вашу парламентскую деятельность? Думаю, вы ясно увидите это из сути дела, с которым я решил к вам обратиться. Вашего имени нет в списке тех, кто голосовал против билля, осуждающего графа Страффорда, это мне известно. И все же я позволю себе спросить вас: верите ли вы, что этот билль может быть утвержден палатой лордов и королем?
– Я предвижу много серьезных затруднений, тем более что…
– Нет, бог с ними, с затруднениями. Затруднения – это то, что так или иначе можно преодолеть. Но можете ли вы представить, чтобы король дал согласие на казнь человека, который – что бы мы о нем ни думали – двенадцать лет был вернейшим слугой короны, довереннейшим лицом, безотказным исполнителем любых повелений?
– Вы считаете, что обвинения, выдвинутые на суде против лорда-лейтенанта, не были доказаны?
– Дело не во мне. Для меня его вина была ясна и до суда. Лично я готов голосовать в палате лордов за билль об осуждении. Но остальные? Но король? Мы все передеремся на этом проклятом деле. Все, чего нам пока удалось достигнуть, держалось на взаимном согласии и солидарности верхней и нижней палат. Если мы не сумеем теперь обогнуть эту скалу, если дадим нашему кораблю налететь на нее, она расколет нас на две части и пустит ко дну.
– С вами говорил сам король?
Бедфорд на минуту остановился и пристально посмотрел Хайду в лицо.
– Да. И я не скрываю этого. Ибо аргументы его величества меня убедили. Он признает, что Страффорд во многих случаях действовал недопустимыми средствами. Что страсть часто туманит его ум и выплескивается на окружающих так, что это вызывает всеобщую ненависть и озлобление. Он согласен и с тем, что ни личные качества, ни репутация графа не позволяют в будущем предоставить ему какую бы то ни было должность. Даже должность шерифа. Но он не может признать, что в действиях или намерениях лорда-лейтенанта содержалось то, что можно было бы назвать государственной изменой. Его величество готов санкционировать ссылку, конфискацию, пожизненное заключение. Но смертного приговора он не подпишет никогда.
– Что же вы предлагаете?
– Мы должны убедить наших – нет, скорее, моих – друзей в обеих палатах убавить пыл. В настоящий момент кровожадность ни к чему хорошему не приведет. Они не вправе требовать от короля того, чего никто из них на его месте не мог бы совершить.
– И вы хотите, чтобы я убедил их?
– Да, да, именно вы. На меня уже косятся, считают чуть ли не ренегатом. Вы же с самого начала держались в стороне от всяких партий и заслужили репутацию человека беспристрастного. Вы голосовали за осуждение Страффорда. Вы ему не родственник, не друг, вы ступили на политическое поприще уже тогда, когда он был в Ирландии, значит, личные мотивы исключаются. Кроме того, вы красноречивы, честны, настойчивы, умны. Умны настолько, что мне даже нет нужды извиняться перед вами за эту необходимую лесть.
– Признаюсь, я разделяю ваши опасения. Я мог бы попробовать начать прямо с головы.
– С мистера Пима? Нет, с ним обещал поговорить Холлес.
– Как? Неужели и Холлеса король надеется сделать своим союзником?
– Конечно, он понимает, что Холлес не забыл, как его бросили без суда в тюрьму за участие в оппозиции. Но, во-первых, с тех пор прошло десять лет. Во-вторых, Страффорд все-таки женат на его сестре. Король же очень верит в силу родственных уз. Нет, для вас я имел в виду другого собеседника. Вон того.
И он кивком головы указал в просвет между кустами на нижней аллее. Высокий человек в ярко-черном камзоле отделился как раз от группы беседовавших там и двинулся по пологому склону, отводя ветви чубуком своей трубки.
– Графа Эссекса? Вы сразу хотите послать меня на штурм главного бастиона.
– Сознаюсь вам, я убил вчера на него полдня – и совершенно безрезультатно.
– Придворные сплетники утверждают, что он мечтает сменить Страффорда на посту главнокомандующего.
– Логика прохвостов. Они не представляют себе, что человеком могут двигать иные мотивы, кроме корыстных. Но вы – вы представляете, и поэтому у меня есть надежда, что граф не останется глух к вашим увещеваниям.
– После того, как не стал слушать ваших?
– У меня нет того аргумента, который есть у вас. Раскол нижней палаты – вот единственное, чем можно испугать Эссекса. Он свято верит в парламент. Если вы докажете ему, что общины из-за дела Страффорда вот-вот распадутся на фракции и начнут междоусобную грызню, он поколеблется. Мне он уже не верит, но вам… Сейчас он появится из-за поворота. Я оставляю вас одного и заклинаю: найдите те слова, которых не удалось найти мне.
Бедфорд сжал его локоть и свернул на боковую тропинку. Парк в этом месте был особенно тенистым. Выстриженная стена жимолости поднималась выше человеческого роста, а над ней еще нависали сверху кроны дубов. Коричневая, по-весеннему мелкая и мясистая листва их блестела на солнце, сотрясалась от птичьей толкотни.
– Мистер Хайд, поздравляю вас. Своей превосходной речью вы вбили сегодня еще один гвоздь в эшафот лорда Уэнтворта. Или, как его принято нынче называть, графа Страффорда.
Казалось, только глазам Эссекса было разрешено нарушать величие его осанки и манер – быстро двигаться из стороны в сторону, смеяться, блестеть.
– Честно говоря, это не входило в мои намерения, милорд.
– В том-то и парадокс, в том-то и ирония. Человек и в мыслях не держал обидеть графа, он только хотел бросить свой честный камень в Северный суд, а попал в Страффорда. Другие кидают во взяточников, в ирландские дела, в «корабельные деньги» – и снова попадают в Страффорда. Какой-то вездесущий граф.
– Действительно, его влияние было непомерным. Но король обещает отныне лишить его всех должностей, если ему будет оставлена жизнь. Об этом я и хотел говорить с вами.
– Вот как? А я наивно думал, что мы столкнулись с вами случайно. Впрочем, ради бога. Из уважения к вам я готов выслушать все сначала.
Глаза его скользнули вниз на разгоревшийся в трубке огонь, потом проводили в небо столбик табачного дыма. Хайд начал говорить, но сразу почувствовал, как горячие доводы Бедфорда тускнеют и вянут в его пересказе. От воодушевления, которым была проникнута утренняя речь, не осталось и следа.
– Совесть короля? – перебил его Эссекс. – Ему придется согласовывать ее впредь с мнением обеих палат парламента.
– Но, милорд, вы не можете не признать, что большинство деяний, вменяемых Страффорду в вину, совершались им по прямому повелению его величества или из искреннего желания исполнить их наилучшим образом. Как же может теперь король отправить такого человека на казнь? Это было бы все равно, что казнить себя самого.
– Мистер Хайд! Вам не хуже меня известно, что английский король не бывает не прав. Если в управлении государством случаются какие-то злоупотребления, если вольности подданных нарушаются, а власть монарха вырастает выше власти закона, виновны в этом его советники и министры – только они! И они должны всякий раз нести заслуженную кару. Они должны бояться гнева парламента больше гнева короля.
– Пусть так, согласен. Но зачем непременно казнь? Ссылка, изгнание, пожизненное заключение – все это тоже весьма тяжкие наказания. И они точно так же освобождают все ключевые посты в государстве для людей более достойных и послушных закону.
Эссекс полоснул его гневным взглядом, но сдержался:
– Я пропускаю ваш намек мимо ушей, мистер Хайд. Он не достоин вас. Я только хочу обратить ваше внимание на тот странный факт, что совесть короля, столь бурно протестующая против казни министра Страффорда, почему-то с большой охотой готова примириться с пожизненным заключением невиновного. Вы не задумывались – почему? Да потому, что король прекрасно знает: когда казна будет наполнена, парламент распущен, а шотландцы уберутся восвояси, он всегда найдет повод отменить свой приговор и вернуть графу все его должности и титулы. И тогда уже полетят наши головы – одна за другой. Король расправится с нами, как расправился с Элиотом:[19]19
Элиот Джон (1592–1632) – лидер парламентской оппозиции, посаженный Карлом I в Тауэр и умерший там от чахотки.
[Закрыть] обдуманно, хладнокровно, без шума. Да, он прекрасно понимает, что лишь смертный приговор отменить будет невозможно. Потому-то он так и уперся.
– Король был очень несправедлив к вам во время последних кампаний. Ваши действия были безупречны, это признают даже враги.
– А-а, оставьте. К чему ворошить прошлое? Достаточно взглянуть на то, что творится сейчас. Утром король ведет неофициальные переговоры с лидерами парламента, взывает к законам, к правам обвиняемого, а вечером в компании авантюристов планирует побег Страффорда из Тауэра. На словах – привилегии парламента, неприкосновенность его членов, а на деле – вербовка отрядов, таверны, набитые офицерами, какие-то тайные гонцы, шныряющие между армией и спальней королевы. Нужно быть слепым, чтобы не видеть всего этого.
Они теперь стояли лицом к лицу, и Эссекс, рассыпая искры из трубки, постепенно наступал на Хайда, теснил его к шелестящей зеленой стене.

– Ну а вы? – Хайд перестал пятиться и упрямо нагнул голову. – Вы не хотите оглянуться на то, что у вас за спиной? На эти толпы, собирающиеся каждый день на улицах Лондона? На этих молодцов со сжатыми кулаками, бычьим взглядом и ножом за поясом? Это вас не пугает? Недавно кто-то пустил по рукам список членов нижней палаты, голосовавших против осуждения Страффорда. Теперь им страшно появиться на улице. Толпа преследует их свистом, угрозами, оскорблениями, бьет стекла в их домах. «Страффордисты! Предатели отечества!» Может ли быть более чудовищное нарушение привилегий парламентской неприкосновенности?
– Страсти толпы – это стихия. Сегодня она неожиданно разбушевалась, завтра так же неожиданно стихнет. В отличие от воли властолюбца, она не обладает целеустремленной последовательностью. Ею, по крайней мере, можно управлять.
– Только до определенной черты, милорд. Дальше она вырвется из берегов, и все мы, продолжая наши споры и распри, погибнем в огне пожара.
– Мистер Хайд, не кажется ли вам, что из страха перед безумством толпы вы уже готовы отдать деспотизму все, что нам удалось вырвать у него за последние полгода? Трусость и свобода – вещи несовместимые.
– Зато упрямство и близорукость – вещи настолько же совместимые, насколько и гибельные.
Последние слова Хайд почти прокричал.
Лица обоих покрылись пятнами, зрачки чернели в прищуренных глазах, как амбразуры. Удары шаров и голоса играющих глохли в вечернем воздухе, тонули в шуме листвы. Эссекс первый совладал с собой, гордо откинул голову – волосы легли на кружево воротника, рука сделала отстраняющий жест.
– Оставим этот разговор. Я с самого начала знал, что он ни к чему не приведет. Вы видите главную угрозу существованию закона и парламента в вольностях разошедшейся черни, я – в союзе Страффорда с королем. Время покажет, кто из нас прав. Прощайте. – Он повернулся, отошел на несколько шагов, потом оглянулся и сказал, указывая чубуком в сторону верхней площадки: – И передайте тем, кто вас послал, мои слова: лишь смертный приговор отменить невозможно. Даже король не властен воскресить мертвеца.
Апрель, 1641
«Страффорд! Несчастное положение, в которое ввергли вас недоразумения и смуты последнего времени, столь серьезно, что я вынужден оставить всякую мысль о возможности использовать вас впредь на своей службе; однако честь и совесть требуют, чтобы именно сейчас, в разгаре ваших бед, я заверил вас словом короля в том, что ни жизнь ваша, ни доброе имя не потерпят никакого ущерба. По справедливости, это слишком ничтожная награда слуге, показавшему себя столь способным и преданным; и хотя нынешние времена не позволяют мне сделать для вас большего, ничто не помешает мне оставаться
вашим неизменным, верным другом, королем Карлом».
2 мая, 1641
«Капитан Биллингслей с двумя сотнями солдат явился в Тауэр с приказом от короля впустить его в крепость якобы для усиления гарнизона; но комендант, подозревая, что они явились освободить графа Страффорда, отказался открыть им ворота. Впоследствии комендант признался (и граф подтвердил это), что ему предлагали две тысячи фунтов за то, чтобы он не препятствовал побегу арестованного на нанятом корабле, уже стоявшем на Темзе, но что он остался верен своим соотечественникам и друзьям в парламенте».
Уайтлок. «Мемуары»
3 мая, 1641
«Город потерял терпение, и около пяти тысяч горожан явились к Вестминстеру, криком требуя осуждения Страффорда; они накидывались на лордов, жалуясь на застой в делах и упадок торговли, вызванные оттяжкой приговора. Лорды говорили с ними примирительно и обещали обо всем сообщить королю. Но на следующий день толпа явилась снова с теми же жалобами; слухи о попытке устроить бегство графа из тюрьмы взволновали народ еще больше, и поэтому несколько лордов было послано в Тауэр на помощь коменданту».
Мэй. «История Долгого парламента»
Maй, 1641
«Мистер Пим сообщил палате общин, что у него есть достоверные известия о существовании самого страшного заговора против парламента, который когда-либо имел место, и что в нем замешаны весьма высокие особы при дворе; что несколько офицеров вели в Лондоне вербовку солдат якобы для службы в Португалии, но португальский посол, будучи спрошен об этом деле, заявил, что ему об этом ничего не известно и никому он таких полномочий не давал. Был назначен комитет для расследования, но те, кто занимался вербовкой солдат, решили не вверять себя судьям, метода которых состояла в том, чтобы сначала арестовать, а потом на досуге расследовать, и сочли за лучшее бежать во Францию.
Известия об их бегстве придали большой вес и убедительность сообщению мистера Пима и привели все умы в такое смятение, что сильно облегчили прохождение билля, осуждающего Страффорда, через парламент.
И вот в полдень 8 мая, когда из 80 лордов, принимавших участие в суде над Страффордом, в палате присутствовало лишь 46, а добрый народ под окнами криками требовал правосудия, билль был поставлен на голосование и прошел при одиннадцати голосах против, после чего оставалось получить лишь согласие короля».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
9 мая, 1641
Лондон, Уайтхолл
Толпа под окнами дворца то притихала, затаивалась во мраке, то начинала бурлить, накатываясь на стены, то разражалась диким криком, то вновь отливала в глубину улицы и потом снова сгущалась к главным дверям. Подсвеченный снизу дым факелов заполнял безветренный воздух, копотью оседал на лица. Иногда казалось, что люди движутся по кругу, сменяют друг друга бесконечной чередой, что весь Лондон стекается сюда из темноты, окружая дворец многотысячной удушающей спиралью.
Джанноти поднялся и в сотый раз пошел вдоль баррикады, устроенной в вестибюле. Никто из солдат не спал, некоторые молились. Он подумал, что скамьи, которыми была подперта парадная дверь, не так уж прочны, и приказал укрепить завал мешками с землей. Мушкетов было в избытке – по три на человека, но вряд ли солдаты успеют дать второй залп, если нападающие ворвутся разом во все окна. На галерее у него была расставлена вторая линия стрелков – двадцать человек, половина всего отряда. Со стороны реки дворец охраняли конногвардейцы, человек пятьдесят. Итого, если считать с придворными, с теми, кто не побоится ввязаться в драку, сотни полторы защитников. Что ж, при удаче можно продержаться часа два, а потом…
– Синьор Джанноти! – старый Верни, личный знаменосец короля, неслышно появился через боковую дверь и поманил его пальцем. – Во внутренних покоях капеллан королевы принимает тех, кто хочет исповедаться. Вы ведь католик. Я мог бы подменить вас на полчаса.
Растроганный Джанноти пожал руку старика и покачал головой.
– До сих пор, встречаясь со смертью, я делал вид, будто не готов к ней. Мне кажется, это действует на нее отталкивающе. Может, отпугнет и на сей раз.
– Во дворце никто не спит. Пишут завещания, молятся, зашивают бриллианты.
– У меня нет бриллиантов, а что касается завещания… Пусть мои кредиторы перегрызутся за ту малость, что останется после меня.
– Вы не женаты?
– Нет.
– У меня четверо сыновей. За старшего я спокоен, но второй, Томас… Я боюсь, что после моей смерти братья махнут на него рукой и дадут окончательно опуститься. Сейчас мы отправили его в Америку, но вряд ли из этого выйдет толк. В письмах он только требует присылки денег и джина.
– Ваш старший сын заседает в палате общин?
– Да. От Эйлсбери. – Верни вздохнул и развел руками. – Я виделся с ним вчера. Он сказал, что слухи о нападении французского флота на острова в Ла-Манше не подтвердились. Но народу этого не докажешь. Люди так озлоблены, темны. Они убеждены, что ее величество призвала своих соотечественников вторгнуться в Англию.
Будто в подтверждение его слов, толпа за окнами взревела, прихлынула к дверям; тысячи глоток, словно повинуясь невидимому дирижеру, разом издали свой клич: «Правосудия! Правосудия!» Потом запели псалом. Солдаты схватились за оружие, заняли свои места. Верни взял свободный мушкет, присоединился к ним и простоял за баррикадой до тех пор, пока всплеск ярости на улице не утих.
Утром по Темзе один за другим начали прибывать члены Тайного совета, вызванные королем. Проходя по галерее, они невольно старались держаться подальше от окон. Пронесся слух, что королева делала приготовления к бегству, намереваясь достичь с детьми Портсмута и оттуда отплыть во Францию, и что французскому послу с трудом удалось отговорить ее от этого безумного шага. Кое-кто намекал на привязанность ее величества к одному из бежавших заговорщиков. Не это ли заставляло ее так страстно стремиться за Ла-Манш? Говорили также, что сам Страффорд прислал королю из Тауэра письмо, в котором освобождал его от данного слова и просил подписать роковой билль, и что новый комендант, ярый пресвитерианин, грозил в случае оттяжки казнить графа, не дожидаясь приказа.
При свете дня толпа осмелела еще больше. Даже из окон второго этажа нельзя было увидеть, где кончалось море голов. Многие были вооружены палашами, кое-где торчали наконечники пик. Некоторые купцы из Сити явились в латах, другие привели с собой трубачей и барабанщиков.
– Проклятье! Голову даю на отсечение, что это опять он! – Джанноти схватил за руку стоявшего рядом Верни. – Видите, тот высокий, без шляпы?
– Который произносит речь?
– Видимо, судьба решила рано или поздно столкнуть нас лоб в лоб. Некий Джон Лилберн. Он способен произносить речи даже с головой, зажатой в колодки.
– Я слышал о нем.
– Господь всемогущий, если они пойдут на приступ, сделай так, чтобы он ворвался среди первых. Надеюсь, я не промахнусь. Похоже, и компанию он подобрал под стать себе.
– Эпрентисы, ученики гильдий. По большей части они из младших сыновей сквайров и купцов. Наследства не ждут, поэтому привыкли полагаться только на себя. Я тоже подумывал, не отдать ли мне Томаса в эпрентисы в какой-нибудь торговый дом. Но, честно говоря, его нельзя подпускать к большим деньгам.
Они услышали за спиной детские голоса, обернулись и оба склонились в поклоне. Королева в сопровождении младших детей шла к королю. Девятилетняя Мэри смотрела прямо перед собой, старалась держаться как взрослая, остальные со смесью страха и любопытства вслушивались в гул, шедший от окон.
– Ужасно, – вздохнул Верни. – Что сейчас должно твориться в сердце короля? Я не могу этого представить. Господи, избави нас от подобного искушения.
– Скажите… – Джанноти замялся, подбирая слова. – Быть может, мы говорим в последний раз. Лично вы… если бы король спросил вас, что ему делать?..
– Судьи, советники – все советуют ему уступить. Боюсь, что на карту поставлена даже жизнь ее величества. Народ крайне озлоблен против нее. Честно говоря, мне тоже не хотелось бы умирать за графа Страффорда. Но сказать своему королю: возьмите этот грех на душу, пошлите его на эшафот? Нет, язык не повернется.
Час спустя королева прошла обратно к себе с лицом мокрым от слез. Дети не плакали, но шли тесно прижавшись друг к другу, очень серьезные и притихшие. Еще час спустя король отпустил советников и призвал к себе епископов. Один из советников, проходя мимо Джанноти, встретился с ним взглядом и молча покачал головой.
К пяти часам дня солнце перешло на западную сторону и ударило разом во все окна. Начнись штурм сейчас, ослепленные защитники даже не увидят, куда стрелять. В вестибюле и на галерее стало нестерпимо душно, но никто не решался открыть хотя бы одно окно и впустить вместе со струей свежего воздуха рев труб, крики, барабанную дробь. Казалось, что толпа не знает усталости, что с каждым часом ее решимость и возбуждение только нарастают.
Неясный шум раздался за боковой дверью. Джанноти распахнул ее и столкнулся с человеком в измазанной одежде, бившимся в руках двух конногвардейцев. Его лицо было покрыто засохшей грязью, и Джанноти едва узнал знакомого артиллерийского офицера из портсмутского гарнизона. Куртка лодочника разорвалась на груди, открыла кусок алой перевязи.
– Отпустите его!
Освобожденный артиллерист кинулся к Джанноти и, припав к его уху, начал что-то быстро шептать пересохшим ртом. Джанноти кивал, мрачнел, рука его бессознательно отмеривала эфес шпаги.
– Я немедленно доложу его величеству.
Он стремительно взбежал наверх и свернул к покоям короля. В суматохе, царившей во дворце, было невозможно отыскать кого-нибудь из придворных, имевших право доклада. Даже Верни куда-то запропастился. Пришлось отстранить часовых и войти в кабинет самому.
Шум почти не проникал сюда, но духота висела такая же как и повсюду. Человек в епископском облачении, стоя спиной к дверям, протягивал руки перед собой и говорил просящим, срывающимся голосом:
– …и если судьи и лорды, в великой своей мудрости, опытности и знании законов, признали графа виновным, совесть короля оказывается тем самым избавлена от малейшего угрызения. Грех падает на судей, если они ошибаются, и только на них, король же…
– Грех состоит в том, чтобы поступить против своей совести, – вмешался другой епископ. – А его величество ясно объявил нам: совесть говорит ему – граф не виновен в измене. И вы, епископ Вильямс, в глубине души не можете не знать, что все толки об измене – вздор и клевета.
Вильямс беспомощно развел руками, сел, и тогда наконец Джанноти увидел короля. Король тоже увидел его, и на минуту выражение тоски, растерянности и бесконечной усталости на его лице сменилось подобием надежды. Он поспешно поднялся и сделал несколько шагов ему навстречу:
– Капитан? Вы принесли нам какие-нибудь известия?
Его обычное заикание в минуты волнения делалось особенно заметным, Джанноти приблизился и, стараясь говорить так, чтобы слышал только король, произнес:
– Очень печально, государь. Лорд Горинг предал вас и сдал Портсмут парламентским комиссарам. Крепость, арсеналы, порт – все. Граф Манчестер принял командование от имени парламента.
Король прикрыл глаза и едва заметно отшатнулся. Веки его, красные от бессонницы, выглядели такими тонкими и прозрачными, что, казалось, не могли уже заслонять от света расширенные ужасом зрачки.
– Известие достоверное?
– Увы, да. Офицер, привезший его, видел вчера все собственными глазами. Я могу привести его.
– Не надо. Ступайте… И не говорите пока никому.
Джанноти, пятясь и избегая тревожных взглядов епископов, вышел из кабинета.
К вечеру людское море под окнами дворца стало еще гуще, плотнее; словно прежнее движение по кругу прекратилось, и началось стекание к одной точке – к дверям. В криках теперь звучал не только гнев и возмущение – к ним примешивалась еще и ясно слышимая нота торжества, упоения собственной силой. Солдаты, изнуренные духотой, ожиданием, безнадежностью, все еще стояли на своих местах, но оружие их выглядело почти неуместным, лишь по ошибке оказавшимся в руках этих усталых, утративших волю людей. Вторые сутки несли они караул, и сменить их было некому. Они были побеждены уже до боя, раздавлены мощью и грохотом накатывавшегося на них вала.
Наконец, около девяти часов вечера, епископы оставили кабинет короля и появились на галерее. Все, кто был в вестибюле и наверху, замерли, повернув к ним головы, ища на лицах ответа на свой единственный вопрос. Вильямс, епископ линкольнский, отделился от остальных и жестом показал, что просит открыть окно. Никто не решался. Джанноти первым пришел в себя и, взявшись за фигурные ручки – вид огненной реки внизу ослепил его, – распахнул обе створки.
Улица взревела единым коротким криком и замерла.
Епископ, прошептав поспешную молитву, ринулся к окну и стал в нем, раскинув рукава своей мантии.
– Честные лондонцы! Его величество по своей несказанной милости, по любви к законам и справедливости, по преданности благу подданных своих повелел мне объявить… – искушенный оратор, он не мог упустить момента этой завороженности, не мог не затянуть паузу до невыносимого напряжения, – …объявить, что он согласен на билль, осуждающий графа Страффорда!
Казалось – не сам епископ отпрыгнул от окна, но ликующий вопль, взлетевший к темному небу, слился в тугую волну и мощно толкнул его в грудь. Он пытался что-то еще говорить обступившим его придворным, но слова тонули в оглушительном реве труб, криках, пальбе. Выражение бесконечного облегчения можно было прочесть на многих лицах, некоторые, не в силах сдержать счастливых улыбок, отворачивались. Один солдат плакал, утирая слезы рукавом куртки. Джанноти, поймав на себе презрительный взгляд артиллериста из Портсмута, понял, что и он не сумел сохранить подобающую мину. Старый Верни, печально качая головой и вздыхая, протиснулся к окну, прикрыл его и, ни на кого не глядя, отправился во внутренние покои дворца.







