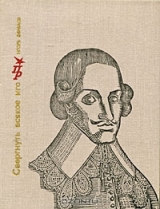
Текст книги "Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
11 ноября 1638
Лондон, Флитская тюрьма
О том, что происходило за стенами тюрьмы, он не знал почти ничего. Летом ему иногда удавалось подслушать обрывки разговоров заключенных, бродивших во дворе, но и в них лишь изредка мелькали обрывки городских новостей. Свары из-за грошовой милостыни, приносимой сердобольными лондонцами в общий ящик, хриплое пение, брань, дешевые шутки… Большинство сидело за долги и ничем, кроме денег, вина, еды, не интересовалось.
Один раз старшему брату, Роберту, все же разрешили навестить его. Они вышли вместе во двор, сам Лилберн еле передвигал ноги и почти ничего не видел – болезнь глаз началась уже тогда. Роберт нес его на себе и срывающимся голосом говорил только об одном: о горе и возмущении отца, о том, что он должен пожалеть его и обещать вести себя более смирно. У отца была крупная тяжба за земли в Дареме, он угрохал на нее уже больше тысячи фунтов, и дело должно было как раз слушаться в Тайном совете, когда сын все погубил ему, попав в руки Звездной палаты.
Летом он помирал от жары. Он начал ненавидеть солнечные дни, эти ясные утра, поднимавшие волну испарений от речушки, протекавшей под стенами. Два месяца он не мог разуться из-за кандалов на ногах. Когда же ему удалось разрезать сапоги, он чуть не задохся от вони. Мухи слетались на него, покрывали раны черной шевелящейся повязкой. Он мечтал о дожде, о прохладе, о наступлении зимы. Зима наконец пришла, и теперь он не мог решить, что страшнее. Пытка жарой была мучительна, но при ней наступало какое-то расслабление, отупелость, полузабытье. Холод забыть было невозможно, он сидел в теле, в костях, острый, как стекло, заставлял помнить о себе каждую секунду, не давал отвлечься ни на что другое, и это было унизительно. Три пары чулок не спасали от ощущения мерзлого железа на щиколотках. Несмотря на холод, он чувствовал, что воняет так же, как летом, потому что горячей воды ему не давали. Клопы сползались на него со всей камеры.
Он лежал на кровати под одеялом и пытался руками растопить ледяную пробку в горлышке бутылки с водой. Небо за окном понемногу очищалось от облаков, синело. Возможно, сегодня ему удастся наконец закончить письмо, над которым он трудился уже неделю. Он никогда не видел той, к кому писал, но, как всегда, при одной мысли о ней горячая волна радости плеснула в нем от сердца к глазам. Он поспешно откинул одеяло, глотнул ледяной воды и спустил ноги с кровати.
Кандалы глухо звякнули о каменный пол.
Он лег животом на камни, подполз под кровать и, упершись локтями и коленями, приподнял край ее на несколько дюймов. В одной из ножек была невидимая снаружи полость, в которой он прятал пузырек с чернилами. Старый Ховс показал ему этот тайник, а он – он отплатил ему черной неблагодарностью. Конечно, он писал «Дело зверя» в лихорадке, на следующий же день после бичевания и позорного столба. И все же можно было сообразить, что не следует рассказывать, как тюремный привратник пронес ему в камеру те книжки, которые он потом разбрасывал в толпу. Тем более называть его по имени. Беднягу Ховса выгнали сразу же после того, как «Дело зверя» было напечатано. Каждый раз, доставая пузырек с чернилами, он мысленно каялся перед добрым стариком.
Зато тайник для писчих принадлежностей он придумал сам. Под комодом была узкая щель, и, если засунуть туда руку, можно было снизу хлебным мякишем приклеить ко днищу несколько листков бумаги и за них спрятать перо. И кровать, и комод двигали при всех обысках, но так ничего и не нашли.
Он достал свои листки и, пока чернила оттаивали в кулаке, перечитывал написанное.
«Дорогой и любимый друг, ваше сладостное письмо, которое я получил, мне удалось прочесть с большим трудом, ибо зрение мое настолько ослабло, а на некоторое время я вообще утратил его, так что не мог читать даже Библию. Не могу выразить, как освежена была им душа моя, как возросла благодаря ему та радость, которая постоянно живет во мне. Оно стало самым дорогим подарком из всего, что доходило до меня сюда, в эту темную камеру».
Он вернулся глазами к слову «постоянно» и задумался. Ему хотелось, чтобы письмо было предельно правдивым, и он начал мелочно допытываться у собственной памяти – всегда ли он знал в себе эту радость? А долгие часы полного отупения и нежелания жить? А вспышки отчаяния? А муки голода, а боль в руках, а гноящаяся спина? Нет, честнее было бы сказать, что то состояние пьянящего душу восторга, ощущение своей безусловной избранности и предназначенности чему-то большому, когда он переставал чувствовать свое смердящее, истерзанное тело, приходило к нему лишь в самые трудные минуты. Да он и не мог бы выдержать его долго. Жило скорее воспоминание о нем, уверенность, что это чудо может повториться с ним вновь и вновь. Может, воспоминание-то и ощущалось как неизбывная, длящаяся во времени радость, придавало сил. В этом смысле слово «постоянно» не шло в разрез с истиной – он не стал его вычеркивать, только подправил покосившееся «о».
«Вы пишете, что увидели меня впервые у входа в тюрьму, когда я был еще без кандалов, и что при виде той смелости, спокойствия и бодрости, с какою бог даровал мне силы выносить страдания, вы еле могли сдержать ликование, переполнявшее вас, и что вы увидели во мне, как в самом ясном зеркале, всемогущество божие, дарующее такое мужество и непреклонность…»
Он смутно припоминал, что, когда его привезли обратно в тюрьму после позорного столба, у ворот привратник Ховс разговаривал с какой-то девушкой. Почему-то ему хотелось теперь, чтобы это оказалась именно она, хотя он не запомнил ни лица ее, ни голоса и наверняка не узнал бы при встрече. Не до того ему было тогда, когда главным казалось – удержаться на ногах, дойти до камеры самому. Но, видно, какой-то знак, какая-то искра пробежала между ними и отпечатала в памяти ее локоть, оттянутый тяжелой корзиной, белый, до земли, передник, просвет шеи над широким подсиненным воротом платья.
Чернила оттаяли, он поставил их на стол и немеющими пальцами взял перо. Из-за кандалов левая рука его должна была постоянно двигаться за правой, правая – за левой. Даже волосы он вынужден был причесывать обеими руками.
«Когда же вы пишете, что при воспоминании обо мне слезы радости текут по вашим щекам, о навеки возлюбленный друг и сестра моя, мне кажется, что образ самого Иисуса Христа запечатлен в душе вашей; и хотя, насколько я понял, мы по-разному исповедуем Евангелие, сердце мое так расширяется навстречу вам, что я был бы счастлив увидеться с вами и поговорить обо всем этом и хотел бы, чтобы вы познакомились с некоторыми из моих дорогих собратьев, которые открыто проповедуют ту же истину, за которую я принял страдания».
Стопка мелко исписанных листков все росла, но он никак не мог остановиться. Ему казалось, что если он что-то упустит, это что-то – кусок его жизни, кусок души, – не переданное ей, умрет навеки. Неизвестно еще, представится ли когда-нибудь другой случай передать ей письмо. Сегодня же служанка ее, Кэтрин Хэдли, обещала прийти снова, принести обед и что-нибудь из белья.
«…И я не знаю, удалось ли мне в нескольких строках выразить всю глубину моих чувств и любви к вам и поведать о той радости и утешении, какие бог посылает порой узнику. Я боюсь, что мои друзья, которые тоже просят, чтоб я писал им о себе, будут в обиде на меня, но писать отсюда очень трудно, и я вижу особый знак в том, что бог даровал мне силы писать именно и только к вам. Помните же о моей вечной любви и признательности, о моя неизвестная, которую я видел лишь мельком и из уст которой слышал лишь несколько слов, давным-давно, сказанных моему тюремщику».
Он с трудом заставил себя закончить наконец, скатал письмо в плотную трубку, убрал на место чернила и перья. И вовремя – в коридоре раздались голоса, шаги, женский хохот. Дверь распахнулась, Кэтрин, увернувшись от привратника, ввалилась в камеру и с порога закричала:
– Раны Христовы, господь всемогущий! Что же эти изверги делают с человеком? Мало им было его крови – теперь заморозить решили.
От нее веяло таким здоровьем и крепостью, что даже пар, вылетавший изо рта, казалось, тут же нагревал воздух. Все вещи вокруг нее стремительно вовлекались в летучий круговорот: корзина плюхалась на стол, принесенная провизия – хлеб, сыр, сухари, жареная рыба перелетали в комод, кусок мыла – на полку над тазом, грязное белье – обратно в корзину. Привратник, молодой незнакомый парень, не обращая внимания на Лилберна, ходил за ней по всей камере, тщетно пытаясь ухватить и облапить.
– Ну нет, ничего ты от меня не добьешься, Смит, Джонс или как тебя, коли не притащишь немедленно сюда хорошую печь и не растопишь ее самыми лучшими дровами. Слышишь ты или нет? Не дам я тебе так ни за что загубить такого славного молодого человека, которого вы сговорились тут извести до смерти.
– Как же, изведешь его! Надзиратель Хопкинс клянется, что такого упрямого и живучего дьявола он в жизни своей не видел. Если, говорит, ты допустишь кого-нибудь говорить с ним наедине, я самого тебя засуну в пятую мышеловку. А знаешь ли ты, что это такое?
– Не знаю и знать не хочу, а ты немедленно неси сюда печь. Не то я донесу твоему Хопкинсу, что ты сам таскаешь заключенному бумагу и всякие вредные книжки, что ругаешь вместе с ним архиепископа и что тебя его друзья купили с потрохами за три пенса, ибо большего ты и не стоишь. В двадцать пятую мышеловку тебя засунут тогда, вот как. Ну-ка, марш, живо, пошел!
Она повернула изумленного привратника за плечи и вытолкала за дверь. Потом обернулась к Лилберну.
– Быстро, быстро, любезный юноша, давайте, что у вас там есть. Ого, да это целый свиток! Вы, видно, хотите, чтобы меня схватили и тоже протащили привязанную к телеге по всему Лондону. Смеетесь вы, что ли? Как я его пронесу? Разве что здесь в рукаве.
– Нет, умоляю тебя… – Лилберн запнулся, покраснел. – Это письмо к твоей хозяйке. Мне непременно надо, чтоб оно дошло. Спрячь его как-нибудь получше… не в рукаве…
– Он еще будет меня учить! Я могла бы вам рассказать, где они будут меня обыскивать, а где не станут, да уж ладно. Пощажу вашу пуританскую невинность. А вот и Смит-Джонс – ай да молодец!
Привратник ударом ноги распахнул дверь и внес жаровню с горящими углями.
– Пусть греется, пусть поджаривает себе зад, пусть готовится к вечному адскому пламени. Не жалко. Что я получу в награду?
– Награду? Вы только поглядите на этого наглеца! Пеньковый галстук ты получишь в награду. Бесплатную качалку под перекладиной Тайбернских ворот. Это ж надо, до чего распустились нынешние юнцы, боже правый! Нет, в наше время…
Подхватив свою корзину, она вышла из камеры. Привратник поспешил за ней. Прогрохотал засов на дверях, шаги и голоса быстро покатились прочь по коридору. Лилберн отошел к стене и протянул руки к горящим угольям. Тепло хлынуло в его намерзшееся тело пьянящей струей.
Весна, 1639
«Король сам объявил набор в армию против шотландцев, и, хотя знать и джентри тоже помогали ему, больше всех старались прелаты, поэтому война получила название „епископской войны“; однако большинство англичан, будучи сами придавлены тягостным гнетом, не имели желания выступать против народа, который поднялся только ради того, чтобы отстоять свои законные вольности».
Люси Хатчинсон,[12]12
Хатчинсон Люси (1620–1675?) – жена полковника Джона Хатчинсона, видного участника революции, оставившая жизнеописание своего мужа, проникнутое антироялистским духом.
[Закрыть] «Воспоминания»
Лето, 1639
«Авангард королевской армии утром 31 мая продвинулся на 12 миль в глубь Шотландии в районе местечка, именуемого Дунс. Когда граф Голланд с кавалерией оторвался далеко вперед, он увидел шотландцев, выстроившихся на склоне холма, и там, как ему доложили, был генерал Лесли со всей армией. Эта армия, говорят, была очень малочисленна и плохо вооружена. Но генерал Лесли расположил полки так искусно, что они производили впечатление весьма грозной силы, чему также способствовали большие стада скота, пасшиеся на флангах. Так что граф Голланд одного за другим начал слать гонцов к королю с докладами и сам, посовещавшись с офицерами штаба, отступил к своей пехоте. В конце концов измученные жарой и усталые войска вернулись в лагерь, где находился король.
После начавшихся вскоре переговоров королевская армия была распущена, а шотландцы вернулись в Эдинбург, добившись всего, чего они желали, и обзаведясь в Англии гораздо большим количеством друзей, нежели раньше».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Декабрь, 1639
Берфорд, Оксфордшир
За окнами едва светало, когда Хайд спустился из отведенной ему комнаты в библиотеку. Хозяин дома, виконт Фокленд, уже причесанный после сна и одетый в шелковый халат, при свете двух свечей выписывал что-то из толстого фолианта. Последний год его главным увлечением был греческий.
– Милый Люциус, – сказал с порога Хайд, – просьбу мою можно было бы назвать требованием, если бы гость имел право что-то требовать от хозяина. Поэтому…
– Дорогой Эдвард, вы знаете, что нет такой вещи, в которой я мог бы вам отказать.
– Тогда прогоните меня наконец из вашего дома. Скоро неделя, как я гощу здесь и не могу заставить себя уехать.
– Как глупо я попался, – Фокленд засмеялся и отложил перо. – Чего не могу, того не могу. И что вас всех так тянет в Лондон?
– О, вы не знаете Френсис. Она не скажет ни слова упрека, даже не пожалуется, но будет делать вид, что она сосредоточена исключительно на детях и на домашних делах и не очень понимает, откуда вернулся в дом этот полнеющий мужчина и что он там бормочет о причинах своей долгой отлучки. Кроме того, меня ждет в суде гора неоконченных дел.
– Нет, о суде ни слова. Охота вам тратить свою жизнь, этот бесценный дар божий, на сутяжническое ремесло. Я уверен, что рано или поздно вы почувствуете к Лондону такое же отвращение, как и я, и тоже переберетесь в деревню.
– Милый Люциус, чем больше людей, подобных вам, будет покидать Лондон, тем большее отвращение он будет вызывать. И, смею сказать (бог с ней, со скромностью), чем больше людей, подобных мне, будет брезговать сутяжническим ремеслом, тем страшнее будет процветать в наших судах произвол, взяточничество, интриганство. Только не притворяйтесь, будто все это, как не касающееся литературы и богословия, вас не интересует. Ваша маска стороннего наблюдателя и деревенского сибарита больше никого не обманет. Не вы ли этим летом бросились простым волонтером на войну, хотя никто вас не звал?
– Ну, то другое дело. Когда враг подступает к границам Англии…
– Те враги Англии, которые находятся по эту сторону границ, гораздо страшнее, уверяю вас. Чиновник-хапуга, жестокий судья, бесчестный сборщик налогов – каждый из них откладывает в сердцах людей такую злобу… Накапливаясь капля за каплей, она сливается в море недовольства, которое рано или поздно затопит страну, подступит и к порогу вашего уединенного дома.
– Я ненавижу произвол и жестокость не меньше вашего, дорогой Эдвард. – Фокленд встал из-за стола и в задумчивости отошел к большому медному глобусу, стоявшему в простенке между книжными шкафами. – Но так ли велики их размеры? Истории, привозимые вами из судейского змеюшника, действительно, омерзительны. И все же в целом страна благоденствует. За последние девять лет Англия ничем другим не занималась, кроме как богатела. Торговля, колонии, промышленность – все цветет. Посмотрите, какие здания строят в городах, как одеваются.
– Но разве вы не замечали, что, чем богаче человек, тем больше он жаждет гарантий для сохранения своего богатства. Когда одного купца штрафуют за нарушение селитровой монополии на пять тысяч – вдумайтесь, на пять тысяч фунтов! – вы полагаете, армия недовольных увеличивается на одного человека? О нет. Тысячи торговцев и предпринимателей переживают в этот момент толчок щемящего сердце страха. И постепенно страх перерастает в злобу. «Английских лавочников, глядишь, скрутили не хуже турецких». И за эту невинную фразу другого купца приговаривают к уплате двух тысяч. А в поместьях? За отказ купить рыцарское звание – четыре тысячи штрафа. За нарушение прав королевских лесов с графа Солсбери – двадцать тысяч! А что делает наместник Ирландии, новоиспеченный граф Страффорд?
– Не говорите мне об этом человеке! – поморщился Фокленд.
– Считается, что, сменив вашего отца на этом посту, он смирил наконец непокорное королевство. Действительно, жалоб оттуда почти не слышно. Лишь время от времени до ушей двора доносится какой-нибудь невнятный вопль, стон, хрипенье очередной жертвы. Тогда Страффорда вызывают, он дает объяснения или просто присылает круглую сумму, чтобы подмазать кого нужно при дворе. Ужасно сказать, но иногда эту сумму передают прямо королю. Да и кто посмеет открыть рот? У всех на памяти сэр Дэвид Фуллис: пять тысяч за несколько осуждающих слов в адрес ирландского наместника…
– Про англичан не скажешь, что они отзывчивее других, отнюдь нет. Но они как-то поразительно все умеют примерить на себя. «А вдруг и со мной сделают то же самое?» Тут вы, пожалуй, правы.
Фокленд легонько толкнул глобус, и очертания Европы медленно поплыли из-под его ладони. Португалия, Испания, Франция, Ирландия… Однажды он написал стихи, в которых сравнивал силуэт Англии с бригом, летящим на всех парусах. Теперь ему пришло в голову, что Шотландия в таком случае не что иное, как флаги на мачтах. Сравнение явно было неудачным.
– Как вы полагаете, кампания против шотландцев возобновится?
– Но на какие средства? – воскликнул Хайд. – Казна пуста. Судьи признали корабельный налог законным, но люди, подстегнутые примером Гемпдена, упорно отказываются платить.
– Даже на отражение вражеского нашествия? Я готов отдать королю половину своих доходов для набора армии.
– Вы, я, еще несколько десятков, пусть даже сотен человек. Все это капля в море. Знаете, сколько стоит содержание армии в двадцать тысяч человек? Сорок тысяч фунтов в месяц, не меньше. Необходимо прямое обложение налогом по графствам. Но без постановления парламента народ откажется платить, а о парламенте, судя по тому, что происходило в королевстве последние десять лет, нам следует забыть.
Небо постепенно светлело, и силуэты голых садовых деревьев проступали на нем все отчетливее. Темная полоса дороги сразу за воротами сворачивала в сторону Оксфорда. Фокленд остановил вращение глобуса и грустно улыбнулся:
– Можете торжествовать, милый Эдвард, вам удалось расстроить меня глубоко и надолго. А я так надеялся с утра погрузиться в Ксенофонта.

Хайд умоляющим жестом протянул к нему руки, но тут же почти отдернул их, положил на край стола и упрямо нагнул голову.
– Нет. Я не стану жалеть об этом. Позволить вам залезть в свою раковину и закрыть створки? Этого вы от меня не дождетесь. Довольно того, чтобы вокруг короля собралось два-три человека, подобных вам, и положение дел в королевстве сильно изменилось бы.
– Вокруг короля будут всегда находиться только те, кого согласится терпеть королева. А это значит – сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи.
– Может, мне удалось бы убедить вас, если б нам чаще доводилось спорить с глазу на глаз. Ваши друзья и гости люди замечательные, я ценю и люблю их каждого по отдельности. Но когда их так много, любая беседа неизбежно распыляется. Вчера вечером еще кто-то приехал?
– Да? Я не слышал. За обедом увидим всех. Впрочем, мне кажется, сейчас в доме не наберется и десяти человек гостей, О-о! А вот и еще один.
Оба, заслышав с улицы стук колес, подошли к окну. Обшарпанная университетская карета въехала в ворота, и не успела она свернуть к подъезду, как дверца распахнулась и тощая нога пассажира высунулась из нее, ловя откинутую ступеньку.
– Да это мистер Шелдон! – воскликнул Фокленд. – Что с ним стряслось? Можно подумать, что он отыскал неизвестный евангельский манускрипт или, по меньшей мере, пару Демосфеновых речей.
Шелдон влетел в библиотеку, не сняв ни плаща, ни шляпы, задыхаясь, выпучивая глаза, и прохрипел:
– Милорды! Прокламация… Его величество… Вечером доставлена из Лондона… Я не мог дождаться утра… Прокламация о парламенте. Король созывает парламент… Это абсолютно достоверно… Я видел… сам держал в руках…
Он упал в кресло и стал рвать завязки ворота, душившие его.
Хайд обернулся к Фокленду и, схватив его обеими руками за локоть, вскричал:
– Знак! Это знак свыше. Люциус, обещайте мне. Ведь вы не упустите такой возможности? Вы нужны там, в Вестминстере, а не в окопах с мушкетом в руке. Обещайте, что вы примете участие в выборах!
Фокленд, не отвечая ему, смотрел в окно и свободной рукой машинально перебирал страницы оставленного Ксенофонта.
– Я подумаю об этом, – произнес он наконец. – Я подумаю очень серьезно, обещаю вам.
Весна, 1640
«Парламент собрался 13 апреля. Король дал обещание, что все жалобы подданных будут впоследствии удовлетворены, но сначала требовал денег, ибо необходимо было спешить с подготовкой к войне против шотландцев, чтобы не упустить возможностей летней кампании. На это многие отвечали в своих речах, что народу будет непонятно, на каком основании он должен платить за войну, которой не желал и которой не дал никакого повода; и что, без сомнения, многие заплатили бы больше и с большей готовностью за то, чтобы эта несчастная война была предотвращена, страна умиротворена, а виновники междоусобицы наказаны.
Мистер Пим, джентльмен достойный и религиозный, в длинной двухчасовой речи привел перечень всех тягот и бедствий, лежавших в то время на плечах государства. Сокращенные копии этой речи с большой жадностью читались по всему королевству.
5 мая король собственной персоной явился в парламент и объявил о его роспуске; при этом он говорил милостиво и обещал управлять в соответствии с законами; однако на следующий же день несколько членов распущенного парламента были арестованы».
Мэй. «История Долгого парламента»
Лето, 1640
«Епископы к тому времени в своем совете сочинили эту омерзительную присягу, известную под названием „эт сетера“, которую должны были принести все священники, в том числе и шотландские, обязуясь поддерживать епископат как единственно возможную форму управления церковью. В ответ на это армия шотландцев вторглась в Англию. Король снова отправился против них на север, но его командиры были неопытны, а солдаты вялы и необучены».
Люси Хатчинсон. «Воспоминания»
Август, 1640
«Не успел еще новый главнокомандующий, граф Страффорд, прибыть к армии, как она потерпела постыдное, непоправимое поражение под Ньюборном; враг явился в том месте и в то время, где и когда его ожидали, пересек реку, достаточно глубокую, и двинулся вверх по склону холма, на гребне которого наша армия была выстроена в боевой готовности. Вопреки всем этим трудностям и невыгодам, не получив и не нанеся ни одного удара (ибо те несколько человек, которые были убиты у нас, пали от артиллерийского огня еще до форсирования реки), противник обратил всю нашу армию в позорнейшее замешательство и бегство.
Так как солдаты и офицеры были сильнее воспламенены против графа Страффорда, нежели против неприятеля, он, при такой дезорганизации, нашел необходимым отступить в Йоркшир, оставив графство Нортумберленд и епископство Дарем в руках шотландцев, каковые, будучи свыше всякой меры удовлетворены тем, на завоевание чего они и не надеялись, не спешили двигаться дальше».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Сентябрь, 1640
«Движимые чувством долга и повиновения, мы почтительно представляем вашей государевой и благоверной мудрости ряд удручающих нас неустройств, а именно: отяготительные и необычные налоги на товары ввозимые и вывозимые; многочисленность монополий, патентов и привилегий, вследствие которых торговля в Лондоне и других местностях королевства пришла в большой упадок; всякого рода нововведения в делах религии; редкие созывы и внезапные роспуски парламента без удовлетворения жалоб ваших подданных; всеобщее смятение и опасения, вызываемые ведущейся ныне войной, каковые повлекли с собой столь большой застой и замешательство в торговле, что ведут к полному разорению жителей, упадку мореплавания, а также промышленности английского королевства.
Ваши почтительные просители, считая, что указанные неустройства не могут быть исправлены обычным порядком, настоящим весьма почтительно просят вашу высокую особу сделать распоряжение со всей возможной поспешностью о созыве нового парламента».
Из петиции граждан города Лондона







