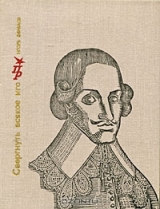
Текст книги "Свергнуть всякое иго. Повесть о Джоне Лилберне"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
– Я сказал лишь, что дела в Англии не пойдут на лад, пока вас не будут звать просто «мистер Монтегю», но это не значит…
– Это значит! Вы не питаете никакого уважения к монархическим учреждениям, к традициям. Для вас права палаты лордов – пустая побрякушка, если они становятся поперек вашим страстям и тщеславию!
– Милорд, остановитесь!
– Ваши замыслы…
– Остановитесь! – Кромвель дышал со свистом, лицо его набрякло до блеска. – Мы слишком отвлеклись от нашего предмета. Приказываете ли вы мне отослать парламентеров? В этом случае я вынужден буду сообщить парламенту, что вы по непонятным причинам отвергли капитуляцию роялистской крепости.
Манчестер отступил на несколько шагов, обвел глазами напряженно ждущие лица своей свиты и, видимо, заметив и в них тень страха и сомнения, сумел, наконец, совладать с собой, взять обычный приветливо-небрежный тон. Палец его коснулся плеча начальника штаба.
– Генерал, займитесь этим делом. Согласуйте с противником условия сдачи полуразвалившейся твердыни, из-за которой столько шума. Только проследите, чтобы ничто из добычи не прилипло к недостойным рукам.
Он сделал изящный отпускающий жест, задержал презрительный взгляд на сапогах Кромвеля и исчез в дверях своего дома.
Жара незаметно перешла в теплые розоватые сумерки, деревья чуть шумели, расправляя листву, и Лилберн, проезжая уже четвертый раз за день все той же дорогой, вслушивался в настойчивый хриплый шепот Кромвеля, доказывавшего ему, что нельзя поддаваться порывам, что для победы над королем можно и нужно перетерпеть любых союзников и любых командующих, что если он, Лилберн, подаст завтра в отставку, это будет настоящей изменой их делу, божьему делу, что они не должны выпускать меча из рук; и хотя сердцем он поддавался этим уговорам и аргументы казались ему неодолимыми, смутное предчувствие того, что военная победа не будет концом пути, что меч сам по себе ничего не решит, проникало в него все глубже и наполняло тревожным и торжественным предчувствием новой борьбы – неизведанной, изнурительной, долгой, чреватой новыми страданиями, новым одиночеством, но, может быть, кто знает, и новым братством.
Сентябрь, 1644
«Из Пембрука пришло письмо, в котором было описано, как войска принца Руперта, особенно отряды, составленные из ирландцев, угоняли скот, съедали или уничтожали все запасы крестьян, сжигали их деревни и неубранный хлеб, резали всех от мала до велика. Людей пожилых и безоружных они раздевали догола, одних хладнокровно убивали, других подвешивали вниз головой или прожигали плоть до костей и оставляли умирать в страшных мучениях».
Уайтлок. «Мемуары»
Январь, 1645
«В это время шли переговоры с роялистами в Аксбридже, ведшиеся в основном по трем пунктам: 1) управление церковью, 2) командование милицией, 3) подавление восстания в Ирландии. Но еще до начала и во время переговоров король использовал все средства, чтобы получить иностранную помощь. В письмах к королеве, находившейся во Франции, он заклинал ее убедить короля французского, кардинала Мазарини и других католиков поддержать его войском и деньгами. Королева, со своей стороны, тоже убеждала его не уступать в вопросе о епископах и не покидать своих друзей – английских и ирландских католиков, столь верно служивших ему в этой войне. Поэтому переговоры кончились ничем. Даже о подавлении Ирландии у сторон не было согласия, ибо король заключил мир с тамошними бунтовщиками и не хотел идти против них».
Мэй. «История Долгого парламента»
Март, 1645
Оксфорд
Кипы бумаг, завалившие поначалу весь стол, диван, подоконник, стулья, теперь понемногу таяли, теряли свой пугающий вид. Часть их уже была разобрана, завязана в аккуратные пачки, уложена в дорожный сундук; другая часть, рассортированная начерно, ждала своей очереди в стопках, придавленных то книгой, то табакеркой, то подсвечником. Все остальное постепенно улетало горячим пеплом в каминную трубу. Но прежде чем бросить какой-нибудь листок на уголья, Хайд заставлял себя проверить, действительно ли он содержит лишь те даты, имена, сообщения, которые можно будет восстановить и по другим бумагам. Смутное ощущение того, что судьба постепенно относит его из центра событий на окраину и отныне, может быть, на долгие годы ему придется довольствоваться ролью свидетеля, не оставляло его последние дни. И об руку с этим предчувствием пришла вдруг острая, чисто свидетельская жадность ко всякому письму, черновому наброску, собственной дневниковой записи, к любому документу, сохранившему отблеск последних лет.
Впрочем, предчувствие могло и обманывать его.
Он все еще оставался лордом-канцлером, и король был к нему неизменно внимателен, приветлив, доверителен.
Намечавшаяся отправка его из Оксфорда в западные графства вместе с наследным принцем была в конечном итоге поручением почетным и ответственным. «Без вас я не смогу отпустить от себя принца со спокойной душой» – так сказал ему король.
То, что роялисты западных графств нуждались в признанном вожде, было чистой правдой. И то, что пятнадцатилетний Карл при поддержке своего совета мог возглавить их, было вполне вероятным. И то, что безопасность династии требовала в данный момент от короля на время расстаться с сыном, тоже не подлежало никакому сомнению; одновременный захват их мятежниками был бы катастрофой. И все же, когда Хайд перебирал в уме остальных членов назначенного принцу совета, сомнение снова закрадывалось в его душу. Все отсылаемые на запад придворные, столь разные по характерам, по личным связям, по влиянию на наследника, сходились только в одном – они отрицательно относились к ирландским планам короля. Не это ли послужило критерием для отбора?
О, эти ирландские прожекты! Как можно было при таком ясном уме верить, что полунищие, вечно грызущиеся между собой кланы оставят свои дома и пастбища и отправятся за сотни миль спасать дело короля, который не мог дать им ничего, кроме обещаний? Как можно было надеяться на иностранцев, когда даже роялистов Корнуолла или Йоркшира нельзя было заставить сражаться за пределами своих графств? Или здесь действовала все та же несчастная, подмеченная еще Фоклендом готовность верить по преимуществу всему приятному? Не эта ли способность обольщаться пустыми надеждами погубила в прошлом месяце все их усилия на переговорах в Аксбридже? Ведь король уже уступил, уже обещал согласиться на передачу командования милицией королевства комиссарам, назначаемым парламентом; уже за общим ужином вестминстерская делегация поднимала тосты за скорое возвращение короля в Лондон. И вдруг наутро снова – надменный вид, сухой тон, отказ от всех сделанных уступок. Всеобщее ошеломление, подавленность, слухи, перешептывания. Что произошло? Оказывается, ночью пришло письмо из Шотландии, сообщающее о стычке, выигранной тамошними роялистами. И как всегда, как бывало уже много раз, подвернувшаяся соломинка выдавалась не только за поворотный пункт, но за некий знак, поданный свыше, не уступать.
И все же переговорами в Аксбридже он, Хайд, мог по праву гордиться. Любой возникавший спор ему всегда удавалось перевести на строго юридическую почву и показать своим оппонентам, что, покушаясь на права короны, они превращают себя в узурпаторов и нарушителей древнейших английских законов и установлений. Даже старый его приятель Уайтлок, не менее его искушенный в юридических тонкостях, время от времени должен был почтительно умолкнуть, не имея что возразить. Да, если бы сила всегда оказывалась на стороне права, карта английского королевства не была бы сейчас похожа на пятнистую шкуру неведомого животного, на которой король мог насчитывать все меньше пятен под своей властью. Хотя, с другой стороны, если б не было парламентских армий, стал бы кто-нибудь при дворе считаться с голосом права? Много ли с ним считались во времена Страффорда и Звездной палаты? Но нет, здесь снова начиналась та опасная цепочка мыслей, которую нельзя было, которую он не позволял себе додумывать до конца.
Он как раз кончал увязывать в пачку копии прокламаций, написанных им для короля, за прошлый год, когда вошедший слуга объявил ему о приходе лорда Дигби. Если король хотел обсудить с кем-нибудь из советников скользкий вопрос, он всегда сначала высылал на разведку своего любимца. В случае отрицательного ответа обсуждения можно было и не затевать – королевское достоинство оказывалось не задетым. Терпело ли при этом какой-то ущерб достоинство лорда Дигби, мало кого интересовало.
Они поговорили немного о печальном положении дел, 0 грозящих опасностях, о вестях с континента, о предстоящей летней кампании, о состоянии западных графств.
– Я слышал, – сказал лорд Дигби, – что там все большую силу забирают шайки так называемых дубинщиков. Они устраивают регулярные сборы, имеют своих вождей, знамена, свои запасы пороха.
– За кого же они выступают?
– Ни за кого. Просто грозят напасть на всякого, кто попытается продовольствовать армию в их краях. Головорезам нашего любезного Горинга уже несколько раз крепко от них доставалось.
– Надеюсь, что они будут последовательны и парламентским войскам устроят такой же прием.
– Все же вам следует попытаться перетянуть их на свою сторону. Люди, деньги, продовольствие – со всем этим вам будет там нелегко.
– Если б только с этим.
– Мы не должны скрывать от себя: положение может сделаться настолько опасным, что дальнейшее пребывание принца Карла на английской земле станет нежелательным.
– Да, это дело решенное. Я скорее увезу его в Турцию, чем допущу, чтобы он попал в руки мятежников.
– Его величеству было очень отрадно узнать, что вы одного с ним мнения в этом важном вопросе. Однако может возникнуть и еще более сложная ситуация. Оксфорд тоже становится не вполне безопасным убежищем. Если он будет осажден всеми парламентскими армиями в самом начале лета, у нас не будет времени собрать достаточно сил.
– Если бы каждый из нас исполнял свой долг перед его величеством до конца, о такой ситуации нельзя было бы и помыслить.
– Все это так, мистер Хайд. Но люди остаются людьми. И если положение станет очень серьезным, они испугаются, забудут о долге и начнут требовать переговоров с парламентом. В этом случае королю не останется ничего иного, как уступить.
– Думаю, те, кто больше всего кричал о беспощадности в дни побед, теперь первыми постараются выслужиться перед мятежниками.
– Вполне возможно, что одним из условий заключения перемирия будет выставлено возвращение принца Карла в Оксфорд.
– То есть добровольная сдача наследника в плен? Его величество не должен соглашаться на такое условие ни под каким видом.
– Он сам того же мнения. Поэтому я хотел бы знать, увезете ли вы принца даже и в том случае, – лорд Дигби замялся и докончил вполголоса, – если у вас… если вам будет доставлен приказ за королевской подписью и печатью о его возвращении?
Хайду показалось, будто чьи-то холодные ладони пролезли к нему в грудь и разом сжали оба легких, не давая возможности вздохнуть. Чтобы прийти в себя, он отвернулся к окну и в тысячный раз принялся рассматривать мощеный двор колледжа, где он жил все эти годы, лепной фриз, высокие трубы, пронзавшие покатую черепичную крышу, окна библиотеки напротив, в которой он провел столько часов, роясь в старинных сводах законов и судебных отчетах, отыскивая цитаты, ссылки, толкования. Самые крупные фолианты хранились там на старинный манер – прикованные цепями к тяжелым столам, и запах сухого дерева и кожи, казалось, торжествовал над самим временем.
– Милорд… – Боль в груди все не проходила, воздуха хватало лишь на короткие фразы. – Вы знаете, чего стоила мне служба его величеству. Почти все мои имения конфискованы парламентом. Я и моя семья живем только на жалованье. Вы знаете состояние казны, знаете, как ненадежен этот источник. При всяких переговорах мятежники включают мое имя первым в список тех, кому будет отказано в какой бы то ни было амнистии. Единственное, что у меня оставалось, – сознание своей правоты перед лицом любого врага и любых обвинений. Теперь меня хотят лишить и этого. Хотят, чтобы я поступил против ясно выраженной королевской воли. Чтобы нарушил прямой приказ, повинуясь секретным инструкциям. Чтобы превратился в изменника, которого не сможет оправдать никакой суд. Чтобы стал изгоем, которого безнаказанно сможет прирезать первый встречный. Чтобы семья моя лишилась даже той жалкой доли имущества, которую узурпаторы из Вестминстера оставляют на поддержание детей своих врагов.
– Мистер Хайд, прошу вас!.. – Дигби прятал глаза, делая вид, что разглядывает чеканку подсвечника. – Мне очень жаль, что мои слова так задели вас. Но поверьте, ни о каких секретных инструкциях нет и речи. Я лишь хотел узнать ваше мнение насчет такого плана. До сих пор мы обсуждали с вами любые вопросы без обиняков. В минуты опасности поневоле хватаешься то за одно, то за другое, тут уж не до разборчивости.
– Да, милорд, я все понимаю. И ответ мой остается неизменным. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы избавить принца от рук мятежных подданных его величества. Но я буду страстно молить бога, чтобы мне не пришлось ради этого нарушить прямой приказ короля, отданный во всеуслышание.
Он встал, поклонился и, не дожидаясь, когда лорд Дигби покинет комнату, вернулся к своим бумагам. Сердце все болело, он не мог работать с прежней сосредоточенностью, и за оставшиеся до вечера часы рука его бессознательно обронила в огонь несколько бумаг, о которых он впоследствии, начав свой гигантский труд, горько сожалел.
На аудиенцию, назначенную ему королем накануне отъезда, лорд-канцлер явился понурый и настороженный. Однако король был так милостиво-внимателен к нему, так многократно выражал свою веру в него и в успех его миссии, так заботливо выяснял, уладились ли его отношения с воспитателем принца, что Хайд понемногу смягчался и уже начинал думать: да не от себя ли преподнес ему интриган Дигби безумный план с секретными инструкциями? Не надеялся ли он, заручившись его согласием, впоследствии выслужиться перед королем и перед парламентом? Весь облик короля, полный печального достоинства, его спокойный, ясный взгляд, безыскусная речь настолько не вязались с возможностью того хладнокровного предательства, которое заключалось в предложении, переданном Дигби, что к концу аудиенции Хайду удалось заставить себя забыть все множество подобных же историй, случившихся с людьми, преданно служившими королю (начиная с самого Страффорда), и окончательно уверить себя, что на этот раз королевский фаворит говорил самовольно и от себя. Толчок искреннего гнева и озлобления к неприятному человеку словно подтвердил правильность его выводов и помог укрепиться в удобном «вот кто виновен».
Свита, отряд охраны, кареты советников – все уже было готово, ждало под окнами. Король обнял сына на прощанье, потом вышел на балкон, стал там с непокрытой головой. Тяжелые мартовские облака, клубясь, надвигались на последнюю полоску ясного неба. Поезд тронулся. Хайд еще раз проверил, прочно ли привязан сундук, и усмехнулся при мысли, что у него не осталось более ценного достояния, чем сотня фунтов исписанной бумаги. Что ж, пусть так. Пусть он уезжал без денег, без семьи, почти без надежд, с подорванным здоровьем (приступ подагры заставил его пересесть с седла в карету), но по крайней мере у него оставалось, к нему вернулось после разговора с королем самое важное: вера в то, что избранное служение было правильным и для него единственно возможным.
Май, 1645
«Армия Нового образца[29]29
Армия Нового образца – была образована в 1645 году в результате реорганизации парламентских военных сил. Большинство офицеров и солдат ее поддерживало индепендентов.
[Закрыть] под командованием генерала Ферфакса была составлена из остатков прежних армий и заново набранных частей. Не было, кажется, еще войска, которое при своем выступлении в поход внушало бы так мало надежд своим и так много презрения врагам, и которое впоследствии бы так блистательно обмануло ожидания и тех, и других. Возможно, в какой-то мере это было предопределено поведением и дисциплиной солдат. Ибо среди них не были распространены пороки, обычные для военного стана. Не было ни воровства, ни буйства, ни брани, ни божбы, так что по их лагерю прогуливаться было столь же безопасно, как по хорошо устроенному городу».
Мэй. «История Долгого парламента»
14 июня, 1645
«Сэр! Сегодня наши армии сошлись на равнине близ Нэзби. После трех часов упорного боя, шедшего с переменным успехом, мы рассеяли противника; убили и взяли в плен около 5000, из них много офицеров. Также было захвачено 200 повозок, то есть весь обоз, и вся артиллерия. Мы преследовали врага за Харборо почти до самого Лестера, куда король и укрылся с остатками войска.
Сэр, генерал Ферфакс служил вам верно и доблестно; лучше всего его характеризует то, что в победе он видит перст божий и скорее умрет, нежели припишет себе всю славу. Честные солдаты тоже исполнили свой долг в этом бою. Сэр, это преданные люди, и я богом заклинаю вас – не обескуражьте их. Я бы хотел, чтобы тот, кто рискует жизнью ради свободы своей страны, мог бы смело вверить Богу свободу своей совести, а вам – ту свободу, за которую он сражается».
Из донесения Кромвеля спикеру палаты общин
Лето, 1645
«С самого начала войны многими отмечалась разница в дисциплине между войсками короля и теми, что находились под командой Кромвеля. Хотя первый натиск королевской конницы бывал очень силен и, как правило, прорывал ряды противников, солдаты так увлекались преследованием и грабежом, что их уже невозможно было собрать для новой атаки; в то время как эскадроны Кромвеля, независимо от того, побеждали они или были рассеяны, немедленно собирались снова и в боевом порядке ожидали новых приказов».
Хайд-Кларендон. «История мятежа»
Июль, 1645
«Письма короля, захваченные в битве при Нэзби, были прочтены вслух перед большим собранием лондонских горожан, и всякий желающий убедиться в их подлинности мог брать их в руки и рассматривать почерк короля. Много честных людей было возмущено тем, что открытые заверения короля так расходились с его подлинными намерениями. Из писем стало ясно, что было у него на уме, когда он приступал к мирным переговорам. Хотя на словах он всегда объявлял себя защитником своих подданных и протестантской религии, в письмах он призывал герцога Лотарингского, французов, датчан, даже ирландцев вторгнуться в страну с вооруженной силой, чтобы оказать ему помощь».
Мэй. «История Долгого парламента»
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Против лордов и пресвитериан
Декабрь, 1645
Лондон, Бишопсгейт
– Мистер Джон! Сэр, вы слышите меня? Ваш ленч остывает во второй раз. Подполковник Лилберн, спуститесь вы или нет?
Голос Кэтрин взлетал вдоль лестничных перил и проникал сквозь тонкую дверь мансарды почти неослабленным, донося все необходимые интонации – обиду, возмущение, насмешку и, главное, обещание бесконечного упорства в этих ежедневных приставаниях.
Вечером или ранним утром Лилберн обычно уступал и спускался на ее крики. Но пожертвовать хотя бы одной минутой дневного света – такого он не мог себе позволить. С тех пор, как год назад наконечник пики ударил его в скулу под самой глазницей, зрение его становилось все хуже и хуже. Практически он видел уже только одним глазом, и то с трудом. Печатник же Овертона набирал памфлеты таким мелким шрифтом, что и при дневном свете его оттиски он мог разбирать лишь при помощи лупы. Вот и теперь целая строка на пробном листе так заплыла типографской краской, что, лишь найдя это место в своей рукописи, он смог понять смысл слов: «…их существование несовместимо с миром, богатством и процветанием государства».
Работа его непомерно разрослась. Он сам чувствовал это, но не мог остановиться. А ведь поначалу ему казалось, что можно будет уложиться страниц в двадцать – обычный объем его памфлетов. Нужно было только выделить из всей сумятицы, брани, клеветы, арестов, интриг, допросов, которыми оказался заполнен для него весь прошедший год, самые основные события и связать их ясной логической цепью. И начать следовало прямо с того момента, когда его вызвали объясняться по поводу напечатания письма к Принну. («Сэр, вы и я приняли страдания от рук прелатов, и глаза народа божьего были на нас…»). Тогда он еще не чувствовал серьезности угрозы, не понимал глубины разбуженной им ненависти. Он знал многих среди сидевших перед ним в комитете расследований, знал их мелкие слабости, ограниченность, корысть, любовь к почестям, вернее, к почтительности и старался не раздражать по мелочам. Так или иначе, они были верными слугами парламента, соратниками его в небывалой борьбе с королем – он не мог увидеть в них врагов… Даже тогда, в июле, когда он привез им из-под Лангпорта сообщение о крупной победе армии Нового образца над Горингом и увидел их скисшие физиономии, он, в своем ослеплении успехом общего дела, не мог оценить, до какой степени дошел их страх перед всем, что они клеймили индепендентством. Но когда неделю спустя за ним прислали стражников, привели, недоумевающего, в комитет и спросили, правда ли, что он, Лилберн, обвинял спикера палаты общин в пересылке 60 тысяч фунтов в Оксфорд врагу, – вот тут, в это самое мгновение, он понял, какая пропасть лежит между ним и ими. Здесь проходила черта, которой они сами не замечали, но заходить за которую в потакании их слепоте он не мог.
Это был ключевой момент, и его надо было описать подробнее всего. Надо, чтобы читатель понял: он отказался отвечать «да» или «нет» не потому, что испугался нелепого поклепа, не потому, что растерялся и хотел оттянуть время, улизнуть. «Никто не может быть обвинен в каком-либо преступлении иначе как по суду, в соответствии с общим законом страны; никто не может быть понуждаем к даче показаний против самого себя». Четыре века назад это право всякого англичанина было внесено в «Великую хартию вольностей». Но правильно говорил Уолвин:[30]30
Уолвин Уильям – индепендентский памфлетист, соратник Лилберна.
[Закрыть] «Великая хартия» давно превратилась бы в клочок пергамента, если бы тысячи людей за эти четыре века не жертвовали своей кровью, безопасностью, жизнью за отвоеванные в ней права. И он, Джон Лилберн, свободнорожденный англичанин семнадцатого века, не колеблясь, готов был продолжить собою их ряд. Ему ничего не стоило ответить на допросе чистую правду: «Клянусь, я не обвинял спикера Лентала в пересылке денег в Оксфорд», – и спокойно вернуться домой, на Бишопсгейт. Членам комитета расследований на этот раз ничего другого не было нужно – лишь припугнуть крикунов, восстановить шатающийся авторитет палаты. Но то, что он вообще отказался отвечать, не укладывалось в их головах. Они не пожелали видеть в этом защиту законности, а лишь дерзость, вызов, покушение на их власть, провокацию. И отправили его в Ньюгейт.
Тюрьма была как тюрьма, не хуже Флитской, не страшнее Оксфордской. Тюремщики как будто даже помягчели, не грабили без меры, а к нему вообще относились с некоторым почтением, допускали друзей и Элизабет на свидания чуть не каждый день. Но все равно, такого чувства горечи он не испытывал ни в одной из прежних камер. Там было просто: он попал в руки врагов и был готов принять самое худшее, не прося пощады. Но отправиться за решетку по приказу парламента! Для него это было все равно что оказаться преданным собственным отцом. Всю жизнь для него слова «парламент» и «закон» были неразрывны. И тут ему объявляют: не закон над нами, но сами мы, создатели закона, – над ним и слугами его быть не можем. А в довершение всего становится известно, кто оклеветал его. Доктор Баствик.
Итак, семь лет назад он чуть не расстался с жизнью ради этого человека. Теперь получил от него в благодарность донос. Хорошо еще, что у автора «Литании» недостало злобы и наглости выступить открытым обвинителем, когда дело дошло до суда. «Мистер Лилберн, – заявил ему судья с плохо скрытым разочарованием, – против вас нет никаких формальных обвинений». Им не оставалось ничего другого, как выпустить его.
Не успел он выйти на свободу, как получил два ушата грязи, оскорблений, клеветы. Первый – от Принна, под названием «Разоблаченный лжец», второй – от того же Баствика. Оба памфлета лежали на его столе и только что не дымились. Его объявляли вечным смутьяном, раскольником, запевалой индепендентов, главарем сектантов, сеятелем анархии. Наконец-то он осознал всю меру их ненависти. Теперь он был готов ко всему. Его тайный издатель, Овертон, заходил вечерами, с наступлением темноты, и уносил написанное наборщику партиями. В случае внезапного ареста хотя бы часть работы будет спасена.
Под лестницей снова раздались женские голоса, потом шаги, скрип ступеней. Элизабет открыла дверь, подошла к столу, присела и, отодвинув локтем бумаги, поставила на освободившееся место поднос – хлеб, ветчина, чашка бульона. Когда он поднял глаза, она держала в руках листок пробного оттиска и взглядом спрашивала: «Можно?». Он кивнул и вернулся к работе, но сосредоточиться не мог, ждал, не скажет ли чего. За те два месяца, что он провел в тюрьме, она и сама замешалась в памфлетную войну: выпустила с помощью Овертона анонимную «Пилюлю для доктора». Написано было слабо, сумбурно, но все равно он был тронут. По отношению же к чужим писаниям ее чутье на фальшивый тон, на пустое бряцание словами оказывалось безошибочным. Несколько раз ему уже доводилось краснеть от ее замечаний. Пухлые губы сходились и расходились во время чтения, голова согласно кивала. Потом она отложила листок и, на минуту прижавшись к его темени щекой и погладив по волосам, вышла, так и не сказав ни слова.
Он вздохнул, отхлебнул бульона и снова взялся за лупу.
«Я свободный человек, да, свободный английский гражданин, и с мечом в руке на поле брани я проливал кровь и рисковал жизнью для защиты своих прав, и я не знаю за собой ни одного поступка, который давал бы вам основание лишить меня этой свободы и всех наследственных и врожденных прав, дарованных нам „Великой хартией вольностей“».
Сколько раз уже доводилось ему слышать упреки, что в своих статьях он слишком много говорит о себе, слишком часто подменяет анализ политического положения в стране бесконечными рассказами о собственных страданиях. Он слушал такие упреки, вздувая желваки, хотя внутренне соглашался и просто ничего не мог с собой поделать. Вот и теперь он не сумел вовремя поставить точку. История его последней схватки с пресвитерианами занимала лишь первые двадцать страниц. То, что следовало дальше, было похоже на раздерганное жизнеописание, захватывающее даже школьные годы. Описание стычки с Манчестером, оборона Брентфорда, свары в Линкольне зимой 1644-го, выход в отставку (не мог же он служить в армии, которая требовала от всех офицеров клятвы верности пресвитерианству), разбирательства в парламентских комитетах, где он пытался получить хотя бы частичную компенсацию, а председательствовавший Принн издевательски предлагал ему поклясться, что его расчеты верны, и вдруг снова прыжок назад, к временам заключения во Флитской тюрьме, когда он однажды, заподозрив покушение на себя, забаррикадировался в камере, – все это теперь катилось перед его глазами беспорядочной, горячечной сагой, набранной мелким шрифтом на семидесяти страницах. Тут и там торчали вставные документы: его петиции в парламент и лорд-мэру, резолюции комитетов, расписки, письмо к парламенту от Кромвеля в поддержку его требований («…горько видеть, как человек теряет все свое состояние, отдаваясь беззаветной борьбе за общее дело, и как мало людей принимает это близко к сердцу»).
– Дорогой Ричард, это невозможно! – Он с грохотом отодвинул стул и пошел навстречу входившему в дверь Овертону. – Вы гоните меня, не даете передышки, я не могу сосредоточиться. Это нельзя печатать в таком виде. Кто станет читать подобную мешанину? Я должен урезать все на три четверти. И предупреждаю: мне понадобится на это не меньше недели.
– Воля автора – святыня, закон. Как прикажете поступить с первой половиной, которая уже отпечатана? Сжечь? продать на обертки? Вы, очевидно, добыли денег, чтобы оплатить бумагу и расходы печатника. Но почему именно неделя? Вам твердо обещали, что за это время пристав со стражниками не постучат рано утречком в вашу дверь?
Овертон расхаживал по узкой мансарде со шляпой в руке. Вся его сухощавая фигура, казалось, была составлена из островытянутых треугольников, больших и маленьких, прочно сочлененных друг с другом в коленях, шее, локтях, запястьях. Некоторые фразы он сопровождал быстрыми, ироничными полупоклонами.
– К слову сказать, мне удалось, кажется, выяснить подоплеку вашего летнего ареста. Все, что они взвалили на вас, лишь довесок. Главное, им срочно нужно было нанести контрудар.
– Кому?
– Индепендентам. За две недели до вас парламент осудил рьяного пресвитерианина за клевету на Генри Вена и Сент-Джона.[31]31
Генри Вен и Сент-Джон – видные парламентарии, лидеры индепендентов.
[Закрыть] Знаете, что он получил? Две тысячи фунтов штрафа и пожизненный Тауэр. Можно представить себе панику пресвитериан. Они искали, куда бы ударить побольней в ответ, и выбрали вас.
– Но я почти не связан ни с кем из ведущих индепендентов. К Сент-Джону я вообще отношусь с недоверием.
– Вы действуете на свой страх и риск – тем хуже. Кто нападал на Манчестера? Кто ведет процесс против полковника Кинга? Кто привел в Вестминстер свидетеля против Холлеса? Каждый месяц, проведенный вами в тюрьме, – важная передышка для всех этих джентльменов. И вы еще хотите, чтобы в подобной ситуации я дал вам неделю на переделки.
– Когда я читаю трактаты Мильтона,[32]32
Мильтон Джон – великий английский поэт, выступал в те годы с трактатами в защиту свободы печати, а также на темы воспитания и семейного права.
[Закрыть] я упиваюсь каждой фразой. Памфлеты мистера Уолвина я могу перечитывать по нескольку раз, даже те, которые кажутся мне слишком мягкими. У вас – бесподобная ирония. Свои же собственные писания мне хочется переделывать и переделывать.
– Мильтон – поэт. Над мистером Уолвином еще не висит дамоклов меч, как над вами, он печатается почти всегда анонимно. Но дело не в этом. Я давно хотел сказать вам… Вы позволите мне присесть?
– О, ради бога. Дайте-ка вашу шляпу, я повешу ее на ту стену, где потеплее. Тут проходит каминная труба.
– Мистер Лилберн, мне понятны ваши сомнения, но я не разделяю их. Поверьте, никто не стал бы читать вас, если б вы действительно писали только о себе. На самом же деле вы пишете о судьбе некоего английского гражданина – нашего современника. Чистая случайность, что его зовут Джон Лилберн и что вы знаете его, как самого себя. Важно другое: что он за всю жизнь ни разу не стерпел молча, как многие другие, ни единого покушения на свою свободу и прирожденные права. Что он кидался защищать их своею кровью, своим пером, мечом, собственной шкурой, наконец. Поэтому все, что происходило с таким человеком, важно до последней мелочи. Бы сами убедитесь в этом, когда памфлет начнет расходиться в тысячах копий. Кстати, что с названием?







