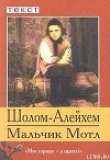Текст книги "Еврейские литературные сказки"
Автор книги: Ицик Мангер
Соавторы: Довид Игнатов,Дер Нистер,Ицик Кипнис,Мани Лейб,Мойше Бродерзон,Семен Ан-ский,Ицхок-Лейбуш Перец,Йойсеф Опатошу
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Свадебный подарок
(История о Бал-Шем Тове)
Перевод И. Булатовского и В. Дымшица

То, о чем я хочу вам поведать, не напечатано ни в «Восхвалении Бал-Шем-Това», ни в других книгах о его деяниях. И все же всё это истинное свидетельство, в чем вы сами убедитесь…
Началась эта история очень-очень давно, во времена черной оспы. В пятнадцати милях от Меджибожа есть деревня. На въезде в деревню стоит корчма. Корчму эту держали два компаньона. Старики помнили, что при графе корчмарей было двое. Даже имена их были известны: одного звали Эля Кривой, он был кособокий, второго – Михл Толстый, он был человек дородный, едва в двери проходил. Жили они вместе, вместе вели торговлю, дети у них росли…
И вот пришла черная оспа, ворвалась в корчму, прибрала обоих компаньонов, их жен и почти всех детей. Остались только сын Эли Кривого и дочка Михла Толстого, одногодки, двое малых детей. Михл Толстый и его жена – кажется, Шейндл ее звали – умерли последними и перед смертью нарекли детей женихом и невестой… Эта самая Шейндл вынула тогда из-под подушки свое серебряное обручальное кольцо, отдала мальчику и, уже испуская дух, сказала:
– Чтоб ты дожил до того дня, как наденешь это кольцо на палец твоей невесте…
Кроме двух детей – жениха и невесты – остался еще слуга. И вот какое злое дело он совершил. Утаил детей от помещика и перехватил корчму. Заплатил аренду помещице, которой помещик подарил корчму, как это у них называется, «на булавки». Обидел детей, а когда они подросли, сделал мальчика слугой, а девочку – кухаркой. В Меджибоже – корчма-то всего в пятнадцати милях – тогда много об этом говорили. Арендатор был человек здоровый, к тому же помещик с помещицей его жаловали. А помещиком – чтоб ему на том свете гореть! – был граф, придворный вельможа, и евреев он до себя почти не допускал. Люди посудачили-посудачили и забыли. Корчма всем разонравилась: бедных гостей бывший слуга на порог не пускал, а с тех, что побогаче, три шкуры драл.
Всплыла эта история только лет через пятнадцать. Кто-то был проездом в Меджибоже. Заехал без особого дела к Бал-Шему, и рассказал ему, так мол и так, арендатор той корчмы, бывший слуга, сватается к сиротке. А не согласится она, грозит прогнать обоих сирот из дома…
Всех до печенок пробрало, но коли Бал-Шем слушает и молчит, надо молчать. Однако ж вздыхаем, вспоминая давнюю историю, опять вздыхаем и снова забываем…
А Бал-Шем, оказывается, не забыл, сами увидите…
Как-то зимой случилась сильная метель. Снег валит и валит. Но в субботу вечером вдруг стало тихо. Выглядывают: не пора ли начинать гавдолу? Все небо в звездах. Хорошо. Бал-Шем совершает обряд. Годл, как повелось, держит свечку. Ребецин стоит в дверях. В доме – всю неделю из-за снегопада никто не приезжал – народу едва набралось на миньян.
Ждем, что после гавдолы Бал-Шем начнет «И пусть дарует тебе». Бал-Шем задумывается. Потом улыбается и говорит:
– Знаете что, рабойсай? Поедемте-ка прогуляться, ребецин с Годл поедут с нами. «И пусть дарует тебе» скажем по дороге. «Элийогу», даст Бог, споем в лесу, а мелавемалку устроим в корчме. Весело будет! Пусть Василь закладывает большие сани.
Бежим сказать Василю. А Бал-Шем велит ребецин и Годеле собрать мелавемалку по-царски, не забыть взять лекех и водки, и вина, оставшегося от гавдолы, тоже взять…
Как говорится, сказал он «весело будет», и сразу радостно становится на сердце.
Оказался при этом меджибожский сойфер.
– Нет ли у тебя при себе готовой ксувы, чтоб только имена вписать?
Удивляемся такому вопросу. Сойфер припоминает: дома у него такая есть. Бал-Шем велит ему сбегать, принести и взять с собой. Еще больше удивляемся, но ни о чем не спрашиваем.
Не проходит и получаса, отъезжает Василь на широких санях; на переднем сиденье сидят уже ребецин и Годл, а мелавемалка, завернутая в скатерть, лежит между ними. На заднем – Бал-Шем между двух старших своих приближенных, а остальные тоже как-то уселись, ноги из саней наружу точат. Кто-то из молодых уцепился за оглоблю и на ней верхом едет… Василь с кнутом и вожжами в руке садится, как обычно: ноги на дышле, лицом к седокам, и спрашивает:
– Куда?
Бал-Шем отвечает:
– Езжай!
Василь не переспрашивает, втыкает кнут в сено в углу саней, привязывает вожжи к передку и – как гаркнет на лошадушек! Лошадки, отдохнувшие за время метели, резво вскидывают ноги, вздымают снежную пыль, и мы, будто в сияющей дымке, несемся по улице, через рынок, за город, в заснеженные просторы, и разносится окрест «И пусть дарует тебе»…
Завершили «И пусть дарует тебе» – въезжаем в лес. Тогда-то лес на все пятнадцать миль тянулся… Шлях широкий, гладкий как скатерть. Затянули «Элийогу»… Напев все громче и, ясно видно, до того нравится звездным небесам, что даже звездочки пританцовывают. Старые ели – справа и слева – вздрагивают как во сне и осыпают нас снежинками, ну точь-в-точь как молодоженов – хмелем. Иногда вспорхнет разбуженная ворона, метнется прочь с криками и нет ее… Иногда проснется целая стая маленьких птичек, и фью, фью, фью – подхватывают напев, подпевают… И вот заканчивается «Элийогу», а вместе с ним и лес, снова простор, и видна вдали деревня, а перед ней большой дом – та самая корчма. Узнаём корчму и деревню, значит от города уже пятнадцать миль! Но об этом речи нет. Все уже привыкли к «скачкам дороги» во время прогулок.
– Стой! – велит Бал-Шем.
Останавливаемся.
– Здесь, – говорит он, – подождем немного.
Подождем так подождем. Кто-то спрыгивает с саней – ноги размять.
Вдруг слышим: топот копыт по снегу все ближе и ближе. Смотрим: конь, запряженный в санки. Ближе – видим: двое в санях. Меховая шапка и платок. Хотят они мимо проехать – Бал-Шем их останавливает.
– Послушай, парень! – говорит, но без гнева, даже с улыбкой. – Как же это парень с девицей ночью одни катаются?
Парень всматривается, кто это его спрашивает. И, похоже, видит – кто. А может, по голосу понял: не простой смертный.
– Мы жених и невеста, ребе!
– Это я знаю… Но до хупы и кидушин…
– Хозяин прогнал нас, ребе, в чем были. Повезло еще, что сосед-крестьянин сжалился над нами, одолжил коня, сани и тулупы, и посоветовал ехать в Меджибож к ребе, к Бал-Шему… Он мне поможет…
– А Бал-Шем, – отвечают ему все с улыбкой, – к тебе приехал…
Тот ушам и глазам своим не верит.
– Поезжай назад! – говорит Бал-Шем.
– Он прибьет нас… Он сказал…
– Поезжай, тебе говорят!
Поворачивает он и едет обратно. Большие сани – следом… Кто прохаживался, залезают обратно или идут остаток пути пешком…
Не успевают маленькие сани подъехать к корчме, выбегает арендатор с жердью…
Окликают его из больших саней. Видит арендатор толпу, и кричит сердито:
– Бродяги пожаловали! Езжайте дальше! Есть нечего, пить нечего, ночевать негде! Пошли отсюда!
И бежит назад, хочет ворота запереть.
Здоровенный такой разбойник: плечи, ручищи, да еще жердь в ручищах. Но у нас-то есть Василь, да и мы помогаем… Через минуту все в корчме.
– Ночевать, – говорит ему Бал-Шем, – мы тут не будем, еду и питье мы, слава Богу, с собой привезли. А ты поищи, найди и зажги побольше свечей…
Разбойник ворчит что-то себе под нос, но слушаться – слушается. И вот уже горят несколько свечей в бронзовых подсвечниках.
– Постели-ка скатерть!
– Пусть он стелет! – бубнит разбойник и сверкает глазами на парня, которого прогнал.
– Ты его слуга! – кричит ему Бал-Шем.
Впервые, наверное, слышим, как он кричит. И это действует. Арендатор сразу сникает, горбится, весь как-то съеживается и снова становится слугой. Идет и приносит из другой комнаты скатерть.
– Есть у тебя палки? – спрашивает Бал-Шем.
Тот отвечает уже как слуга:
– Растопить печь или плиту?..
– Палки не для того, чтоб топить. Принеси четыре ровных палки…
Тот приносит.
Говорит Бал-Шем сойферу:
– Достань ксуву и впиши имена жениха и невесты…
И потом:
– Пусть кто-нибудь сделает из скатерти и палок хупу.
Сойфер пишет. Хупу делают. И вот уже жених и невеста стоят под хулой. Бал-Шем произносит по порядку кидушин… Мазл-тов, мазл-тов! Все садимся за мелавемалку, которую ребецин и Годл тем временем достали и накрыли на столе…
Едим, пьем, подпеваем… Бал-Шем провозглашает:
– А теперь свадебный подарок! Гости-то у хозяев общие, сразу и со стороны жениха, и со стороны невесты.
Он улыбается и продолжает:
– Я со своей стороны даю молодым корчму в аренду!
– Корчма моя! – вспыхивает бывший слуга.
– Болван ты и злодей в придачу! Теперь я помещик, и корчма моя, и я передаю ее молодым.
И поворачивается к ребецин:
– А ты, ребецин, что дашь?
Как и другие, ребецин думает, что это все в шутку, только чтобы припугнуть разбойника, и отвечает:
– Если муж – помещик, то жена – помещица, а так как арендную плату (дело известное) помещица берет себе «на булавки», то дарю я им свадебный подарок, арендную плату на вечные времена!
– Если так, – говорит Годл, – если отец – помещик, а мать – помещица, то я – единственная помещичья дочь, и у меня тоже есть право подарить подарок.
– Верно! Верно!
– Я, Годеле, со своей стороны дарю им триста ведер водки.
– Рабойсай, благословим!
Благословляем, думая, что в шутку.
После благословения Бал-Шем говорит молодым:
– Теперь вам можно ездить вместе. Куда вы хотите ехать?
– У меня неподалеку дядя живет, в лесу… Смолокур…
Улыбается Бал-Шем и говорит:
– Человек идет, а Господь ведет… Езжайте на здоровье. Но остатки трапезы возьмите с собой вместе со скатертью. Самое главное, не забудьте недопитое вино. Оно вам пригодится…
Такая вот история. Уезжают санки в одну сторону, а мы, на больших, в другую, обратно в Меджибож… Не иначе опять будет «скачок дороги». Уже сидя в санях, оборачивается Бал-Шем к арендатору:
– А ты, разбойник, должен покаяться! Из корчмы будешь изгнан, станешь странником, станешь «справлять изгнание». Потом Господь тебе поможет, и ты придешь ко мне после покаяния… Трогай, Василь…
Сани трогаются, арендатор стоит, будто окаменел… Перед тем как въехать в лес, оглядываемся и видим, что он все еще стоит и трет глаза. Будто хочет очнуться от кошмарного сна.
Как сказал Бал-Шем, так, разумеется, и вышло…
Через несколько лет арендатор, раскаявшись, пришел к нему… Его уже было не узнать. Но это совсем другая история. Послушайте лучше, что случилось со свадебным подарком. Мы-то думали: шутка…
Въезжают молодой человек с женой в лес. Остатки мелавемалки и бутылка с вином завернуты в скатерть. До смолокура около получаса езды. Едут они уже час и еще полчаса, а того места, где стоит закопченная хижина, все не видать. Немудрено – столько снега выпало, поди сыщи дорогу! Им как-то не по себе, страшновато. Вдруг встала лошадка, хочет подкрепиться, оголодала. Жена говорит:
– Нужно иметь сострадание к животному! Может, дадим ей кусок халы из остатков…
– Ну, давай…
Вылезает жена из санок, разворачивает скатерть, достает кусок халы и дает лошади, а та жует.
Выпрыгивает молодой человек из санок – ноги размять. Можно, кстати, немного и пешком пройтись.
Лошадь пожевала, очухалась. Пора трогать, и тут они слышат из-под деревьев тяжкий стон. Потом еще один…
– Это зверь? – спрашивает жена.
– Нет, кажись, человек.
– Верно, беда стряслась…
– Давай поищем!
Прошли они немного на стон и видят: лежит человек в забытьи. Молодой человек, похоже, барчук. Рядом с ним – ружье. Неподалеку – подстреленный заяц.
– Охотник, – говорит жена, – заблудился, изнемог от голода.
– Может и так, принеси вина…
Припоминают они, как Бал-Шем сказал: оно вам пригодится…
Приносит жена вино и кусок лекеха. Молодой муж тем временем присел и положил голову охотника себе на колени. Жена смачивает губы несчастного вином. Он приоткрывает глаза:
– Где я?
Вливает она ему несколько капель в рот, он глотает. Подносит ему ко рту кусок лекеха – он откусывает. Приходит в себя.
И знаете, кто это был?
Молодой граф собственной персоной! Уже три дня, как он ушел с другими молодыми помещиками на охоту. Отошел в сторону. Как? Он что, леса не знает? И заблудился. Сперва были слышны выстрелы, потом и они смолкли. Охотники, конечно, заметили, что молодого графа нет, бросились искать, да только еще дальше от него отдалились… Измученный голодом и жаждой, он долго понапрасну кружил по лесу. Потом сел поддеревом… Отшвырнул подстреленного зайца, из-за которого заблудился… Столько за ним гонялся!.. Потом, уже ослабев, услышал где-то далеко в лесу охотничьи рожки, крики и ауканья. Идти он уже не мог, да и слабый крик его никто бы не услышал… Потом стало тихо… Он, наверное, заснул. Похоже, с открытыми глазами… Потому что вскоре увидел, как люди – крестьяне и охотники – бегают по лесу с горящими факелами, трубят в рожки, кричат, аукают… Он слышит, видит, хочет пробудиться и не может…
Повезло еще, что молодожены его нашли, а то бы он уже не проснулся.
Берут они молодого графа, который уже пришел в себя, усаживают его в сани, сами садятся и – в путь.
– Удивительно, – говорит молодой граф, – теперь мне ясно, где я нахожусь. Усадьба, – он показывает пальцем, – вон там, за деревьями. Езжайте прямо туда…
– Просто наваждение какое-то! – бормочет он и умолкает, воображая, что творится дома с отцом и матерью…
И они едут, как он им сказал, прямо к усадьбе…
Усадьба во мраке, только одно окно светится за занавесками. В других темно.
Подъезжают к воротам. Бегут навстречу люди: кто это может быть ночью?.. Собаки лают. Одна подбегает, узнает и заливается уже совсем другим лаем, радостным, несущим добрые вести. Подбегает слуга:
– Барин, молодой барин!..
Бегут во дворец, докладывают. Выбегают отец с матерью и гостями…
– Сын мой! Сынок! Брат!
– Стах, Стах, ты жив! – кричат молодые помещики, еще не успевшие переодеться после охоты. Пана Станислава подхватывают на руки, несут во дворец. Разом вспыхивают все окна, освещается двор.
Пан Станислав рассказывает. Все окружили его и слушают, затаив дыхание… Тем временем стол уже накрыт: вино, закуски. Садятся, пьют, закусывают, радуются. И тогда кто-то спрашивает:
– А кто тебя подобрал, кто тебя привез, дорогой Стах?
Всем становится стыдно. Забыли о тех, кто спас жизнь единственного сына помещика!
– Какая несправедливость! – помещик заламывает руки.
– Горе мне! – стонет помещица, – Господь мне этого не простит…
– Они были на санках, им нужно было обратно ехать. Ничего не поели, ничего не выпили, не согрелись, никто им спасибо не сказал, – говорит, чуть не плача, помещичья дочь.
В эту минуту входит камердинер и докладывает:
– Все, что нужно, сделал. Лошадь распряг, отвел в стойло и задал ей свежего овса. Парня и девку… то ли они брат и сестра, то ли жених и невеста… отправил на кухню, чтоб отогрелись. Еда у них с собой своя. Они евреи, нашего и не попробуют…
– Сюда веди их, сюда! – кричит помещик.
– Сами, сами их приведем! – отвечают ему сестра и мать молодого графа…
И уходят, и возвращаются с молодой парой…
– Спасибо, спасибо, спасибо…
Помещица спрашивает:
– Кто вы? Брат и сестра? Жених и невеста?.. У вас так не разъезжают…
– Нет, – говорят, – муж и жена, только что из-под хупы! Мы ехали в лес, к нашему дяде… К смолокуру…
– Если так, – раздается со всех сторон, – мазл-тов, мазл-тов! Ведь это значит по-вашему: счастья!..
– Тогда вам, – говорит молодой граф, – подарки полагаются… Дроше-гешанк, так ведь, по-вашему, свадебный подарок.
Тут помещик и говорит:
– Отдаю вам в аренду лучшую корчму в моем имении!
А помещица говорит:
– А я дарю вам арендную плату на вечные времена!
И тогда дочь говорит:
– Я единственная дочь, у меня тоже есть право подарить подарок!
– Есть, говори, – отвечают отец и мать, – что ты хочешь?
– Дарю триста ведер водки с нашей винокурни.
И было так… Молодой помещик еще кое-что им добавил от себя…
Я не считал…
Тут заиграла музыка, все стали танцевать.
А наши молодые потихоньку прошмыгнули в двери и уехали – к себе в корчму…
Арендатора там уже не было… Ушел в изгнание…
Водичка
Перевод Е. Карасевой и В. Дымшица

Дорога, песчаная, тяжелая дорога, выходит из редкого, корявого, узловатого хвойного леска, – который, как объяснил мне мой кучер Мачей, и рубить-то не стоит, – и широко прорезает тощие крестьянские овсы.
Мачей показывает кнутовищем на поля и невесело замечает:
– Стоит еще. Да и на что жать такой овес?
Кучер замолкает и снова поворачивается к лошадям, которые решили воспользоваться минутой и теперь тянутся к овсу. Левая, которая уже повернула было голову, чтобы ухватить колосья, получает удар:
– Пшя крев!
Тихая, печальная, безлунная ночь. Рассеянные по небу звездочки, редкие, как овес в поле, мерцают как-то устало, бесприютно и горестно… До нас все реже доносится шорох крыльев порхающих в лесу птиц… Справа, на другом краю поля, тянется редкая цепь скупо покрытых зеленью холмов. Они медленно и лениво отдаляются от нас, как стадо странных, плохо подстриженных овец. Вот одна залезла на другую, да так и застыла на ней. Солнце давно уже село. Последнюю полосу света на краю неба медленно гасит наплывающий вечерний туман.
Слева, сквозь тощие овсы, дрожат разбросанные огоньки.
– Деревня? – спрашиваю я.
– Наша деревня! – отвечает Мачей.
Он, видя, что у меня нет ни малейшего желания дать ему поспать, обреченно вздыхает, вынимает из-за пазухи глиняную люльку, плотно набивает ее махоркой и закуривает. Красноватый свет зажженной спички падает на его лицо, повернутое ко мне вполоборота, обрамленное лохматой шапкой и густой бородой.
– Так, – повторяет он, – наша деревня…
– Что ж такая обедневшая?
– Так вышло… Помещик договорился с комиссией. Разве ж мы в этом понимаем?
– А евреи у вас живут?
– У нас нет. На нашей земле им нельзя, а на помещичьей…
– А помещики разрешают?
– Не задарма. Кто как… Есть, которые не слушают ксендза…
– Вредят они вам, евреи-то?
– Вредят? – Мачей бросает на меня изучающий взгляд, некоторое время молчит и потом добавляет: – А что они нам сделают? В поле они не работают. Не про них эта работа. Да и кто им ее даст, землю эту?
– Хороший вопрос!
– Раньше-то они корчмы держали.
– Пили?
– Грешны…
– В долг?
– Когда как… Перед Новым годом, ясное дело, в долг.
– А еврей все записывал на мелок?
– Ясное дело, не дарить же он будет. Так что ж, разве У него жены и детей нет? Каждый, как может, на хлеб зарабатывает.
– На двойной мелок?
– Кто его знает? Моя всегда так говорила… И все равно пила в долг.
– И она тоже?
– И она. Было дело. Много раз было – она спьяну чуть было не подожгла Мошека.
– Какого Мошека?
– Нашего Мошека… Он тогда корчму держал. А нынче он у нас торгует. Честный он человек, этот Мошек. На мелок или как, я уж не знаю, а только – хороший человек. Он тут что хочешь: фельдшер, доктор, адвокат… Все знает, все может.
– И что же, не подожгла она его?
– Куда там!.. Бежала с головней, чтобы поджечь, да и упала посреди улицы. До сих пор ожог на руке: рукой прямо в огонь угодила. Вопила… Еле-еле потушили… Потом прощения просила у Мошека… Конечно, он ее простил… Хороший он человек, Мошек. Да вон он там стоит.
Мачей показывает кнутовищем, но я вижу только тень на обочине дороги.
– Это его халат болтается, – говорит Мачей. – Мешок за плечами. Не иначе как за чем-то в местечко собрался.
– Так чего же он стоит?
– Хочет, чтобы кто-нибудь его перевез через воду.
– Какую воду?
– А вон там! – Мачей указывает на окраину деревни.
Широкую зеркальную полосу вдали я сначала принял за росу. Но это была не роса.
– Разве пан не знает, что в этом году у нас не было ни росы, ни дождя? Это вода.
– Через нее на пароме переправляются?
– Да какой там паром! Там воды по щиколотку. Стоячая…
– Дождевая?
– Муси!..
– Или с окрестных холмов?
– Муси…
Мы едем дальше, и из тени появляется настоящий «Мошек». Я уже могу разглядеть, как болтаются полы его халата. Белая борода дрожит.
Мы поравнялись с ним, и вот он уже держится за край телеги.
– Вечер добрый, Мачей!
– Вечер добрый, Мошек!
– Перевези через воду!
– Гривенник!
– Папироса!
– И еще копейка!
– Две папиросы!..
Мошек торгуется с крестьянином, шагая вслед за телегой по тяжелому песку.
– Попроси барина! – говорит в конце концов Мачей. Мошек, переменив руку, оборачивается ко мне. Тощий, седой еврей.
– Пан, – начинает он. – Позво…
Но не заканчивает. У него более наметанный глаз, чем у крестьянина. Мошек быстро распознает, что барин никакой не барин, и он без колебаний лезет в телегу. Нужно место, чтобы сесть. Может быть, рядом с крестьянином? Уж лучше, чем с «немцем»!
Но я уже освободил ему место рядом с собой.
– Садитесь, реб Мойше.
Дважды просить не приходится, еврей садится и говорит:
– Во-первых, шолом-алейхем, реб ид! Во-вторых, больше спасибо! От махорки Мачея одуреть можно. И в-третьих: откуда господин знает, что меня зовут Мойше? Мы с вами знакомы?
Я рассказываю ему, откуда знаю его имя. Он, в свою очередь, успокаивает меня:
– Только через водичку, а там мне направо… Вам-то, конечно, налево?
Похоже, Мошек начинает изучать меня, но я прерываю его.
– Как блестит, прямо зеркало.
– Ба! Такая вода… – и обрывает себя на полуслове.
Я чувствую, что за этим что-то кроется.
– Что за вода? Дождевая?
– Дождевая! – повторяет он насмешливо. – Когда это у нас был дождь?
– Где-то поблизости есть родник?
– Где вы видели здесь родник? На десять миль вокруг – ни одного!
– Что же это тогда, милейший?
– Что тогда?! Да ничего.
Мошек скрывает какую-то тайну.
– И все же?
– Чего попусту говорить-то… – он пытается увести меня в сторону. – Расскажите лучше, чем торгуете, господин хороший?
Я уже уверен, что не все так просто с этой водичкой.
Невообразимое спокойствие разлито в тихой ночи. Мошек вглядывается в ночь как-то странно, не отрывая глаз, и я чувствую, что-то дрожит в его голосе… Я должен его разговорить.
– Что-нибудь, – говорю я, – рассказывают об этой водичке?
– Мало ли что… Ну…
Мошек мне почему-то не доверяет. Я предлагаю ему папиросу, но он не закуривает.
– Может, по капельке? – спрашиваю я и достаю свою фляжку.
– До майрева?.. Я уже было подпоясался платком, чтобы помолиться майрев, слышу – едут, бегу и становлюсь у дороги. Ни души… Обычно я перехожу пешком, воды-то по щиколотку, но на этой неделе, не про вас будь сказано, что-то мне нездоровится… Боюсь простудиться. Не обессудьте, майрев я уж помолюсь там… (Он указывает пальцем вправо)… А вы – пейте себе на здоровье, лехаим ве-лешолем.
– Один не пью.
И я прячу флягу обратно…
– Может помолитесь?
– В дороге я не молюсь.
– Вйо! – кричит вдруг Мачей, заезжая на гору.
– Вот видите, – говорит реб Мойше. – Попробуй помолись тут при крестьянине!
Снова молчание.
– Как ваши дела, реб Мойше? – спрашиваю я, снова пытаясь завязать разговор.
– Слава Богу, живем помаленьку.
Он снова умолкает. Не за что ухватиться.
– А знаете что, реб Мойше?
– Что же, например?
– Расскажите что-нибудь! Тут так тихо… Даже не по себе.
– Как желаете… Что вам такое рассказать?
– Да хоть про водичку… Вы же знаете эту историю про водичку?
– А даже если знаю, на что она вам, чтобы было над чем посмеяться?
– Боже упаси!
– А, хоть бы и так… – передумывает он. – Нынешние времена… «Сионизм»…
– При чем тут «сионизм»?
– Я знаю? Нынче все перевернулось… Ешиботники стали сионистами, забросили Гемору, безобразничают… «Немцы» стали сионистами, кинулись обратно в еврейство… Бритые бороды и еврейство… Я не вас, Боже упаси, имею в виду, – Добавляет он с извиняющейся улыбкой.
– Какое же отношение все это имеет к водичке?
– А вот имеет… Вы только не сердитесь… «Немец», положим, стал набожным, и вот, к примеру, у него йорцайт, и он идет в еврейский ресторан, и велит принести ему за упокой души его матери кугл, его еврейство – это кугл. А ваше еврейство, например, сказочки слушать. Может у вас нынче йорцайт?
И все же он рассказал мне ту историю. Возможно, он хотел рассказать мне ее даже больше, чем я – услышать!
– Там где нынче водичка, было когда-то местечко… Не большое местечко, а так себе… Главное: было на что жить.
– Куда же оно делось?
– А куда все девается? Тут когда-то был лес… А где он? Кругом был лес. Майонтек! А на том краю леса дворец был…
– Я видел развалины.
– Развалился на кусочки! Там жил граф… Ночью дворец освещали факелами – на семь миль вокруг видать. И в лесу тоже весело: трещало, шумело, щелкало, гавкало… Помещики свистели, трубили в ихние шойферы, не рядом будь помянуты, и охотились, и стреляли, и кутили, и сидели на траве с музыкой, с факелами… С женщинами… Ели и пили… И собаки выли…
Тут-то все и случилось…
А ниже жили немцы, лес валили… На другом краю леса – гонтари… Едешь, а тут домик… Перед домиком – костерок… Гонтарь перед огнем работает, жена на огне ужин варит… Костерок, поют… Один гонтарь запоет-засвищет, другой подхватит… И так песня три, четыре раза обойдет весь лес…
А там, где сейчас водичка, давным-давно жил один сельский еврей, арендатор… Со временем привез он себе двух зятьев… Невесток… Нанял меламеда… Понастроил домишек… Привез шойхета… Прошло несколько лет – вот тебе и местечко.
И, как говорится, местечко-то не без заработков.
Застрелит, например, помещик зайца, называется «дичь», швырнет не глядя – вот тебе и шкурка, и одна, и две, и дюжина, и всё за полцены… Потом, молоко – от десяти хозяйств было молоко! Потом, немножко зерна… А еще помещичье зерно – еще в поле, еще несжатое, а уже на «кондициях»… И лавочка: разная снедь, бакалея… И свечи, и медовуха, и вина всякие… Все, что нужно в усадьбе.
А несколько еврейчиков сидело и училось… Это те, которые не торговали… А раввин тамошний – кровный брат «Хемдас йомим»… Послал он в Варшаву кур, немного меда, приложил это все к письму с запросом к тамошнему раввину: «Возлюбленный брат мой, сим…» Ну и так далее… А через некоторое время: ученые мужи, зятья из лучших ешив… Маленькое, но, как говорится, путное, путное местечко. Всего хватало. Даже ламедвовник свой был.
– Водонос?
– Да нет, скорняк. Человек вроде набожный, но полный невежда. Все время в сидур смотрит, а толку – и Ашрей-то наизусть не знает. Молится молчком, даже во время Леменацеах молчит. Поговаривали, что бедняга даже грамоте не знал… Только вот – очень набожный! В канун Йом-Кипура например, велит пороть себя по-настоящему, «чтоб больно было». Специально шамесов просит. В часами напролет стоит у раввина под дверью – хочет сам благословить эсрог. Перед Гошано-Рабо исчезнет куда-то на целый день, потом приносит Бог весть откуда такие ивовые ветки, каких свет не видывал… Что еще? Что он обрезки себе не брал – так кто их тогда брал? Но тут произошла вот какая история… В холамоед Пейсах это было, да, в холамоед Пейсах. А может, и в холамоед Сукес, но точно в холамоед. Идет себе откуда-то несколько человек, ночью… То ли от застолья, то ли от больного, завсегдатаи бесмедреша, молодежь… Может просто засиделись, задержались за учебой. Так вот, идут они себе через Рынок мимо дома скорняка, а у того свет горит… Сквозь ставни пробивается… Закралось в них, в молодых, подозрение! Вскоре после праздников будет ярмарка, потому работает он, невежда, в холамоед для ярмарки. Они и решили: невежда не благочестив! Хотели его застукать… И не трудно, ставни-то едва прикрыты. Распахнули ставни! И что же они видят? Сидит скорняк при сальной свечке, склонился над книгой и плачет… Прямо слезы видать… Смотрит скорняк в книгу, а слезы так и льются! А в доме светло, да не как от сальной свечи. Скорняк знай свое, плачет и не слышит, что кто-то открыл ставни. Те молодые люди постояли, потом закрыли ставни… Пусть, говорят, это все останется тайной… Кто знает, что все это значит… Это один случай. А через несколько лет произошла совсем удивительная история. Молва о ней далеко пошла. В общем, где-то в наших местах скончался некий раввин, и община пригласила на это место двух раввинов сразу… То есть обыватели – одного, а хасиды – другого.
Нынче это обычное дело, а тогда – еще в новинку было. Прямо-таки святотатство… Раздор… Созвали сход, второй, третий – туда-сюда, постановили, пусть люблинский раввин решает! Потому как некрасивая вышла история: оба раввина – люди ученые, благочестивые, и обоих привезли в один и тот же день! Один приехал с востока, другой – с запада, и оба встретились ровно посреди рынка! Поди тут реши, которому отказать.
– И что сказал люблинский раввин?
– Вот в том-то и дело, что он тоже ничего не сказал… У него, говорит, нету таких весов, чтобы раввинов взвешивать!.. Но что тогда? И вот тут-то и начинается история… В общем, дал им люблинский раввин совет: пошлите, говорит, двух обывателей в такое-то и такое-то местечко (он им его назвал), пусть спросят Лейбла-скорняка (его Лейблом звали) – и как Лейбл-скорняк скажет, так тому и быть. Так говорили… Кто рассказал? Неизвестно. Появлялись ли в том местечке чужие? Кажись, появлялись. На улице, говорят, крутилось двое приезжих… Сподики такие чудныé… Не торговали, не покупали, не продавали – ничего, а потом пропали. Кто-то видел их у дома Лейбла-скорняка… Побежали к раввину, а тот ничего не знает. Идите, говорит, к Лейблу и спрашивайте сами. Пришли, хотели спросить, видят – Лейбл собирается в дорогу.
– Куда едете, реб Лейбл?
К нему уже обращаются «реб Лейбл»!
А он в Эрец-Исроэл уезжает.
Понимаете, какая история? Едва открылся, сразу уезжает в Эрец-Исроэл.
– И он уехал?
– Уехал!
Мачей спит.
Телега наезжает на ветку и безжалостно подпрыгивает. Страшновато. Но мы потихоньку едем дальше, и реб Мойше продолжает свой рассказ.
– Да, на чем я остановился? На том, что он уехал…
Был там еще один благочестивей, человек плутоватый и сердитый, со странностями, меламед для самых маленьких. Звали его Йосл сын Берче. И за этим самым Йослом сыном Берче посылает вдруг Лейбл перед отъездом! Дескать, он должен тому кое-что передать…
Кибитка готова, народу в ней полно, и все ждут, а они с Йослом все говорят о чем-то с глазу на глаз.
А дело-то было важное.
– Знай, – объяснил Лейбл Йослу, – что Князь Огня гневается на нашу общину!
А за что, спрашивается?
Это же самое спросил и Йосл сын Берче, но Лейбл ему ничего не сказал, а, может, и не хотел говорить. Сказал только, что рассказывать в подробностях – целое дело, а кибитка ждет, и он не хочет, чтобы извозчик ругался… В общем, Князь гневается и хочет сжечь все местечко. Но, говорит Лейбл, покуда я здесь был, не попускал… Ночами напролет сидел над святыми книгами… Князь Огня кинет искру на соломенную крышу, а я – слезу уроню на книгу, и эта самая слеза на странице гасит искру на крыше!.. Теперь вы понимаете, что это такое было в холамоед, а?! И так уже несколько лет, говорит, мы боремся: он – огонь, я – воду! Сегодня, говорит, уезжаю… Хочу, говорит, чтобы ты, Йосл сын Берче, защищал общину вместо меня… Обязательно должен быть кто-то местный.
– Что, ночами напролет сидеть над книгами и плакать? – спрашивает Йосл.