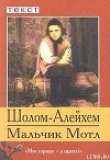Текст книги "Еврейские литературные сказки"
Автор книги: Ицик Мангер
Соавторы: Довид Игнатов,Дер Нистер,Ицик Кипнис,Мани Лейб,Мойше Бродерзон,Семен Ан-ский,Ицхок-Лейбуш Перец,Йойсеф Опатошу
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
И подошел давешний слуга, и велел мне слезть с оленя, и предложил мне еды и питья, и – сразу же как я поел – вернулся с ночной птицей…
Только ночная птица была теперь не та, что днем, и выглядела не облезлой и полуживой, но окрепшей и такой, как ей должно быть. И чем позднее, чем темнее становилось на скале, чем меньше на ней оставалось дневного света, тем больше и больше обретали глаза птицы свое обычное ночное зрение, и она смотрела на меня и меня сторонилась, снова и снова смотрела, и знать меня не хотела, и так, пока слуга не снял ее со своего плеча и ко мне, на мое не пересадил.
А господин со своей дочерью тем временем вышли из садовой калитки и оба оказались передо мной с птицей на плече, и прошли мимо, и я на этот раз не смутился перед господином, а перед его дочерью – смутился, и глаза опустил, и она мне улыбнулась, и света от одного взгляда ее и одной улыбки ее мне хватило на то, чтоб с ночной птицей на целую ночь остаться, и не только на одну ночь, но на множество ночей хватило этого света.
И ее взгляд ошеломил меня, и я едва мог поднять на нее глаза, и господин с дочерью в замке скрылись, а я с ночной птицей после их ухода простоял еще несколько минут, не сходя с места, и вдруг – ночная птица взмахнула крыльями и полетела прочь, прочь, и оставила мое плечо пустым.
И я испугался и пустился вслед за птицей, и увидел я, куда она полетела, и поспешил в ту сторону, и увидел, что она вылетела из замка, и напротив стены его, напротив окошка в стене, на ветке одинокой высокой пихты уселась.
И подумал я, что птица может меня покинуть, и мне снова стало страшно провиниться перед господином и не устеречь замок; поэтому поспешил я к дереву и решил ту птицу либо Добром приманить, либо силой взять. Но тут в стене, в той, что напротив дерева, единственное окошко осветилось, и померещился мне в нем силуэт дочери господина, и успокоился я сразу же и понял: что дерево и стена, что дочь и птица напротив, что это и есть охраняемое, и что это правильное место для птицы…
И я успокоился, а на скале уже была ночь, и птица сидела на дереве лицом к окошку оборотись, а я стоял под деревом и на птицу смотрел.
И в замке все уже стихло, и слуги из пристроек и стойл уложили прежде спать скот, а потом легли сами, и только время от времени из стойла доносился коровий вздох, только время от времени какая-нибудь курица на насесте пугалась.
А что происходило в самом замке, я не видел, и как слуги служили своему господину, не знал, и лег ли он уже спать или еще бодрствует, нельзя было узнать, и спит ли уже его дочь – тоже неизвестно.
Вдруг спустилась ночная птица с вершины дерева на ветку пониже, посидела немного на этой ветке, а потом покинула ее и спустилась еще ниже, – и так, с ветки на ветку, и так все ниже и ниже стала спускаться, и, сидя на ветке, почти что самой нижней и ближней к земле, она тихо повернулась ко мне, и тогда из листвы и перьев ее расслышал я ее голос:
– Уже вечер и все спят, и мы будем сторожить и останемся одни, а ты ведь чужак и не знаешь, что ты сторожишь, а я – здешняя и давно тут живу, и времени у нас довольно, и служба наша только началась, и хочу я тебе службу твою объяснить и долг твой разъяснить…
И она немного помолчала и продолжала:
– Дочь господина ты видел и ее окно напротив – тоже; там ее спальня, и спит она ночью одна, потому что матери нет у нее, а слуг и подружек отец туда не допускает; он-то знает, что повелитель облаков заприметил ее и уже давно ее любит, и давно хочет взять ее себе в жены, и сколько раз уже посылал он гонцов к нему, к ее отцу, и клялся, что готов на все, что ее уста или уста ее отца потребуют: хоть весь жемчуг из моря выловит, хоть все золото из-под земли добудет, и приедет с края света в золотой карете, и возьмет дочь господина ветров в жены, и озолотит ее, и дворец ей и замок среди самых высоких облаков построит; а отец и слышать не хочет, каждый раз посланцам повелителя облаков отказывает, и возвращаются они всегда с пустыми руками…
И глава облаков потерял голову, он любит ее и пылает к ней страстью, и места себе не находит, и бродит вокруг в тоске великой, – и вот, когда в последний раз он присылал гонца и снова получил отказ, он вбил себе в голову и поклялся: живую или мертвую, но он ее получит… И он сговорился с громом и молнией, непогодами и бурями, и отпустил их, пусть что хотят, то и делают, лишь бы ему помогли в его страсти…
И вот гром и молнии помогают ему, и непогоды и бури обрушиваются на нас время от времени, и штурмуют скалу, и хотят разрушить и ее, и замок, и отца убить, а дочь захватить для своего повелителя, и, быть может, им это и удалось бы, быть может, преуспели бы они в этом, если бы не я, ночной страж, и если бы не брат мой олень, страж дневной…
Ты удивляешься, что я зову оленя братом? Но мы оба в один и тот же день были подарены нашему господину, оба в один день стали ему подарком, и это был день его свадьбы; и так как желанная невеста его была сиротой, то день с ночью устроили ее свадьбу, день и ночь обряжали ее, и, провожая ее к жениху в его замок, пожелали ей счастья и хотели дать за ней множество вещей и всякого добра, но юный жених от всех вещей и от всякого добра отказался, и поднял он невесту на свои крылья, и с пустыми руками легок был их полет, и легка была их дорога, и только мне и оленю – я подарок ночи и он подарок дня – позволили они лететь и бежать за собой…
Но благопожеланий дня и ночи хватило ненадолго, и желанная отдала Богу душу совсем молодой, и осталось от нее лишь годовалое дитя, малышка; это дитя теперь выросло, и мы, я и олень, верны ей и преданны ей с детства, и ей – с младенчества без матери – мать заменили, а теперь, когда она выросла, и первые опасности встали у нее на пути, верность наша удвоилась, и преданность наша умножилась, и мы поделили меж собой время: я несу караул ночью, а олень, брат мой, – днем…
И повелитель облаков уже не раз пытался ночью напасть на нас, и всякий раз безуспешно, но сегодня, – я чую это в воздухе тихом, – повелитель снова готовится, и раньше или позже он снова сегодня попытается… Должен ты поэтому смотреть и быть начеку, и если плохо будет дело, и опасность будет близка, должен ты бежать к замку, и во все двери, во все ставни стучать, стучать, и отца ее, хозяина замка, разбудить… Но – тихо! Смотри!
И тут я увидел, как далеко на горизонте сверкнула, как бывает иногда летней ночью после жаркого дня, теплая маленькая и легкая зарница, и после этого стало ветрено, и ветка, на которой сидела птица, качнулась, и перья птицы вздулись, но кругом было все еще тихо, и замок с его этажами, и стойла с садом еще спали, и никто, кроме птицы, ничего в воздухе не чуял.
Но вспыхивали на краю неба одна за другой зарницы, тихо пока и без грома, но все чаще и чаще, и с каждой зарницей ветер крепчал…
И ветер стал сильней, и ясно стал виден серый блеск в стекле и в окошке, и в темном небе задвигались облака, и откуда они летят и куда, нельзя было еще понять, но первый глухой знак грозы, первый раскат глухого грома далеко, где-то на горизонте, в темноте, уже прокатился.
И после первого грома снова наступила на скале тишина, и ветер ненадолго утих…
Потом снова послышался гром, теперь уже сильнее и ближе, и после второго раската грома облака во мраке стали наступать на замок тяжелой поступью, и вся, до того погруженная в тишину и покой, окрестность изменилась, посуровела, и в надвинувшемся мраке я ощутил на себе первые капли дождя, – и сразу, почувствовав что-то, поднял голову к небу и – увидел:
Далеко на краю неба появилось какое-то светлое пятно, будто слабый отсвет пожара стал виден. И понял я, что это повелитель зажег там небо, и что оттуда грядет главная беда, оттуда идет буря.
Так вот…
Тут окликнула меня птица, и велела встать под дерево, и только я встал под дерево, как полил дождь, и раздался грохот, и светлое пятно в облаке приблизилось, и скала и сад на мгновение озарились адским пламенем.
И вместе со скалой пламя озарило и дерево, и птицу, и мне стало ее видно, и увидел я, что молния не испугала ее, и она только нахохлилась, втянула голову и так сидела, и смотрела спокойно, и это означало: «Ничего! Это только начало, самое серьезное впереди!» И снова наступила тьма, и во тьме полил ливень, и заспорили гром и молния, и замок, озаренный молниями, казался убогим, покинутым и брошенным на произвол судьбы, и приблизился повелитель, закованный в броню и огнепламенный, и из своего пламени выглядывал, и целился стрелой и натягивал свой лук, и взор его был устремлен на стену и на окошко в стене.
И вдруг птица будто почувствовала, что настает решающая минута, и среди потоков ливня вспорхнула она с дерева и подлетела к стене и к окошку, и повелитель увидел ее, и в ней своего старого врага и защитника замка узнал, и облако повелителя еще сильнее вспыхнуло бурным пламенем, и пустил тогда повелитель свою первую стрелу…
И показалось тогда, что земля раскололась, и скала не устоит, что скала вместе с основанием замка, вместе со стенами и крышей его, рухнет…
Страшные молнии метал повелитель, и каждая молния на долгие огненные мгновения ослепляла всю великую окрестную тьму, и все молнии были направлены в окошко… Но птица сидела на подоконнике на страже, и каждая молния встречала ее на своем пути, и все молнии только перья ей опаляли, а к окошку и внутрь она их не пропускала…
И когда повелитель увидел это, и когда он один раз и много раз выстрелил, а толку от выстрелов не было, и облака уже ослабели, и их грозовая плотность стала рассеиваться, и силы вот-вот могли их оставить, и повелитель мог оказаться без войска и помощи, – собрал он последние силы и зная, что надо отступать и что постигла его неудача, отвел глаза от окошка и от птицы и на скалу, на ее камни посмотрел, и, выждав немного, и оставив только дождь литься, застыл на минуту, словно совсем ослабел, но это был умысел, чтоб дело его посчитали проигранным и на продолжение боя не рассчитывали, и чтоб мог он тогда последним усилием скалу и камни взорвать…
И птица это поняла, потому что давно знала его, и все его повадки, и все его военные хитрости, и поэтому птица окликнула меня из гущи перьев своих и крикнула: скорей, чтобы я не терял ни мгновения, скорей, чтобы я бежал и тотчас, чтобы я отца, скорей, чтобы я хозяина замка разбудил…
И я побежал, и на другую сторону замка прибежал, и бросился к двери господина и к его ставням, и юными своими руками в великом страхе стал в дверь и ставни стучать и колотить, и вот, чего ни громы, ни молнии не смогли сделать, а не смогли они господина от его сна пробудить, того достиг я своими слабыми руками: господин вскоре вышел…
Прошло всего мгновение, а он был уже одет как на охоту, и свистнул он, и вот уже войско его готово; и поднялся господин в облака, и отогнал повелителя с его пылающим облаком, и стало оно где-то в стороне, а против замка его не видать.
И потом повелитель последним усилием в последний раз обрушил свой последний и сильнейший удар, но уже не достиг этот удар своей цели и не попал в скалу, а немного дальше за ней обрушился, и силы повелителя истощились, и стал он беспомощно отступать к тому краю неба, откуда явился.
И господин бросился в погоню и вскоре разогнал мелких сообщников повелителя, а потом пустился за ним самим, и нагнал его господин, и бросился прямо к его пылающему облаку и внутрь облака, и с силой ухватил повелителя за волосы и за бороду, и оба они еще долго таскали там друг друга за волосы и за бороду…
И опасность миновала, и господин вернулся домой после поединка, и окошко уберегли от ночи и нападения, и птица, уставшая от битвы, еще сидела на подоконнике; и когда всё успокоилось и от повелителя и его облаков не осталось и следа, и небо расчистилось, и господин вернулся в замок и лег на свое ложе, и войско его разошлось, – тогда птица отряхнула с себя влагу и вернулась на дерево, и тогда, увидев меня, повернулась ко мне и велела мне идти спать:
– Ступай, – сказала она мне, – опасность миновала, нынешней ночью уже нечего бояться, довольно волос потерял повелитель облаков из своей бороды, и на время он оставит нас в покое, и на время придется ему отказаться от нападений. Ступай…
И я вернулся в стойло, и нашел ворота приотворенными, и, войдя в темноте в стойло, я нечаянно натолкнулся на рога оленя и нарушил его сон, но олень не обиделся и не рассердился, но тихонько, слегка подвинувшись, приготовил мне на сене и на соломе место подле себя, чтобы мне лечь: ложись…
И я улегся рядом, улегся оленю под бок, тихо и подле него, и проспал ночь, а рано утром нас разбудил слуга, и олень получил свой завтрак, а я – свой, а потом слуга указал мне на спину оленя, и я взобрался на него.
И когда мы оказались в долине, сказал мне олень:
– Зеленый, сегодня ночью ты видел, как напал на нас повелитель облаков, и как ему ничего не удалось сделать, и как все его силы мы обратили в ничто; не исчерпаны, однако, его силы, и есть у него одна тайная сила, самая, быть может, мощная… И так, как выстояла против явных сил сестра моя птица, должны мы выстоять против тайной; наш противник – мох со своим войском, с мохвами… Удивляешься? На первый взгляд, есть чему удивиться. Когда говорят «мох – противник», это смешно, но, по правде говоря, это серьезно, и относиться к этому нужно серьезно:
Приходит мох втихомолку, мох – наемник облаков, поскольку он у них на содержании: что льют на него, тем он и питается, а служить – служит верно, и за облака пойдет в огонь и воду…
Приходит он, как сказано, втихомолку, иногда к подножью скалы, а иногда чуть повыше забирается, и выражение лица у него благочестивое, и нужно ему всего ничего, и просит он всего-навсего к скале прилепиться, потому как он слаб и не может сам на ногах держаться… И скала не отказывает, ну что же сделает мох скале, и места на ней довольно, и что на него смотреть, и что вообще ей этот мох…
А мох – скромник, и он держится сперва у ног скалы, у самых ногтей, и что ни день, то мох скромней, и потихоньку скала привыкает к нему, и позволяет она ему день дневать и ночь ночевать, а скала огромная, а скала кроткая в своей огромности, а скала мощная и в мощи своей глуповатая… И мох льстит ей и тешит ее мощь, и время от времени, когда скала не может уснуть, рассказывает ей перед сном сказки – и так вот заморочивает он ее, и так вот прилепляется к ней, и потом его уже не прогнать, пока не влезет он скале на голову…
А повелитель смотрит на это и любуется. Видит это повелитель облаков и усмехается в бороду. И ждет, и выжидает он, пока мох не вскарабкается до самого верху, и дальше ждет, пока не наступит жара и палящий зной, и тогда прикажет повелитель облакам, чтоб не давали они ни капли дождя… И однажды случится так, что господин ветров уедет из замка, и оставит скалу без присмотра, и отправится в карете по своим владениям, и оставит он дочь дома, потому что решит поберечь ее здоровье и не подставлять ее голову под палящее солнце, – вот тут-то улучит повелитель минуту и час, и явится нежданно, когда господин будет уже далеко в пути, и надвинется с облаками, и быстро-быстро, раз, два, молниеносно швырнет молнию, а горючий материал уже есть: мох за время жары хорошенько высох, и он сразу же вспыхнет, и замок и стойла окружит огонь, и (так надеется повелитель!) тогда замок сгорит в огне, и возьмет он дочь господина голыми руками… Как ты знаешь, птица, сестра моя, днем немощна, ибо ночи и молниям может она противостать, но против дня и мха она бессильна, и их она поручила мне, и это моя забота.
Слух мой уже различает, и ухо мое настороже и внемлет тому, как растет мох, и едва я заслышу, как где-то сеются маленькие семена его, как я уже там, и тотчас вижу их, и тут же искореняю мох зубами и копытами…
Это внизу, у подножья скалы, а когда повыше, когда место покруче, и не ведет туда ни одна тропинка, и я не могу туда забраться, так для этого дан мне ты, и если мало мха – руками его срывай, а если уже много наросло – тут понадобятся кремень и огниво…
Так поучал меня олень, и я внимал этому, и часто приводил он меня на то место, где скала была отвесна и усеяна острыми камнями, и куда не то что оленю, куда без рук не забраться, и я туда вскарабкивался, и что мог, то руками выдирал, а что не мог, когда много было мха, я высекал из кремня огонь и поджигал, и, пожегши, всегда ждал вместе с оленем, пока огонь все не выжжет и не слижет, и так, слизывая, сведет на нет всю тихую и долгую работу мха…
И так целый день, то часто, то время от времени, и где мог олень, сам работал, а где не мог – туда посылал меня; и за это, перед наступлением ночи, когда мы, отслужив нашу дневную службу, поднимались на скалу и к вечеру возвращались, встречал нас всегда господин и выходил к нам навстречу, и оленю гладил шею и рога, и меня тоже, когда взглядом, когда словом дарил, и затем, побыв с нами немного и нас поблагодарив, уходил в сад свой вечерний, где в беседке всегда ждала его дочь. А порой она стояла у калитки и смотрела, как он встречает нас и хвалит нас за дневную службу, и лишь иногда, очень редко, она тоже выходила к нам и тоже нас благодарила.
Вечера я снова проводил с ночной птицей, и когда приближалась опасность, я уже различал ее предвестья в воздухе, и уже не ложился спать, пока не проходила опасность; а когда ничто не предвещало опасности, я еще некоторое время проводил с птицей: нравилось мне сидеть под высоким деревом, так, чтобы надо мной, на ветке сидела птица, – и за эти вечера, проведенные с ней, птица хвалила меня; и оба мы всё смотрели на стену напротив и на окно в стене, и птица мне тем временем когда о господине, когда о дочери его рассказывала, а когда и о них обоих, и я слушал с наслаждением.
И вот однажды вечером, когда я пришел к птице и к дереву, уселся и стал ждать рассказа, птица подала мне знак вести себя тихо: тихо и чтобы ни слова.
– Что такое, что случилось? – спросил я у птицы.
– Тсс, Зеленый, не спрашивай, встань под деревом и спрячься за ним, и смотри, и ничего не говори, – ответила она мне.
Я встал под дерево и спрятался за ним, и простоял там недолго, и как все затихло, и день кончился, и тишина окутала все кругом, так с той стороны замка, где были покои господина, вышел зачем-то сам господин, тихо, будто крадучись, скрытно, и так, чтобы кто-нибудь не услышал его шаги, и в руке он нес фонарь, и фонарем освещал себе дорогу, и тихо, держа фонарь у самой земли, подошел с ним к дереву и там погасил его, и тихо, оставаясь в темноте, к стене и к окошку повернулся.
И окошко было, как всегда в это время, темным и сонным, и стекло смотрело по-вечернему тускло, и занавеской было оно занавешено, и занавеска была опущена, и можно было подумать, что дочь уже легла спать и спит, как и весь замок, но господин так не думал, и господин был прав…
И он простоял так несколько минут, глядя вверх, и вдруг за занавеской мелькнул огонек, сперва колеблющийся и маленький, как будто надолго его не хватит и он вот-вот погаснет, – но не погас, и вскоре стало видно, что он был зажжен надолго, и так горя, освещал он всю комнату изнутри и немного светил наружу.
И господин смотрел и глаз не мог оторвать, и стоял тихо, не шелохнувшись, и только время от времени, когда силуэт дочери показывался за занавеской и скользил по ней тенью, господин подавал признаки жизни, шевелился и переводил дыхание…
И господин долго, пока горел огонек, ждал, а потом, когда огонек погас, и дочь вправду легла спать, господин снова зажег свой фонарь, и перестал смотреть на окошко и отошел от дерева и направился затем к своим покоям и скрылся там, откуда явился.
И птица велела мне тогда выйти из-за дерева, и я вышел, и встал я перед ней, и сказала она мне:
– Ты видел, Зеленый: господин следит за дочерью, он подглядывает под ее окошком, потому как он что-то подозревает, и его подозрение не напрасно: что-то она от него скрывает, это он недавно заметил, а мы, то есть я и олень, уже давно знаем об этом, нам не надо ничего говорить, нам и взгляда довольно…
И мы видим, что с дочерью нашего господина что-то неладно, и заметили мы, что у нее на уме что-то новое, чего не было прежде: по ночам принимается она успокаивать замок, ждет, пока все не погрузится в сон, и тогда зажигает свой огонь, и что-то делает, и что-то, кажется, пишет при свете…
И еще приметили мы: в последнее время она уже несколько раз отказывалась от своей обычной вечерней прогулки с отцом, той, что его так радует, хотя с тех пор как она повзрослела, эта прогулка у них как закон; но она стала отказываться и оставаться одна в комнате, и как стемнеет, и как только первая летучая мышь прочертит первые вечерние зигзаги, так дочка подзывает ее к окошку и долго с ней общается, говорит с ней и что-то там с ней делает, и, могу поклясться, передает ей письмецо, и, если мое зрение меня не обманывает, я видела потом это письмецо на лапке у летучей мыши…
И с кем она переписывается, нам не ясно, и что это за секрет у нее от отца, мы не знаем, и отец ее уже не раз меня об этом спрашивал, и мне приходилось прикидываться не ведающей и отвечать ему, что я ничего не знаю… И отцу это кажется удивительным, и он хочет это дело разведать, и часто приходит он под окошко и, как сегодня, стоит до тех пор, пока в окошке не погаснет свет, и после этого уходит, как мне кажется, ни с чем…
Так сказала мне птица, и, выслушав ее, я пошел спать, а наутро рассказал это все оленю, но и у оленя, похоже, не было никаких сведений, и он серьезно выслушал меня, и задумался, и когда я спросил его: «Олень, о чем ты думаешь?», он мне ответил:
– Я думаю о доченьке нашего господина и еще о том, что предстоит нам дальняя дорога.
– Куда?
Он ничего не ответил, и увидел я, что он что-то знает, и не то, чтобы знает, а чувствует, что знает, но пока не может об этом поведать и прячет это в сердце под своей шкурой и в голове под рогами…
Шло время, и я – днем с оленем, а ночью с птицей – охранял замок и ничего и никого к нему не подпускал, а пытались и мохвы, и повелитель облаков тоже пытался, но им не удавалось; и повелитель облаков уже потерял надежду, потому что видел, что дочь господина не глядит на него, и каждый раз, когда после битвы с ее отцом борода его все больше редеет, она насмехается над ним; он уже устал от войны, но со стороны следил за замком и глаз с него не спускал, потому что все равно хотел знать, что будет и кого выберет дочь, и не сможет ли он хоть кому-нибудь помешать… И так как он видел, что письма, которые пишет дочь, поднимаются вверх выше самых высоких облаков, и видел, что летучая мышь, получив письмецо, передает ее ветру, который потом несет его еще выше, – так вот, так как все это он видел, то решил, что письма не должны попадать туда, куда надлежит, а должны намокать и падать вниз.
И дочь это видела: потому что, сколько она ни писала, ответа она никогда не получала – не иначе, кто-то стоит на ее пути и перехватывает ее письма… А она не напрасно писала эти письма, и она была уверена в том, к кому обращалась, потому что не она начала эту переписку…
И она тосковала, и отец ее это замечал, и очень тревожился, но спрашивать ни о чем не спрашивал, потому что об этом родители не спрашивают у детей, а она ему ничего не говорила, только, стоя перед ним, все время опускала глаза. Поэтому он знал, что с ней что-то происходит, но не у кого было ему спросить и узнать, и нас тоже, меня, оленя и птицу, это заботило, и мы хотели ему помочь, а как – не знали, но наша преданность ему была велика, и мы – ночью с птицей, а днем с оленем – говорили об этом и искали выход…
И однажды, когда мы с оленем стояли на страже в долине, и был облачный день, и дождь то лил, то переставал, – мы вдруг увидели, как что-то белое упало из облака… И тяжело пролетело оно по воздуху, потому что от дождя намокло, и упало к подножью скалы, и тут же олень сорвался с места, и вместе со мной рванулся к тому месту, и олень велел мне это поднять, и я поднял, и приказал он мне хранить это до вечера, пока мы не вернемся на скалу, и тогда – вручить это нашему господину, потому что это, может быть, то, что ему нужно…
И мы несли дозор весь день, и я хранил находку, и видел, что дождя больше не будет. И вечером, когда мы вернулись на скалу, и господин на этот раз, как вообще все последнее время, не вышел встретить нас, олень подвез меня не к стойлу, а к садовой калитке, подвез и вместе со мной остался стоять. И заметил нас господин, и понял он: что-то необычное привело нас на это необычное для нас место, и он подошел к нам, и я тут же вручил ему то, что упало из облака.
А это было письмо; мы сразу это заметили, когда он взял его в руки, потому что он взял его с удивлением и что-то там с радостью разглядел, но прочитать его он не мог, и мы, сделав свое дело и ничего больше не ожидая от нашего господина, повернулись и отправились в наше стойло.
И в тот же вечер птица встретила меня радостно:
– Хорошо, Зеленый, что ты пришел, еще лучше, что ты нашел, и сдается мне, что господин очень счастлив, что эта находка – ключ к тайне…
И она рассказала мне, что слышала, как господин позвал слугу и приказал, чтобы завтра все ветры, все, летающие по свету, особенно из жарких краев, были созваны: всем найдется работа, будут сушить находку пока не высушат, потому что эта находка – письмо, и с первых же слов прекрасное, и с первых же слов узнал господин почерк своей дочери, но прочесть письмо нельзя, так как облако промочило его… И еще рассказала мне птица, что господин уже обо всем догадывается, и что даже и без письма он уже на пути к разгадке тайны. Потому что всякий раз, когда дочь оставалась одна в комнате и не шла гулять в сад, следил он, ее отец, за ней, и сам следил и слугу следить приставил, и оба они заметили, что вечером, когда смеркалось и когда вечерняя звезда начинала сиять на небе, дочь обращала к ней взор, но говорить ничего не говорила, потому что ее слова не могли достигнуть до звезды, но по ее взглядам и ее поведению было понятно, что между ней и звездой что-то происходит, и звезда мерцает для нее и на далеком золотом языке что-то ей говорит, а она стоит, потупив глаза, но время от времени поднимает их, смущается и снова опускает… И господин обрадовался, но дочери своей радости не показал, и он ждал и выжидал, пока она сама ему не скажет, и если не теперь, то в другой раз…
– А потом, – сказала птица, – господин в конце концов позвал меня и стал расспрашивать и стал выяснять, что она делает ночью при свете лампы, и я сказал, что вроде она пишет письма. «А с кем она их посылает?» – спросил он, и я сказала: «С летучей мышью». И спросил он летучую мышь, и она ответила, что она передает письма ветру. Он обратился к ветрам и узнал от их посланца, что часто, почти каждый вечер, получает он от нее письма, и есть у него приказ от нее нести письма выше облаков, вот так вот, и когда господин до всего дознался, он вспомнил о своем враге, повелителе облаков; господин был уверен, что хоть тот и отказался от войны, но глаз с замка не спускает, и страсть повелителя к дочери от бессилия его не стала меньше, а наоборот, окрепла, и он пробует всеми средствами никого к ней не подпустить – поэтому господин и стал выведывать судьбу письма, ведь повелитель облаков начнет из кожи вон лезть и пробовать выше головы прыгнуть, если увидит, что письмо можно задержать, чтобы оно не дошло туда, куда было послано…
– Ну вот, – прибавила тут птица, – а ты нашел письмо, и все теперь выяснится, и тогда мы увидим, что предпримет господин.
– Спокойной ночи, Зеленый, – так сказала мне птица, и я пошел спать.
А наутро, когда ветры со всех концов земли стали слетаться и собираться, мы с оленем едва могли устоять в долине. И как олень ни упирался, но ветры были сильнее, и они его чуть с ног не сбили, так что, в конце концов, нам пришлось встать-таки под нависшей скалой и долго там пережидать.
А ветры тем временем сорвали кровлю с замка, повыдергивали травы и верхушки деревьев, и дочь вышла из замка и спросила у господина, что у него сегодня за сходка ветров такая, и он ей ответил, что должен поменять их местами и по-другому расставить в мире, и он попросил ее, чтобы она пошла обратно в замок и переждала, пока ветры не получат свои назначения и не разлетятся.
И дочь вернулась в замок, и господин остался один, и взял он то письмо и поднял его высоко, и велел ветрам дуть, и особенно ветрам пустыни, и они явились с горячей и сухой пылью, и падала пыль на промокшие буквы, и буквы становились ясными и бумага – сухой… И тогда господин велел им отступить и уняться, и ветры унялись: письмо уже высохло, и в письме было написано: «…уж сколько я посылала, и ни на одно нет ответа. Не иначе, на пути у нас враг стоит, и не пускает мои письма к тебе… И сколько раз уже я с моим папой вечером в саду гулять отказывалась, и папа спрашивает меня почему. И мне нечего сказать в оправдание. И я стою у своего окна, жду твоего сияния и золотого ответа с твоих небес, и – хоть мне ясен смысл твоего мерцания, но все же я хочу, чтобы перед моими глазами были знаки любви, начертанные твоей рукой, а если твои письма не могут меня достигнуть из-за того же, из-за чего и мои тебя не достигают – из-за врага – дай мне знак или какое другое знамение, потому что я люблю своего папу, и в нем – вся моя жизнь, и долго я не выдержу, и долго не смогу перед ним лукавить… Ты, сердце мое, поймешь меня и не заставишь долго ждать».
Этими словами и подписью дочери нашего господина заканчивалось письмо, и господин продолжал стоять с письмом в руке, и ветры, глядя на него и видя, как он поглощен этим письмом, ждали до тех пор, пока господин от своих дум не очнулся и не увидел, что ветры ждут… Тогда отпустил он их и велел возвращаться по своим уделам, и остался стоять один, как стоял, и еще какое-то время не сводил с письма глаз… а потом, когда он уже все письмо, и каждое слово его, и каждую букву знал наизусть, тогда он вспомнил о дочери, и что он велел ей идти обратно в замок, и понял любовь ее дочернюю, и как велика она, и то, что еще сильнее любит она того-кто-в-небесах, и увидел он, какая участь постигла ее письмо, и то великое расстояние, что отделяет его дочь от ее суженого… Пожалел он ее и разделил он ее горе, и – хоть разлука с ней была для него тяжела, и – хоть не мог он себе представить, что потеряет ее, но рассудил он дело по-отцовски, и сердце его наполнилось великой радостью, и целый день он с письмом и сам с собой проговорил…
А в конце дня, когда мы с оленем еще были в долине, и наша дневная служба еще не закончилась, господин не выдержал и пришел с письмом к ночной птице, а та еще с закрытыми глазами в древесной листве почивала, но он разбудил ее и сообщил радостную новость – все, что он знает, и что тайна дочери больше для него не тайна, и что сегодня он прочел ее письмо, и все ему стало ясно…