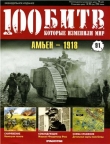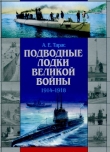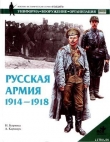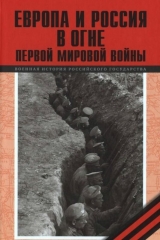
Текст книги "Европа и Россия в огне Первой мировой войны (К 100-летию начала войны)"
Автор книги: И. Новиков
Соавторы: И. Новиков,А. Литвин,А. Матвеева,Д. Суржик,Ю. Кудрина,В. Симиндей,А. Зотова,Д. Селиверстов,С. Артамошин,С. Назария
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 54 страниц)
В ходе переговоров о мире в Брест-Литовске уже в начале января 1918 г. стало ясно, что германское правительство не желало заключения мира на справедливых условиях и предъявило захватнические требования. Возглавлявший советскую делегацию Л.Д. Троцкий отказался принять ультимативные требования немецкой стороны, заявив в то же время, что Советская страна вести войну не будет и демобилизует армию. Такое поведение Троцкого было использовано немцами для возобновления военных действий.
18 февраля 1918 г. германские войска, нарушив условия перемирия, перешли в наступление на широком фронте от Рижского залива до устья Дуная. При отсутствии необходимых сил и вооружения российские войска начали беспорядочно отступать. В первые же часы штабы армий Западного фронта потеряли управление войсками. За несколько дней германские войска фактически без сопротивления захватили большую территорию. В ночь с 19 на 20 февраля 1918 г. штаб Западного фронта был эвакуирован в Смоленск. 21 февраля первый эшелон германских войск прибыл в Минск, а до конца февраля ими были оккупированы Двинск, Могилев, Полоцк, Гомель, угрожали Витебску, Орше и другим городам Беларуси.
На северном направлении немецкие войска создали угрозу захвата Петрограда. Нависла реальная угроза потери советской власти. 21 февраля 1918 г. Совнарком РСФСР обратился к народу с воззванием «Социалистическое отечество в опасности!», призывая к защите Советской республики. 23 февраля главнокомандующий Западным фронтом А.Ф. Мясников отдал приказ о мобилизации всех годных к военной службе мужчин для отпора противнику и задержании его на линии Витебск – Орша – Могилев – Гомель. Уже в первые дни удалось мобилизовать до 10 тыс. человек, из которых поспешно формировались части Красной армии. Было организовано сопротивление германским войскам (461). На отдельных участках их продвижение было приостановлено. На линии Могилев – Быхов – Рогачев действовали части Красной армии и красногвардейские отряды, в районе между Бобруйском и Жлобином – 3-я бригада латышских стрелков, подступы к Гомелю обороняли 1-й и 2-й Гомельские батальоны, 1-й и 2-й Клинцовские, Унечский и Московский боевые отряды. Германские войска были остановлены на линии Невель – Витебск – Орша – Гомель. Наступление противника и боевые действия были прекращены подписанием 3 марта 1918 г. в Бресте советско-германского договора.

Гродно: немецкие офицеры и местное население. 1918 г.
Первая мировая война имела чрезвычайно разрушительный характер и явилась большой трагедией для многих народов мира. Белорусские губернии поставили на фронт не менее 900 тыс. человек, из которых около 100 тыс. погибло на фронтах войны (462). Кроме того, война нанесла большой материальный ущерб, поставила экономику Беларуси на грань опустошения.
Недостаточная военно-техническая и экономическая мощь России в условиях противоборства на измор привела к краху Российской империи. Неизмеримые страдания и жертвы трудящихся масс и солдат на фронте вызвали такие мощные социальные потрясения, как Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская социалистическая революции 1917 г., вызвавшие, в свою очередь, затем кровопролитную Гражданскую войну и иностранную военную интервенцию.
Планы Германии в отношении Беларуси. Немецкий оккупационный режим
Германия в своем движении на восток стремилась осуществить давние планы и оторвать от Российской империи ее западные провинции. Необходимо отметить, что, начав в августе 1914 г. военную кампанию против России и Франции, Германия рассчитывала на быструю победу и поэтому не имела детально разработанной концепции о будущей судьбе территорий, которые будут захвачены в ходе войны. Ее разработка осуществлялась уже непосредственно в ходе военных действий – в конце 1914 – первой половине 1915 г. (463).
Германская политика в отношении Беларуси в годы войны осуществлялась в русле политической тактики, которую немецкие власти использовали в отношении оккупированных северо-западных губерний Российской империи. Спекулируя на межнациональных и конфессиональных различиях между народами, проживающими в регионе, немецкие власти стремились облегчить реализацию своей главной цели по отторжению от Российской империи Курляндии, Литвы, польского «пограничного пояса», а также северо-западных белорусских земель.
Территория Беларуси рассматривалась Берлином в качестве «разменной карты» при разрешении польского и прибалтийского вопросов в периоды активизации попыток мирных переговоров с Россией. Понимая, что Россия не согласится с отделением Западной Беларуси, последней отводилась роль своеобразного «залога», который будет возвращен в состав России в случае ее согласия с установлением германского контроля над Курляндией и Литвой. Буферное польское государство должно было служить для Германии защитным валом от русского вторжения, поэтому поддерживались предложения польских германофильских кругов о расширении Польши за счет белорусско-литовских территорий (464).
Профессор П. Рорбах, политик, близкий к Э. Людендорфу и министерству иностранных дел, «авторитетный» специалист по русским вопросам, видел главный вопрос в том, «кому будут принадлежать поляки – России или Срединной Европе и сколько людей войдет путем отделения Польши от России с русской на сторону „Срединной Европы“» (465). П. Рорбах активно выступал за включение Беларуси в состав Польского государства и рассматривал этот шаг как средство компенсации Польши за Познань. Так как поляков слишком мало, чтобы их отделение от России могло ее существенно ослабить, то, по мнению П. Рорбаха, необходимо присоединить к Польше белорусские области, и «чем больше, тем лучше». Это необходимо сделать по чисто политическим соображениям. В этом случае, писал Рорбах, «при определении выбора между Россией и Срединной Европой у поляков, надо полагать, чаша весов склонится ко второй альтернативе и, – что является решающим, – одновременно будет загнан политико-географический клин, который отделит Польшу от России и крепче „ее привяжет к будущей Срединной Европе“» (466).
Однако финансовые и промышленные круги Германии, прусское юнкерство выступили против перспективы польской экспансии на Восток, против совершенно ненужного, с их точки зрения, посредничества польского чиновника или тем более польского фабриканта. «Курляндия, Литва, губерния Сувалкская и занятые части губерний Виленской, Гродненской и Минской должны составить особую область и быть присоединены к Германской империи. Они должны стать местом колонизации, столь нужной для населения Германии» (467). В основе планов Военного министерства и особенно командования Восточным фронтом лежали военно-стратегические интересы Германии. Открытый сторонник расширения Германии в Восточной Европе генерал П. Гинденбург потребовал «до предела сузить коридор соприкосновения русских и польских границ путем создания прусской провинции от Бяловиц до Брест-Литовска». По мнению П. Гинденбурга, присоединение белорусских земель к Пруссии должно было вбить «клин между аннексированной Литвой и новой Польшей» (468).
Политическими соображениями руководствовались немецкие власти при территориально-административном устройстве оккупированных областей, хотя попутно решались и хозяйственные задачи.
Первоначально белорусские земли вошли в округа («бецирки») «Гродно», «Белосток», частично в «Вильно» и «Сувалки» (Августовский уезд с преимущественно белорусским населением). Юго-западная часть Беларуси с Беловежской пущей, территория которой была занята войсками 12-й немецкой армии под командованием генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского, также переходила в ведение главнокомандующего Восточным фронтом генерал-фельдмаршала П. фон Гинденбурга. Особый статус был придан Брест-Литовску, где с середины 1916 г. до весны 1918 г. размещался штаб главнокомандования германским Восточным фронтом. Наиболее богатые лесными ресурсами территории были выделены в «военные лесные управления» Белосток, Гродно и Беловеж (469).
Оккупированная осенью 1915 г. западная часть Беларуси была включена немцами в военно-административные округа «Литва» (в составе Ковенской, Виленской и Сувалкской губерний) и «Белосток – Гродно». Вместе с округом «Курляндия» они подчинялись Главному командованию Восточного фронта (Обер Ост). В октябре 1916 г. округа Гродно и Белосток были объединены в «Военное управление Белосток – Гродно» с административным центром в Белостоке. Такой округ напоминал о бывшей принадлежности этой территории после раздела Речи Посполитой (1796–1806) Восточной Пруссии. Объединение округов Гродно и Белосток ясно показывало полякам, что немцы не хотят их отдавать будущему Польскому государству и сохраняют здесь свой контроль. Неслучайно Э. Людендорф с восторгом называл Белосток «центром прекрасной прусской администрации Новой Восточной Пруссии в конце XVIII – начале XIX вв.» (470).
А. Э. Энгельгардт, работавший в политическом отделе «Обер-Оста», в своей книге написал о военном управлении округа «Белосток – Гродно» как о «славном подвиге немецкой организации» (471).
Весной 1916 г. Сувалкская губерния была присоединена к Виленской губернии и составила с последней один административный округ «Военное управление Вильно – Сувалки» с центром в Вильно, который впоследствии, 15 марта 1917 г., был слит с округом «Литва». Сувалкские земли уже присоединялись к Пруссии после третьего раздела Речи Посполитой и вместе с Белостокским округом входили в состав «Новой Восточной Пруссии» (472).
Начальник штаба Восточного фронта генерал М. Гофман, оценивая политические последствия этих территориально-административных перестановок, сделал 11 ноября 1917 г. в своих дневниках следующую запись: «Объединение управления Литвы и Вильно – Сувалки с центром в Вильно давало понять полякам, что мы Сувалкскую губернию, которую Наполеон когда-то обещал присоединить к Польше, хотим отдать не Польше, а удержать для себя» (473).
Порядок управления оккупированными землями был нацелен на первоочередное удовлетворение интересов Германской империи и ее армии. Несмотря на разруху и обезлюдение края в результате боевых действий, оккупанты интенсивно эксплуатировали его хозяйственные и трудовые ресурсы. Этой цели служили массовые реквизиции продовольствия, скота, шерсти, металлов, система разнообразных налогов, пошлин, штрафов, доходов от государственных монополий. Для заготовки древесины массово вырубались леса, особенно в Беловежской пуще. На военных и хозяйственных объектах использовался принудительный труд местного населения. Несанкционированная политическая деятельность была запрещена. Исключительно строго контролировались передвижения жителей.
Национально-культурная политика оккупационных властей была направлена, с одной стороны, на возможно более отчетливое обособление края от России, с другой – на нейтрализацию здесь польского влияния, усилившегося после ухода в беженство значительной части белорусского православного населения. В этих целях оказывалась поддержка литовской, белорусской, еврейской культуре. В школах края обучение на русском языке было запрещено, преподавание велось на немецком или на одном из местных языков. При этом подчеркивалось, что белорусский язык не идентичен русскому и допускается без ограничений. Наряду с другими языками он использовался в обращениях властей к населению, при оформлении паспортов, разрешалось открывать белорусские школы. Согласно официальным немецким данным, к марту 1918 г. на территории Обер Ост действовали 89 белорусских начальных школ, а также белорусская учительская семинария в мест. Свислочь Гродненской губернии. С февраля 1916 г. до конца 1918 г. в Вильно на белорусском языке издавалась газета «Гоман».
Изменение в ходе военных событий геополитического положения Беларуси актуализировало вопрос о ее будущем государственном статусе. Оставшиеся на оккупированной территории деятели белорусского национального движения стремились использовать возникшую ситуацию для того, чтобы утвердить Беларусь в послевоенном мире в качестве самостоятельной национально-государственной единицы. Рассматривались проекты реализации идеи самоопределения путем восстановления многонационального государства в исторических границах бывшего Великого княжества Литовского. Для этого в конце 1915 г. организован блок литовских, белорусских, польских и еврейских политиков – Конфедерация Великого княжества Литовского. Однако руководители литовского движения вскоре отошли от этого проекта, выдвинув на первый план цель создания своего этнонационального государства. Поляки и евреи также не проявили заинтересованности в возрождении ВКЛ. В итоге в январе 1918 г. на Белорусской конференции в Вильно была образована Виленская белорусская рада как орган собственно белорусского представительства. Тем самым наметилась линия на создание национального государства в границах расселения белорусского этноса.
Неблагоприятный для Германии ход войны на Западе не позволил ей до конца определить свое отношение к провозглашенной в Минске в марте 1918 г. в условиях оккупации Белорусской Народной Республике (БНР). Данным шагом деятели белорусского национального движения надеялись исключить пагубные для Беларуси последствия Брестского мирного договора, рассчитывая в этом на международную поддержку, в первую очередь со стороны Германии. Однако несмотря на продемонстрированную местной оккупационной администрацией во главе с Э. Фалькенхайном заинтересованность в контактах с лидерами БНР, готовность уступить органам белорусского представительства часть управленческих функций, финансовую поддержку ряда белорусских культурнических проектов – на правительственном уровне Германия воздержалась от официального признания независимости ВНР, поскольку тем самым нарушались бы мирные договоренности с Советской Россией, избавившие Германию от войны на два фронта. Это обстоятельство было одной из причин запрета германским командованием на создание под эгидой ВНР белорусских воинских частей и милицейских формирований. Не получив внешнего признания и оставшись беззащитной в военном плане, Беларусь (в отличие от Польши, Литвы, Финляндии, Латвии, Эстонии и других стран, ставших независимыми в результате мировой войны), не смогла тогда состояться в качестве суверенного государства.
В августе 1918 г. Германия, находясь на грани поражения в войне, подписала с РСФСР Добавочный договор, в соответствии с которым в сентябре-октябре начала выводить свои войска с территории Беларуси между Днепром и Березиной. На смену им из Советской России двигались части Красной армии, 31 октября они заняли Могилев.
Ноябрьская революция в Германии и ее капитуляция перед странами Антанты (11 ноября 1918 г.) ускорили процесс вывода германских войск из Восточной Европы. Советская Россия аннулировала Брестский договор, и ее войска после отхода немцев постепенно занимали территорию Беларуси.
10 декабря 1918 г. советская власть утвердилась в Минске, во 2-й половине декабря – в Молодечно, Лиде, Барановичах, 6 января 1919 г. – в Гомеле. К февралю 1919 г. Красная армия закрепилась на линии Вильно – Лида – Слоним – р. Щара – Огинский канал – Сарны.
* * *
Первая мировая война была первой войной за предшествующие два столетия, которая коснулась судеб всего населения Беларуси.
События Первой мировой войны коренным образом изменили устоявшийся веками государственный строй Российской империи, на обломках которой возникли новые государственные образования. Это обстоятельство коренным образом отразилось на судьбах населения и территории Беларуси.

Народный Секретариат Белорусской Народной Республики. Слева направо: сидят А. Бурбис, И. Середа, И. Воронко, В. Захарко; стоят А. Смолич, П. Кречевский, К. Езовитов, А. Овсяник, Л. Заяц.
Беларусь, оказавшись в силу своего географического положения на стыке военно-политических устремлений Германской и Российской империй, с конца 1915 и до конца 1918 г. была перерезана линией российско-германского фронта. Для обоих противников она играла роль театра военных действий, прифронтовой зоны и тылового района. За четыре года войны население Беларуси пережило чередование нескольких властных режимов: царского самодержавия, германских оккупантов, российского Временного правительства, советской власти.
В повседневность здесь вошли чрезвычайные законы военного времени, реквизиции, принудительные работы, разрушение сел и городов, постоянная опасность для жизни. Война вызвала массовые миграции людей из Беларуси, через Беларусь и в Беларусь: беженцев, призывников, российских и германских солдат и офицеров, рабочих военных предприятий, чиновников различных тыловых учреждений, военнопленных и др.
Общие людские потери Беларуси за время мировой и последующей польско-советской войны (гибель военнослужащих на фронтах, повышенная смертность гражданского населения, уменьшение рождаемости, невозвращение из беженства) оцениваются демографами более чем в 1,5 млн человек.
Война разрушила устоявшиеся социальные институты, экономику, привела к деформированию структуры населения, серьезным изменениям в общественном сознании, духовных ценностях, морали людей. Вызванная войной социальная катастрофа породила небывалый революционный взрыв, вызвавший смену общественно-политического строя. Составным элементом этих кардинальных изменений явился рост национального самосознания белорусского народа, оформление идеи государственной независимости и попытка ее реализации в форме БНР и БССР, начало превращения Беларуси из объекта в самостоятельный субъект международного сообщества.
5.5. Молдавия
Роль Бессарабии в этой войне менялась: из глубокого тыла край превратился в прифронтовую полосу, а в самом ее конце изменилась и его государственная принадлежность. В 1914 г. он становится базой снабжения Сербии (474). Однако в результате австро-германского наступления на Восточном фронте в 1915 г. по самому северному Хотинскому уезду прошла линия фронта. В 1916 г. русские войска заняли Луцк, Черновцы, Станислав, очистили от неприятеля север Бессарабии, форсировали Днестр, Прут. После вступления Румынии в войну вся Молдавия стала прифронтовым районом.
Бессарабия была сельскохозяйственным краем, и в 1916 г. для нужд армии государство закупило здесь зерна, фуража и скота на 181 млн рублей, что превысило аналогичные операции пяти вместе взятых губерний: Курской, Орловской, Пензенской, Оренбургской, Рязанской. При этом средства производства были распределены крайне неравномерно между разными слоями населения. Так, в 1917 г. в крае было 1742 помещика, которым принадлежало 1,2 млн десятин земли, или 32,1 % земельного фонда. Одновременно насчитывалось 98 тыс. безземельных крестьянских дворов (21,6 % хозяйств), 90 тыс. (20,4 %) – с наделом до 0,5 десятин и 130 тыс. (29 %) – с наделом до 2,5 десятины (475).
В годы войны, в связи с широким строительством железных и шоссейных дорог в Бессарабии, резко увеличилось число железнодорожных и строительных рабочих, составив осенью 1917 г. более 17 тыс. человек. Однако в промышленности было занято немного рабочих – на 82 предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, в январе 1917 г. их было 2 тыс. До войны таких предприятий было 128 (476).
За 1914–1917 гг. в русскую армию было призвано 300 тыс. бессарабцев. Кроме того, население выполняло «гужевую» повинность и участвовало в строительстве железных дорог. С апреля 1915 по февраль 1916 г. на окопные работы было отмобилизовано 125 тыс. человек и 15 тыс. повозок. Бесконечные реквизиции скота для нужд армии привели к сокращению тягловой силы. До минимума уменьшился привоз сельскохозяйственных машин и инвентаря, что также способствовало упадку сельского хозяйства. Прежде всего это выразилось в сокращении к 1917 г. посевных площадей на 19 % и валового сбора зерна на 27 %. По сравнению с 1914 г. в 1916 г. в Тираспольском уезде посевные площади сократились на 28 %, в Кишиневском – на 50 %, а в Оргеевском – на 60 %. В октябре 1916 г. земство сообщало: «В Болдурештской волости до сих пор вовсе не приступили к осеменению полей, а в остальных волостях до сих пор засеяно не более 10–20 % общей площади» (477).
Параллельно росла инфляция. В марте 1917 г. по сравнению с 1913 г. цены на продовольствие выросли в 7-12 раз. Все это подогревало недовольство войной и вело к росту антиправительственных революционных настроений. Усиливается стачечное движение, а в селах участились случаи, когда новобранцы, чтобы не оставлять семью без хлеба, перед призывом в армию забирали урожай у помещиков. К этому движению подключались и женщины-солдатки. В связи с призывом в армию кормильцев крестьяне повсеместно отказывались платить налоги, уклонялись от реквизиций скота, бежали с оборонных работ. В период с 1914 по 1916 г. протестные акции крестьян имели место в 75 селах Бессарабии.
Настроения городских и сельских трудящихся передавались и войскам, расквартированным в крае. Так, к примеру, лишь в первой половине января 1916 г. из 42-го пехотного батальона, расположенного в Бендерах, дезертировали 92 бессарабца. А в конце декабря солдаты 12-го Кавказского стрелкового полка, стоявшего в Аккермане, отказались выехать на фронт. В ходе силового подавления этой акции было убито 4 человека, 5 – приговорили к смертной казни, а 136 – к каторжным работам на срок от 3 до 20 лет (478).
Однако начавшаяся русская революция в корне изменила судьбу Молдовы. Провозглашенное право народов на самоопределение дало и молдаванам возможность самим решать свою судьбу. Вскоре после Февральской революции частью интеллигенции овладела идея автономии Бессарабии. Наиболее энергично выступали за нее активисты Молдавской национальной партии.
Правда, при этом следует иметь в виду, что с самого момента своего создания МНП не пользовалась поддержкой среди крестьян (479). И если у лидеров данной партии и существовали прорумынские настроения, они их тщательно скрывали, повсеместно заявляя о необходимости сохранения Бессарабии в рамках обновленной России. Тем более не видели Бессарабию вне России члены других партий (480). Данную мысль рельефно выразил румынский историк А. Болдур: «Идея отделения Бессарабии от России была полностью враждебна бессарабскому общественному мнению» (481).
Точно оценил настроения различных слоев населения Молдовы после Февральской революции К. Хиткинс: «Крестьяне приступили к захвату и разделу принадлежавших крупным помещикам земель, в то время как молдавские офицеры русской армии, священники, интеллигенты либеральных взглядов и консервативно настроенные собственники земли требовали политической автономии» (482).

Карта Бессарабской губернии Российской империи. 1914 г.
Как и по всей России, в Бессарабии также возникли Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые активно включились в политическую борьбу за власть. От Молдавии на II Всероссийский съезд Советов с наказом голосовать за передачу власти Советам было направлено три делегата (483).
20 октября в Кишиневе собралось около 600 делегатов, в основном сторонников МНП, якобы представлявших соотечественников, мобилизованных на фронт. Правда, их никто не избирал, они были персонально приглашены (484). Норма представительства на Первый Всероссийский Военно-Молдавский съезд была установлена по одному офицеру и два солдата от каждой сотни военнослужащих (485). Исходя из нее, на съезд должны были прибыть около 9000 посланцев, а явилось не более 1/15 от необходимого.
Делегаты поддержали предложение о создании Сфатул Цэрий – высшего органа территориально-политической автономии края (486). Примечателен и тот факт, что из 32 депутатов «Совета Страны», избранных на съезде, только 7 были солдатами и матросами (487). Остальные являлись офицерами и военными чиновниками. В резолюции съезда отмечался временный характер Сфатул Цэрий, полномочия которого истекали с момента созыва Учредительного собрания Бессарабии (488).
Было создано Бюро, установившее численность этого органа в 160 человек, включая 10 мест для левобережных молдаван. Бессарабцам молдавской национальности выделили 105 мест (489). Национальным меньшинствам, составлявшим более 50 % населения края, выделили всего 36 мандатов. Рабочим не выделили ни одного, а крестьяне (80 % населения) получили лишь 30 % мандатов. До 22 января 1918 г. эти места оставались вакантными, и Сфатул Цэрий был образован без участия крестьянства. Политическим формированиям достались в Сфатул Цэрий места в зависимости от их политико-идеологической ориентации. Больше всего мест получили организации прорумынской ориентации, а наиболее влиятельной партии в Бессарабии – эсерам, за которых на выборах в Учредительное собрание проголосовало 31,2 % участвовавших в выборах, было предоставлено всего одно место, в то время как за МНП, набравшей на этих выборах 2,2 % голосов, было закреплено четыре места. По одному месту получили малоизвестные общества интеллигенции, Лига женщин, а Коллегия юристов и работники связи – даже по два места.
17 ноября в Молдове произошло событие, ускорившее начало работы Сфатул Цэрий: Кишиневский совет признал правительство Ленина (490). Сложилась ситуация, при которой, опираясь на большевизированные части, коммунисты могли установить свою власть в городе и губернии.
В этих условиях раньше установленного времени, 21 ноября 1917 г., открылись заседания Сфатул Цэрий. В приглашениях указывалось, что он «является временным Верховным Краевым органом Автономной Бессарабии впредь до созыва Бессарабского Учредительного собрания» и признает «основной принцип устройства России как Федеративной Демократической республики» (491). Его «отцы-основатели» утверждали, что «если бы не было выступления большевиков, то с открытием Сфатул Цэрий не спешили бы» (492), что большевизм, охвативший всю Россию, крайне заразителен, что его лозунги основательно привились повсюду, поэтому Сфатул Цэрий появился на свет с целью противодействия победе большевизма в Бессарабии (493).
2 декабря 1917 г. Сфатул Цэрий провозгласил Бессарабию Молдавской Демократической (Народной) Республикой, равной в правах частью единой Российской Демократической Федеративной Республики (494). А. Болдур следующим образом оценил эту структуру: «Недостаточная выясненность состава, полная неопределенность компетенции – вот характерные черты органа» (495). Того же мнения относительно законности Сфатул Цэрий был и тогдашний румынский министр Г. Арджетояну, называвший данный орган «бандой безумцев» и «советом ничтожеств, собранных с подворотни» (496).
Националисты отрицали свою приверженность румынизму. Так, И. Инкулец говорил: «Сепаратизма в Бессарабии нет, в особенности в сторону Румынии, и если кто-либо не сводит глаз с Прута, то это только кучка людей. Пути Бессарабии сходятся с путями России… Так смотрит на дело и бессарабское крестьянство» (497). И такого рода заявления звучали из уст лидеров Сфатул Цэрий непрерывно (498), даже после оккупации края румынскими войсками, так как настроения народных масс были категорически за сохранение дальнейшего единства Молдовы с Россией (499).
Сфатул Цэрий требовал, чтобы ему подчинялись все учреждения и организации края. Но на власть претендовали и Советы. Признание ими СНК означало их готовность подчиняться большевистскому Петрограду (500). По мере большевизации войск, дислоцированных в Бессарабии, шансы Советов завладеть властью в крае возрастали.
В ситуации, когда ни один из претендентов на власть не обладал подавляющим влиянием, результат борьбы в первую очередь зависел от поддержки со стороны воинских частей, находящихся в распоряжении оппонентов. Большевики и их сторонники в политическом плане опирались на Советы, а в военном – на большевизированные части. Они также надеялись на поддержку правительства Ленина.
Сфатул Цэрий рассчитывал на поддержку Антанты и Румынии, а внутри страны – на помощь молдавских воинских частей. Волна погромов, охватившая Бессарабию, послужила поводом для формирования молдавских частей с целью их борьбы с «анархией» и грабежами, а также для подавления крестьянских волнений. Из солдат – уроженцев Бессарабии было создано 16 когорт милиции, по 100 человек каждая (501).
Но они зачастую отказывались подавлять крестьянские бунты, а иногда сами присоединялись к крестьянам (502). Так, на пленарном заседании Комитета 1-го Молдавского полка было решено «отказаться от отправки 800 человек», востребованных для подавления «анархии» в Сорокском уезде (503). В обращении этого полка к исполкому Кишиневского совета, посланном 28 ноября, отмечалось: «Молдавский полк не признает национальных выступлений, пока не закончится классовая борьба, и, рассчитывая на дружескую товарищескую поддержку для борьбы и защиты интересов бессарабских крестьян и рабочих, просит товарищей из Исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов Кишинева прислать инструкции для согласования общих работ» (504).
Директор по военным делам Г. Пынтя с горечью признавал, что лозунги большевиков пустили глубокие корни среди молдавского населения и главным образом среди солдат. Он же отмечал, что солдаты-молдаване говорили, что Сфатул Цэрий «продался румынам» и народ попадет в новую кабалу к румынским боярам (505). Идентично было и мнение его коллеги, В. Чижевского (506).
Таким образом, факты свидетельствуют, что солдаты-молдаване выдвигали на первый план решение социальных вопросов, а решение национального вопроса ставили в зависимость от первого. Тот же Чижевский свидетельствует: «Большевизм, нашедший себе приют и сердечный прием в молдавских полках, окончательно добил идею национализации частей» (507). Об объединении с Румынией не было и речи.
В декабре авторитет лидеров Сфатул Цэрий стал стремительно падать. Убедительным примером этого являются выборы в Учредительное собрание России – МНП получила 2,2 % голосов: из 600 тыс. бессарабских избирателей, принявших участие в голосовании, националистов поддержали всего 14 тыс. человек (508). Поэтому утверждения, будто Сфатул Цэрий являлся в 1917–1918 гг. выразителем воли молдавского народа, являются ложными.
Под влиянием большевистской пропаганды усилилось разложение российских войск на Румынском фронте. 18/31 октября в телеграмме на имя А.Ф. Керенского Главковерх генерал Н.Н. Духонин отмечал, что «на Румынском фронте продолжается саботажное отношение ко всем распоряжениям Ставки по выделению войск для подавления большевистского движения» (509). Более того, в течение ноября русские войска Румынского фронта под влиянием событий на других фронтах и вестей из Петрограда, а также сильно распропагандированные большевиками, фактически перестали подчиняться старому командованию (510). «Генерал Щербачев заявил, что не может отвечать даже за собственных часовых» (511). Брожением были охвачены и войска, дислоцированные в Бессарабии: «Обезумевшее стадо, зараженное болезнетворной фразеологией времени… – вот до чего докатились молдавские солдаты» (512).