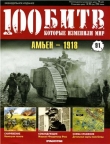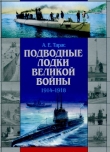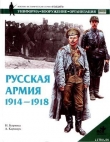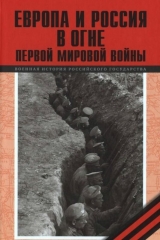
Текст книги "Европа и Россия в огне Первой мировой войны (К 100-летию начала войны)"
Автор книги: И. Новиков
Соавторы: И. Новиков,А. Литвин,А. Матвеева,Д. Суржик,Ю. Кудрина,В. Симиндей,А. Зотова,Д. Селиверстов,С. Артамошин,С. Назария
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 54 страниц)
Коалиция Центральных держав сосредотачивала на Галицийском фронте значительные силы, основой которых становились германские войска, предполагая нанести серьезный удар между Вислой и Карпатами, способный не только ликвидировать угрозу Венгерской равнине, но и «потрясти» русскую армию, отбросив ее на восток (93). Как отметил в мемуарах контр-адмирал А.Д. Бубнов, находившийся в годы войны в российской Ставке, это решение противника «совпало с самым трагическим для нас моментом всей войны, когда боеспособность нашей армии была значительно уменьшена громадными потерями кадрового состава и когда были исчерпаны почти все наши боеприпасы» (94). Операция, известная как Горлицкая, была тщательно подготовлена. Для ее проведения была сформирована ударная группировка генерала А. фон Макензена, в которую влились и австрийские, и недавно переведенные с Западного фронта германские дивизии. На участке шириной 35 км, где намечался прорыв Русского фронта, австрийцы и германцы имели 126 тыс. человек, 159 тяжелых орудий, 457 легких, 260 пулеметов и 96 минометов. Этим силам противостояли русские войска, уступающие в живой силе более чем в 2 раза, в легкой артиллерии – в 3 раза, в тяжелой артиллерии – в 40 раз (!), в пулеметах – в 2,5 раза, минометов и вовсе не имелось (95).
Начавшись 19 апреля (2 мая) и продолжаясь до 9 (22) июня 1915 г., Горлицкая операция стала одним из крупнейших оборонительных сражений для русских войск в ходе войны. Оно началось прорывом 11-й германской армии у Горлице после многочасовой артиллерийской подготовки и шквального огня из минометов, сравнявших с землей русские окопы и полностью разрушивших проволочные заграждения. «Наши укрепленные позиции в действительности представляли собой один лишь ров, даже без ходов сообщения в тыл. При усиленном обстреле артиллерийским огнем, в особенности огнем тяжелой артиллерии, этот кое-как сделанный ров быстро заваливался, а сидевшие в нем люди при ураганном огне уничтожались целиком или сдавались в плен во избежание неминуемой смерти, – вспоминал командующий 8-й армией генерал Брусилов. – Уже впоследствии штабом фронта было сделало распоряжение – заблаговременно строить в тылу на различных рубежах укрепления соответствующего типа и силы, но, в сущности, и эти укрепленные позиции были весьма несовременного типа. Вообще, наши войска все время стремились к полевой войне… и крайне неохотно и лениво совершенствовали занимаемые ими позиции» (96).

Искореженное от взрыва артиллерийское орудие.
Части 3-й русской армии оказывали упорное сопротивление превосходящим силам противника и смогли существенно затормозить его продвижение. Использовались так называемые кинжальные взводы, орудийные расчеты которых выдвигались на передовую и расстреливали атакующую пехоту в упор до последнего боеприпаса. Затем, испортив орудия, они отступали (97). Только введя резервы, германским войскам удалось прорвать оборону: за шесть дней они продвинулись на 40 км. Нехватка в русских армиях артиллерии, особенно тяжелой, а также все возрастающий снарядный «голод» не позволяли переломить ситуацию. Положение усугублялось полным разногласием и ошибками в решениях командования. Начальник штаба Юго-Западного фронта генерал В.М. Драгомиров и командующий 3-й армией Радко-Дмитриев настаивали на немедленном отходе с целью создания условий для перегруппировки сил и стабилизации фронта, тогда как командующий фронтом генерал Иванов требовал немедленной ликвидации прорыва. Командующий 3-й армией вынужден был посылать направленные Ставкой подкрепления в контратаки, которые оказались непродуманными и бессистемными, не принеся никакого результата. В итоге было принято решение о переходе к обороне, отведя части на реку Сан. Отступление русских сопровождалось ликвидацией важнейших объектов – железных дорог и мостов, что замедляло продвижение противника и давало время на организацию обороны на новых рубежах (98). Вскоре пришлось оставить берега Сана и Перемышль, а 9 (22) июня – Львов. С оставлением русскими территории Галиции маневренные боевые действия на Юго-Западном фронте на несколько дней приостановились. Германское командование не добилось главной цели – Юго-Западный фронт не был разгромлен, а лишь совершил стратегический отход. Как писал в мемуарах Людендорф, «фронтальное оттеснение русских в Галиции, как бы оно ни было для них чувствительно, не имело решающего значения для войны… К тому же при этих фронтальных боях наши потери являлись немаловажными» (99). Э. Фалькенхайн отмечал, что военные действия на Восточном фронте «могли затянуться до бесконечности» (100) – это становилось особенно неблагоприятным в условиях, когда на западе англо-французы сосредотачивали значительные силы и готовились к переходу в очередное наступление.
В июне состоялось военное совещание с участием кайзера Вильгельма II, Фалькенхайна, Гинденбурга, Людендорфа, Гофмана, Макензена и Конрада. Гинденбург и Людендорф предоставили грандиозный план окружения русской армии между Ковно и Гродно. Русский фронт представлял собой дугу протяженностью 300 км, основная группировка войск располагалась в Польше, где и предполагалось ее ликвидировать, взяв в «клещи» глубокими охватами. Иного мнения придерживались Фалькенхайн и Макензен, считавшие маневры с ударами на флангах устаревшими, предлагая действовать одновременными лобовыми атаками на разных направлениях с максимальной концентрацией артиллерии (101). При этом Фалькенхайн всерьез рассматривал возможность заключения сепаратного мира с Россией, используя посредничество датчан, надеясь убедить русских в непобедимости Германии и неизбежности поражения (102). Он исходил из того, что «русские могут отступать в огромную глубину своей страны, и мы не можем преследовать их бесконечно» (103). В итоге был утвержден план разгрома польской группировки противника выполнением трех ударов: между Вислой и Бугом, в районе Рига – Шавли и у Нарева в Прибалтике.
13 (26) июня из Галиции начала наступление группа Макензена в составе 11-й германской и 4-й австро-венгерской армий. Оно развивалось слишком медленно и в середине июля практически выдохлось в сражениях у Грубешова, Холма, Люблина, Красностава. Наревская операция, начатая 12-й армией генерала М. фон Гальвица 30 июня (13 июля), также принесла лишь относительный успех: ее главным достижением стало не продвижение, а уничтожение 70 % русских войск на 40-километровом фронте (104). Малый успех заставил германское командование провести мероприятия по нанесению в районе Нарева более мощного удара, предпринятого 10 (23) июля. Большую роль в обороне русских армий сыграли крепости, в частности Осовец и Новогеоргиевск, прикрывающие фланги 12-й и 1-й русских армий. Из-за опасности окружения 22 июля (4 августа) были оставлены Варшава и взорвана крепость Ивангород. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич приказал сдать основные крепости без боя (в том числе стойко державшийся Осовец) и защищать лишь Новогеоргиевск, Ковно и Брест. Первой из них в результате обстрела 420-мм гаубицами пала крепость Ковно, оставив германцам большие запасы русской армии. Новогеоргиевск смог задержать врага, но 7 (20) августа капитулировал, отрезанный от полевых частей после их отвода. В плен попали 80 тыс. русских солдат и офицеров, в том числе 23 генерала (105).
С 1 (14) июля по 7 (20) августа германцы наступали из Восточной Пруссии (Риго-Шавельская операция). Однако Неманская армия генерала О. фон Белова не смогла развить успех Наревского удара и выйти на оперативный простор, сдерживаемая вновь сформированной 5-й армией генерала П. А. Плеве. Именно ему принадлежала инициатива создания в русской армии осенью 1915 г. «ударных взводов» – штурмовых групп, предназначенных для атаки позиционных укреплений противника и освоивших тактику траншейного боя (106).
Вместе с тем русское командование предусмотрело организованный отвод своих армий еще на совещании Ставки, состоявшемся 22 июня (5 июля) в Седлеце. Было решено отвести отступающие под натиском неприятеля армии на линию река Бобр – Верхний Нарев – Брест-Литовск – Ковель, чтобы выпрямить фронт (107). Сопровождаясь огромными потерями убитыми, ранеными и пленными при упорной обороне отдельных районов, отступление русской армии из Польши все же достигло своей цели, единственно возможной в данной ситуации – избежание замыкания вокруг себя «клещей» и последующего разгрома. Основные русские силы оказались сохранены, а германское наступление вновь не добилось желаемых результатов – таков итог летних событий на Восточном фронте. К началу осени для обеих сторон кампания здесь считалась законченной.
3 (16) августа в Волковыске состоялось совещание верховного главнокомандующего Николая Николаевича с высшими чинами Ставки и фронтов, на котором были приняты решения о дальнейших действиях. Протяженный Северо-Западный фронт был разделен на два – Северный (командующий Н.В. Рузский) и Западный (М.В. Алексеев). Первый должен был прикрывать пути к Петрограду со стороны Восточной Пруссии и Балтийского моря, а также при первой возможности провести наступление, оттеснив противника на запад. Западный фронт получил задачу прикрытия путей на Москву с основного театра, прочно удерживая в своих руках Гродно, Белосток, район от Верхнего Нарева до Бреста (108).
Анализ сложившейся обстановки привел германское верховное командование к осознанию невозможности проведения новых крупных операций на Восточном фронте, развернув свой взгляд на запад. Однако Гинденбург предлагал Фалькенхайну нанести новый удар русским со стороны Ковно, чтобы предупредить угрозу от их перегруппировавшихся армий своему левому крылу (109). Настойчивость Гинденбурга заставила Фалькенхайна уступить требованиям фельдмаршала дополнительно усилить Восточный фронт (в который входили пять армий и одна армейская группа) и одобрить операции севернее Немана с целью нанесения возможно большего вреда русским войскам.
В это время произошли серьезные изменения в российском военном руководстве – в результате дворцовых интриг был отстранен от должности Николай Николаевич и место верховного главнокомандующего занял сам император Николай II. В армейских кругах это известие было встречено без воодушевления: если популярному в войсках Николаю Николаевичу не хватало твердости в проведении военно-стратегической линии России в войне, то Николай II (пребывавший в звании полковника) и вовсе был не способен осуществить стратегическое руководство. Фактически верховное командование оказалось в руках назначенного начальником штаба опытного генерала М.В. Алексеева, передавшего Западный фронт генералу А.Е. Эверту.
27 августа (9 сентября) Гинденбург начал наступление Неманской армии на стыке Северного и Западного русских фронтов, наспех защищенного лишь малочисленными конными отрядами, не имеющими при этом единого руководства. Германская кавалерия с боем взяла станцию Ново-Свенцяны. Прорвав оборону, германцы взяли Вильно и устремились на Минск. Однако русское командование сумело принять меры по остановке дальнейшего продвижения 8-й и 10-й германских армий, несмотря на утрату Виленской губернии. Фронт стабилизировался на линии Западная Двина – Двинск – Вилейка – Барановичи – Пинск. Свенцянский прорыв стал последним успехом немцев на севере Восточного фронта в 1915 г.
Австрийское командование, увязшее в борьбе на Итальянском и Балканском фронтах, отказалось проводить масштабные наступления против русских на своем фронте, предпринимая лишь ограниченные действия в направлении Сарны, Луцка. Русские войска заняли линию рек Стырь и Стрыпа, где фронт стабилизировался. Русская Ставка по просьбе союзников предприняла в декабре попытку наступления 7-й армии на реке Стрыпа с целью оказать содействие Сербии, ведущей в это время неравные бои против армий Центральных держав. Но командование Юго-Западного фронта не решилось ввести в качестве поддержки 8-ю армию, что привело к неудачному исходу операции.

Тяжелая позиционная артиллерия у Куртенгофа на фронте 12-й армии. Сентябрь 1915 г.
К концу 1915 г. Восточный фронт оказался практически выпрямлен, и это, с учетом истощения противоборствующих армий, создавало все условия для перехода к позиционной войне.
Российская армия в 1915 г. осуществила «великое отступление», утратив громадные территории – Галицию, Польшу, Курляндию, западные белорусские губернии. Расчеты на решительные удары по Германии и Австро-Венгрии оказались неверными, войдя в несоответствие с имеющимися ресурсами. Однако план Вены и Берлина на вывод России из войны также потерпел крах, вследствие чего стратегическое положение обеих коалиций в целом оставалось прежним.
Иначе для России складывались события на Кавказском фронте. В начале 1915 г. завершилась Сарыкамышская операция, начатая еще в предыдущем году, результатом которой стало улучшение позиций России на Кавказе. Боевые действия переместились на турецкую территорию. В начале кампании 1915 г. командование фронтом принял генерал Н.Н. Юденич, организовавший здесь в последующем серию успешных наступательных операций. К началу года бои с 3-й турецкой армией велись на ограниченных направлениях. В апреле русская Кавказская армия по-прежнему превосходила турок в коннице, имела 111 батальонов, 212 сотен, 364 орудия. Турецкие войска имели к этому времени уже 175 батальонов, восстановившись за счет армий, переброшенных с Черноморских проливов и Суэца. Большая их часть была сосредоточена на ольтинском, сарыкамышском и эриванском направлениях, где им противостояли II, I и IV Кавказские корпуса. Русская армия располагалась между Каспийским и Черными морями на линии Архаве – Ольты – Хоросан – Каракилиса – Диадин – Котур – Дильман – Тавриз (110).
В мае-июне IV Кавказским корпусом была проведена наступательная операция в районе озера Ван, в ходе которой русскими была занята значительная территория, корпус продвинулся вперед на 100 км. В июле-августе в ходе Алашкертской операции были сорваны попытки турок организовать здесь контрнаступление. Однако ввиду недостатка боеприпасов развить успех на сарыкамышском и ольтинском направлениях русским корпусам не удалось. Сказалось и ослабление фронта переброской на западную границу России ряда формирований, где положение в этот период являлось наиболее угрожающим. Несмотря на это, русские войска сохранили преимущество в коннице (состоящей в основном из казачьих отрядов) и артиллерии над турецкими силами под командованием генерал-лейтенанта М. Камиль-паши.
К концу года боевые действия распространились на территорию Ирана. Турецкие и германские агенты в этот период расширили свою деятельность по вовлечению Персии и других государств Центральной Азии в мировую войну на стороне Четверного союза. Особое значение уделялось вооружению и поднятию против сил Антанты мусульманских народов Центральной и Средней Азии на основе идей «джихада» («священной войны против неверных»). По этой причине русским командованием было принято решение ввести в Иран экспедиционный корпус в составе 3 батальонов, 39 сотен и 20 пушек, возглавленный генералом Н.Н. Баратовым. В результате его успешных действий в декабре 1915 г. были разгромлены вооруженные отряды протурецких племен у Кума и Хамадана, взята под контроль Северная Персия. Из Туркестана был введен отряд в составе 1 тыс. казаков, разоруживший в Хоросане германо-турецкие диверсионные группы, следовавшие к афганской границе. Совместно с английским отрядом была установлена «подвижная завеса» от Каспия до берегов Индийского океана.
Британские политические круги не были заинтересованы в утверждении России в персидском регионе и вынудили свое командование отказаться от совместных действий. В Месопотамии был высажен английский экспедиционный корпус. Формирования генерала Дж. Никсона организовали наступление на Багдад, закончившееся поражением от турецких войск. Однако возможностей для разгрома англичан, отступивших к Кут-эль-Амаре, у турок не было. Единственная попытка развить наступление против британских войск в Египте форсированием Суэцкого канала, предпринятая еще в феврале 1915 г., окончилась для турецкой армии неудачей (111). Тем не менее позиции Турции в Месопотамии к окончанию второго года войны несколько укрепились.
Таким образом, военную кампанию 1915 г. следует считать выигранной силами Четверного союза. Антанта не смогла предпринять успешные операции против Германии и сосредоточилась на повышении своего экономического и военного потенциала. В условиях позиционного характера, который приняла вооруженная борьба на западноевропейском театре, Германия получила возможность направить основной удар на Восток – против России, которая оказалась не в состоянии его парировать. Тем не менее, пожертвовав 15 % своей территории в ходе «великого отступления», Россия избежала разгрома, смогла стабилизировать фронт и сохранить боеспособность своих войск, не оправдав расчеты Берлина. Русская армия частично компенсировала неудачи на Германо-австрийском фронте улучшением позиций против Турции на Кавказе, которая, в свою очередь, укрепилась против англичан на Ближнем Востоке. Вступление в конфликт новых участников – Италии и Болгарии – не привело во второй год войны к решающему изменению стратегической обстановки в целом. Германия и Австро-Венгрия, захватив значительные территории в Восточной Европе (Галицию, Польшу, Литву), разбив Сербию и Черногорию, все же не добились поражения Антанты и вынуждены были продолжать затянувшуюся войну на несколько фронтов.
2.2. Боевые действия на море: планы на 1915 год. Сражение у Доггер-банки. Попытка захвата проливов Дарданеллы и Босфор. Итоги 1915 года
Подготовка новой кампании в Северном море на 1915 г. шла в соответствии с опытом предшествующих набеговых операций эскадры Ф. Хиппера: британский Гранд-Флит усилил дальнюю блокаду и патрулирование у побережья Англии, а ВМС Германии более тщательно стали выбирать район и время очередного рейда. В начале января в Кайзерлихмарине было установлено, что английские корабли теперь постоянно патрулируют в районе Доггер-банка – очень крупной отмели в Северном море в 100 км от Англии. С целью их ликвидации адмирал Ф. Ингеноль решил направить в данную зону силы адмирала Ф. Хиппера: линейные крейсера «Зейдлиц», «Дерфлингер» и «Мольтке», а также крейсер «Блюхер», 4 легких крейсера и 18 эсминцев (112). Первоначально на совещании от 22 января 1915 г. было предложено командованием Кайзерлихмарине отложить операцию на две недели – до 6 февраля 1915 г. Линейный крейсер «Фон дер Танн» был отправлен на ремонт, поэтому эскадра Ф. Хиппера оказалась ослабленной. К тому же на плановые учения была отправлена III эскадра линкоров, включавшая в себя новейшие корабли типа «Кайзер» и «Кениг». Однако изменение погодных условий заставило адмиралов кайзера поспешить с операцией. Тем более адмирал фон Ингеноль получил информацию, что основные силы Д. Джеллико будут слишком далеко и не смогут помешать выполнению задачи (113).
Но все же сохранить в тайне время данного набега немцам не удалось, потому что Адмиралтейство Великобритании свободно читало немецкие радиограммы благодаря секретному коду, который еще в октябре 1914 г. попал в распоряжение русских моряков (с погибшего в Балтийском море легкого крейсера «Магдебург») и был передан ими британскому командованию (114).
Корабли Ф. Хиппера с максимальной скрытностью вечером 23 января 1915 г. покинули базы. Примерно в то же время навстречу им вышли из Розайта эскадры вице-адмирала Д. Битти и контр-адмирала Г. Мура. В первую вошли новейшие линейные крейсера «Лайон», «Тайгер» и «Принсесс Ройял», во вторую – более старые «Нью Зееланд» и «Индомитейбл» (115). Кроме того, силы Д. Битти сопровождали четыре легких крейсера под командованием коммодора Гуденафа. К 2 британским эскадрам, согласно плану, должен был примкнуть отряд коммодора Р. Тэрвита из Гарвича (еще 3 легких крейсера и 34 эскадренных миноносца) (116). Объединение британских сил планировалось около 7:00 утра 24 января в районе, расположенном приблизительно в 30 милях к северу от Доггер-банки и в 180 милях к западу от Гельголанда, то есть на самом вероятном пути следования эскадры Ф. Хиппера.
Дальнее прикрытие сил Д. Битти и оборону восточного побережья Англии Адмиралтейство возложило на 3-ю эскадру линкоров под командованием вице-адмирала Брэдфорда (в нее входили устаревшие броненосцы типа «Кинг Эдуард VII») (117). Опасаясь, что данных кораблей будет недостаточно, вечером 23 января Д. Джеллико вывел из Скапа-Флоу главные силы Гранд-Флита. В ночь с 23 на 24 января силы противников сближались: линейные крейсера Ф. Хиппера двигались на северо-запад. Прикрытие на флангах осуществляли легкие крейсера «Росток» и «Кольберг», а крейсера «Грауденц» и «Штральзунд» шли в авангарде. Корабли адмирала Д. Битти шли курсом на юго-восток, а с юга приближался отряд Р. Тэрвита.

Линейный крейсер «Лайон».
На рассвете 24 января в 7:10 минут британский крейсер «Аврора» обнаружил один из немецких легких крейсеров. Завязалась короткая перестрелка, в ходе которой и «Аврора», и «Кольберг» получили несколько попаданий снарядами каждый (118). После этого и остальные корабли Р. Тэрвита установили контакт с немецкими силами, которые развернулись и шли курсом на юго-восток. Контр-адмирал Ф. Хиппер сообщил адмиралу Ф. Ингенолю, что обнаружен британским флотом в составе восьми крупных кораблей и отступает в направлении своих баз.
Зная об отступлении Ф. Хиппера, Д. Битти приказал до максимума увеличить скорость – до 29 узлов. Из-за этого более старые линейные крейсера «Индомитейбл» и «Нью Зееланд» стали отставать. Д. Битти намеренно решил разделить свои силы, чтобы как можно быстрее догнать Ф. Хиппера, считая, что с четырьмя немецкими крейсерами вполне справятся новейшие «Лайон», «Тайгер» и «Принсесс Ройял» (119).
Погоня завершилась к 8:30, в это время флагманский крейсер «Лайон» открыл огонь с расстояния 22 тыс. ярдов по замыкающему строй немецкой эскадры крейсеру «Блюхер». Первые несколько залпов были даны для пристрелки, а в 9:05 три крейсера Д. Битти открыли беглый огонь. Ответные залпы дали в 9:10 силы Ф. Хиппера, которые в качестве главной мишени выбрали «Лайон» (120).
Первые попадания в немецкие корабли начались в 9:43, когда тяжелый снаряд с «Лайона» поразил барбет кормовой башни «Зейдлица» и вызвал опасный пожар (воспламенилось около 6 т зарядов), который вывел из строя обе кормовые башни. Только быстрое затопление погребов боезапаса спасло корабль, однако скорость «Зейдлица» существенно упала (121).
Примерно в это же время попадания начали получать и английские корабли: с 9:45 до 10:18 «Лайон» поразили, как минимум, 4 снаряда с «Мольтке» и «Блюхера» (122).
Однако общее положение складывалось в пользу Д. Битти: к 10:30 серьезные повреждения получил «Блюхер» (был сильный пожар в двух башнях, где горело до 40 зарядов к орудиям главного калибра, получили повреждения котельные отделения, а также рулевое управление, скорость крейсера упала до 17 узлов) (123). Видя тяжелую ситуацию с «Блюхером», адмирал Ф. Хиппер приказал своим линейным крейсерам сконцентрировать огонь на флагманском «Лайоне», намереваясь дать крейсеру время для отступления. Это дало эффект: к 10:51 флагман Д. Битти получил 9 или 10 попаданий крупных снарядов, его скорость снизилась до 15 узлов, корабль потерял радиосвязь. В дополнение ко всему в 10:54 «Лайон» из-за ошибочного сообщения о замеченной подводной лодке повернул влево на 90 градусов, прекратив тем самым погоню. «Лайон» из-за серьезных повреждений так и не мог занять свое место в боевом строю (124).
Около 11:00 Д. Битти принимает решение, что линейные крейсера «Тайгер», «Принсесс Ройял», «Нью Зееланд» должны продолжить преследование Ф. Хиппера и постараться уничтожить хотя бы поврежденный «Зейдлиц», а отставший «Блюхер» добьют «Индомитейбл» и легкие крейсера. Но донести до остальных английских кораблей идею Д. Битти было проблематично из-за потери флагманом радиосвязи. Поэтому в 11:02 на «Лайоне» был поднят сигнал с помощью флагов: «Курс северо-восток». А в 11:05 – дополнительный сигнал: «Атаковать группу противника с тыла». Однако на «Тайгере», «Принсесс Ройял», «Нью Зееланде» данные сигналы поняли как один: «Атаковать тыл соединения противника на северо-востоке», где в данный момент находился лишь разбитый «Блюхер». Следуя данному сигналу, английские корабли прекратили погоню за Ф. Хиллером и развернулись к устаревшему «Блюхеру». Немецкий адмирал, увидев данную ситуацию, решает бросить броненосный крейсер ради спасения всего соединения, включая тяжело поврежденный «Зейдлиц» (125).
Заметив неправильное исполнение своих приказов, Д. Битти в 11:50 был вынужден перейти с поврежденного «Лайона» на миноносец «Аттак», чтобы снова возглавить эскадру. В период с 11:50 до 12:30 британские линейные крейсера, оставив главные силы Ф. Хиппера, расстреливали немецкий крейсер, который продолжал оказывать слабое сопротивление, ведя огонь из последних двух уцелевших 210-мм орудий. Уже небоеспособный, горящий крейсер торпедировали семь эсминцев, но точку в судьбе «Блюхера» поставила торпеда с крейсера «Аретьюза». В 12:30 броненосный крейсер перевернулся и затонул (126).
Незадолго до этого адмирал Д. Битти догнал эскадру и в 12:20 поднял флаг на «Принсесс Ройял», сразу приказав возобновить преследование крейсеров Ф. Хиппера. Однако быстро выяснилось, что за время, потраченное на «Блюхера», Ф. Хиппер ушел слишком далеко, и дальнейшая погоня стала бесперспективной. Ввиду данных обстоятельств в 12:45 Д. Битти объявляет о своем решении прекратить бой и вернуться на базы.
Так, шанс нанести тяжелое поражение линейным крейсерам Флота открытого моря был упущен, несмотря на существенное преимущество британских крейсеров в количестве, скорости и вооружении. Однако из-за ошибок в системе управления эскадрой и несовершенства средств связи Д. Битти не смог реализовать свое превосходство. Ошибки другого рода совершил и адмирал Д. Джеллико – главные силы Гранд-Флита вышли с дальних баз слишком поздно для того, чтобы успеть принять участие в преследовании и уничтожении эскадры Ф. Хиппера.

Крейсер «Блюхер» тонет в Северном море после битвы при Доггер-банке.
Сражение наглядно продемонстрировало, что артиллеристы Ф. Хиппера своей выучкой и точностью превосходили англичан. Немцы 16 раз попали в «Лайон» и 6 раз в «Тайгер», англичане могли похвастаться только тремя попаданиями: два снаряда в «Зейдлиц» и один снаряд в «Дерфлингер». Правда, «Блюхер» получил 70 попаданий, но почти все снаряды попали в него с очень близкого расстояния в самом конце боя. Потери немцев в людях составили 1116 убитых, 41 раненый, 269 человек были взяты в плен. У англичан 14 человек были убиты и 30 ранены (127).
Битва у Доггер-банки привела к значительным кадровым изменениям во Флоте открытого моря. Адмирал Ф. Ингеноль 2 февраля был снят с должности командующего Флотом открытого моря. Также отправлен в отставку и начальник адмирал-штаба контр-адмирал Эккерман, которого назначили командиром 1-й эскадры линкоров. Преемником Ф. Ингеноля стал адмирал Г. Поль, начальником адмирал-штаба – вице-адмирал Г. Бахман.
Кроме Северного моря в 1915 г. союзники попытались достичь решительного преимущества на другом театре военных действий – средиземноморском (128). Еще в ноябре 1914 г. У. Черчилль предложил идею захвата черноморских проливов, что благоприятно бы сказалось на обороне Египта, но его предложение было отклонено (129). В январе 1915 г. в Великобритании и России вернулись к обсуждению подобной операции. Маршал Г. Китченер предложил, что наилучшее место для демонстративной операции – это Дарданеллы. В случае победы союзников были бы не только разгромлены значительные силы Османской империи, но и открылся бы безопасный путь для доставки военных грузов в Россию – через Черное море (130).
Первый план операции был составлен вице-адмиралом Карденом и предусматривал четыре этапа, на которых британские и французские линкоры легко подавят турецкие форты, находясь вне сферы действия их устаревшей артиллерии.
На совещании Военного Совета Великобритании 28 января было принято итоговое решение: ВМС союзников в Дарданеллах будут действовать самостоятельно, без помощи сухопутных сил.
Всего для участия в операции Англия и Франция выделили 80 кораблей – 50 британских и 30 французских (131). Среди них были 17 линкоров (из которых 16 – броненосцы постройки рубежа веков и только 1 современный линкор), 1 линейный крейсер, 5 легких крейсеров, 22 эскадренных миноносца, 9 подводных лодок, 24 тральщика, 1 авиатранспорт и 1 госпитальное судно. На данных кораблях располагалось 88 тяжелых орудий (132).
Перед началом операции (17 февраля 1915 г.) английские самолеты с «Арк Рояла» провели разведку обороны Проливов (133). 19 февраля началась операция: англо-французская эскадра в составе 6 линкоров, включая новейший линкор «Куин Элизабет», и 1 линейного крейсера открыла огонь по османским фортификационным сооружениям. Корректировку огня производили самолеты с «Арк Рояла» (134). Однако первый же день принес неудачи: продолжительный обстрел значительного эффекта не дал.
Боевые действия возобновились только 25 февраля, когда четырем линкорам союзников удалось на некоторые время нейтрализовать часть турецких береговых батарей. После завершения бомбардировки союзники предприняли попытку траления Пролива, но турецкие форты снова открыли огонь. В итоге и вторая попытка закончилась провалом: англо-французским силам пришлось отступить (135).
После нескольких неудачных обстрелов союзники решили предпринять массированную атаку Проливов. Расстроенный неожиданной живучестью и боеспособностью батарей и фортов Османской империи (которые избегали в течение месяца ущерба от бомбардировки союзников, при этом постоянно угрожали работе тральщиков, отправленных для очистки Пролива), У. Черчилль стал в начале марта 1915 г. оказывать давление на адмирала Кардена, требуя активизации усилий флота. Под данным прессингом Карден разработал новый план и 4 марта направил телеграмму У. Черчиллю, заявив, что флот может прорваться к Стамбулу в течение двух недель. Дополнительную мотивацию и чувство скорой победы дали У. Черчиллю перехваченные немецкие радиосообщения, где указывалось, что османские форты у Дарданелл были повреждены, а главное, заканчивались боеприпасы. Когда сообщение было передано Кардену, он решил нанести главный удар сразу после 17 марта. Но за это время у Кардена начались проблемы со здоровьем, и союзный флот был отдан под командование адмирала Джона де Робека. Учитывая время на подготовку (генеральная атака на Дарданеллы была назначена на 18 марта), англо-французские силы получили дополнительные корабли. Но и османское командование также направило подкрепления к Проливам, укрепило фортификационные сооружения, а главное – провело дополнительное минирование Пролива (136).