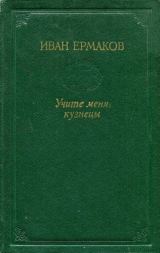
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Поначалу, как и задумано было, птиц записала. А потом – лукавый-то подтолкни – зятюшку увековечила.
Тот умученный после двухсменки явился. Кое-что похлебал и в сенях на холстинке прилег. Когда разоспался, она и насторожила у беспечного его изголовья магнитофон – и, конечно, техника в быт.
– Послушай! – вечером Ленушке предлагает. Голос прискорбный, измученный, угнетенный изобразила. Доходяга душевная.
Включила магнитофон, и зажурчал, заклекотал задушевный, матерый, жизнерадостный Костенькин храп. Некоторые периоды плавно выводит, апогей с перигеем прослушивается, а потом вдруг угасится начисто звук, перемрет ненадолго, да как распростается – ровно пускач кто в носу рванул.
Тещенька возле ленты сидит, лента крутится, а она разрисовку дает:
– Арарат обвалился. Во! Во! Храпоидолы в рукопашной сошлись.
Дождется еще одной даровитой напрягнутой ноты – еще расшифрует:
– А сейчас с пещерным медведем схватка. На заре прогресса действие происходит.
Ленушка недоумевает:
– Что это за странная запись, мама?
Прямого ответа не поступает:
– Тсс. Во!! Танки справа! В укрытие!!
– Какие танки, мама?
– Такие… Проиграй эту документальную запись в народном суде, любой мало-мальски гуманный судья расторгнет и аннулирует… С первого же прослушивания развод предоставит. С печенегом живем…
Дошло наконец до Ленушки.
Вскрикнула, кинулась ненавистно на магнитофон и в клочки эту ленту, в клочки. Потом в слезы да в беспамятство.
У Софьи Игнатьевны юбки от оторопи засвистели. Водою ее отбрызгивает, виски ей перцовкой смачивает, уши кусает дочерние. В чувство бы привести.
– Ты меня не дослушала! – голубою слезою окатывается. – Это в нем силы клокочут жизненные… Объем груди извергается… Породите мне внучека! До каких пор могу я с птицами?! Поневоле всякая пустельга в интеллект заселяется.
Вот такая малина цвела. Вот откуда и заумь такая возникла, мол, не стало танкисту ни свету, ни дыху от вздорной и взбалмошной тещеньки. Отчего и в Египет хотел убежать. Сваха да ворожея, говорю, известные полководцы.
На самом же деле случилось – пошли Костя с Леной в кино. Как обычно, журнал поначалу показывали. Учения танковых войск. И видит вдруг Костя воочью, во весь-то экран, видит Костя дружка своего, командира «тридцатьчетверки» Алешу Лукьянова. Майор Алешка! Реку его машины форсируют! И не надо Алешкиным танкам мостов и понтонов. Словно скорые умные раки, ползут они по дну реки. Только рокот, могучий бронесказуемый рокот! Не дышал, на экран глядя.
Вернулись из кино – молчком разобрался, заранее веки сомкнул. Лена чего-то мурлыкает, ластится, а Костя, недвижим, безгласен лежит. Алешка все мнится. А не вместе ль они, колхозные пареньки, перводерзкий пушок над губой постоянно, для форсу, мазутом пачкали. Надышишься сладкой соляровой гарьки – и повлекла, повлекла тебя молодая надежда. Каждая звезда куковала, самое радугу плечьми подпирал. Некто поверхностно видит и думает – старшина на пушечный ствол, ноги свеся, присел покурить, а это совсем и не старшина. Генерал это. Или выше бери. Мечта наша, пташка, куда не дерзает.
«Десять классов – кровь с мого носа – закончу, – цедит дымок старшина. – Воевал достойно, броневую службу люблю… Таких, молодых-неженатых, в любое училище: «Милости просим». Старые-то кадры пыхтят вон…»
И в самом деле – пыхтят. Инспектирующий генерал на подходе.
Прянул с орудия пред ним старшина – не то бог молодой, не то черт холостой… Из-под темных бровей сини кремни искрят, белей, чем у молодого волчиньки, зубы, от погона до погона – четыре перегона. Козырнул. Доложил. Пояснил. Благодарствован был – «Служу Советскому Союзу!!» – зазвенькало серебро на груди. Каждая звезда куковала. Самое радугу плечьми подпирал.
Некто, с простой души, думает, старшина тут присел покурить, а тут – академик сам, бронетанковый! Мечты наши, пташки… Прихлопнул вас крокодиловый чемодан, подыграла вас фараонова кость. «Сколько же Алешке лет теперь?» Перепутал его подсчеты голос из репродуктора. Передают заявление правительства… «Египет стал жертвой агрессии…»
Косте вроде бы старострельную рану потронули: «зять английский» припомнился, картежник, союзничек. «Погоди, погоди… Египет? Он же там фараоновы кости взрыл? Капиталы там, комендант говорил! Совладеет Суэцким каналом?»
Вслушивается в радио и, как ясновидящий, мнит: «Там акула! Там вол-ча-ра… Кус египтяне из пасти вырвали!»
И еще сторожит ухо тоскливое слово – «жертва»: «Кондрат твоя жертва, я твоя жертва, теперь – Египет. Народ целый!» – сыграл желваками.
День за днем, час за часом – солят, вередят газеты и радио по Костиной ссадине, по сукровице. Сообщают, что англо-французы бомбардируют Египет, силой пытают отрезать Суэцкий канал, что используется уже американское оружие…
«Там! Там акула!» – поджигается с каждым сообщением Костенькина обида и месть.
Потом – дивно! «Английский зятек» измельчал, уничтожился, как-то сникчемился. Египет завоссиял, побиваемый. Ничто перед горем его Костенькина скула с синей гуглей, и танковая академия – не потеря, и трибунал забываться стал. Одно нестерпимо – малых бьют. Малым с колен привстать не дают.
Тринадцатый день Египет в крови и в огне.
Тринадцатый день неславно на отчей земле далекому русскому человеку. Вот так, наверно, когда указняется совесть, и ходит Россия на Шипки. От родных пашен и скворушков, от малых детей и возлюбленных жен…
Ленушку не тревожит. Зачем ей, маленькой, его мужская сумятица? И одним вечером – официальное заявление. Смысл тот, что если наглое избиение Египта не прекратится, то в Советском Союзе не будут препятствовать выезду добровольцев, пожелавших принять участие в борьбе египетского народа за его независимость. Утром, стоял Костя перед военкомом. Прочитал тот заявление, полистал военный билет и чутку обескуражил парня.
– Рад приветствовать вашу решительность. Первым в нашем военкомате. Придется, однако, подождать. Нет нам пока прямых указаний. Где вы остановились – на случай срочного вызова?
– У Кондратия Карабазы.
– А-а-а… Это который раны винцом потчует, – усмехнулся военком.
– Достойные, стало быть, раны, – отликнулся Костенька.
– Добре! – протянул военный билет комиссар. – Если сегодня до конца дня не вызову, явитесь завтра в девять ноль-ноль.
Развернулся сибирский конек к Кондрашечке.
Известился Карабаза, что намерен немногословный, но каменный в слове его командир добровольцем пойти, сунул по соске-пустышке в губенки своим близнецам и ходом скорей к военкому.
– Меня тоже пишите. Кондратий Карабаза. Еще не все танкисты погорели!.. Три зубу не взыскано. Панихида не справлена…
Ответ получил, как и Костя: завтра в девять ноль-ноль.
Зима тот год ранняя стояла. Снега. Морозный денек – куцый. Однако достаточный, чтобы райцентру стало известно: танкисты едут в Египет. Заторопились на Кондрашечкино подворье друзья-товарищи. И знакомые, и полузнакомые. На летних сборах встречались, на полигонах и просто в военкомате. У Кондрашечки фляга браги стояла. К именинам крепилась. Откинул он полог в запечье, прислушал:
– Курлычет! – братве подмигнул. – Вчерась сахару добавил – как тигра всю ночь рычала.
Барана под этот случай прирезал.
К вечеру еще один в Египет решился. Этот из молодых. Только демобилизовался, новые танки знает.
Ну… Усидели бражку, умяли барашку – вызова от комиссара нет. Направились в забегаловку. Там восприняли. И задрожала, заколебалась в углах паутина.
– Все мы от одного танка произошли! От «тридцатьчетверки»!! – целует воодушевленный Кондрата пожилую буфетчицу.
Попоют, попоют – побеседуют. Про Египет, само собой, разговор.
– Птица феникс у них в поверьях есть. Сама себя сжигает и из пепла потом воскресает.
– Про птицу – сказка. А вот народу действительно приходится из пепла. Из крови…
По соседству с танкистским застольем директор местной конторы Заготскототкорм черева услаждал. Хмыкал он, хмыкал пупку своему, а потом плеснул гранатый стакан еще на «каменку» и произрек:
– До чео… До чео народ хитромудрый пошел?! И на целину, и на велики стройки, и в сам Египет корячится. А нужен ли он тебе, Египет? – на Костю уставился. – Какая у тебя там болячка? У тебя другая болячка… Славушки жаждуем! Патретик чтобы наш пропечатали, фамиль вознесли. Весь тут и Египет.
Костя с лица сменился. Привстал даже.
Остановил его звонкий, словно на наковальне сыгранный смех. Оглянулся сюда, а здесь инвалиду юморно стало. Изнемогает – хохочет. Аж рукав у фуфайки трясется, ходором ходит.
– Разве в такой шубе мыслимо? Да ты в ней, не доезжа Дарданелл, обовшивеешь…
А шуба на Косте – сибирских барашков мех. Фабричного производства, под черный блескучий хром выделана. Всего лишь неделю назад из сельпо ее Лена вынесла. Полгода яйцами отоваривала, дедко быка годовалого за нее же пожертвовал. На деньги не купить тогда было – к товарообмену колхозника поощряли. Для работы-то Косте и ватник был гож, а на люди, на мороз, кроме бобрика-ветродуя, одеть было нечего.
– Ежель в Египет, закосил бы ее инвалиду, – набивается однорукий.
– Правильно калека говорит, – поддержал однорукого Заготскот.
Напряглась забегаловка.
– Значит, мы для портретика, – сыграл скулами Костя. – Значит, славушки жаждуем?! Покупай! – в честь момента освободился от шубы. – Покупай! – протянул ее однорукому.
– Какая еще цена будет, – хищненько запустил владыку в меха инвалид.
– Восемьсот семьдесят девять рублей отоварено. Копеек не помню…
Кондратий вмешаться хотел, а потом оценил инвалида: чай, денег всего-то на стопку с прицепом. Еще потому не вмешался – позорный упрек всем им брошен. Не препятствует сделке.
Погулял по мехам инвалид, химикаты снаружи понюхал. «Отвернись на минутку!» – буфетчицу просит.
После просьбы ослабил опушку у ватных штанов и извлек из нательного тайника пачку сотенных. Отслюнявил восемь бумаг:
– Держи, египтянин! – колокольчатый снова выдал смешок.
Кондрашечка теперь затревожился:
– Погоди, погоди, Константин!.. А в чем же на улицу? Мороз двадцать градусов, и в Египет еще бабушка надвое…
Отстранил его Костя. Кондрашечка к инвалиду:
– Поимей совесть! Середь зимы раздеваешь… Морозы-то стоят! Цыган и то с рождества…
– Деньги без глаз, – голосисто журчит инвалид. – Они и на Северном полюсе тепленькие.
– Тогда отдай хоть фуфайку на сменку. Будь жельтменом. В одном френчике человека оставил.
– Это – пожалуйста, – скинул ватник с себя инвалид. – Бери на придачу. Эту и в Дарданеллы забросить не жалко.
Перелицевалися русачки для себя неожиданно.
Осматривают один одного: все ли подогнано. Никто не заметил – когда, в какой миг покинул свой стол Заготскот. Прогнусел, вонзил яд и извильнулся. Уполз на тихоньком брюшке.
Наутро бежали наши добровольцы по звонкому морозцу в военкомат. Рукавчики у инвалидной фуфайки для Кости коротенькие, руки по саму браслетку голешенькие, пришлось для замаскировки собачьи мохнатки одеть. (Кондрашечкин дедко покойный носил, конокрад.) Военком его даже и не признал с первовзгляда.
– Слушаю вас! – очки протирает.
– Приказано было в девять ноль-ноль…
Вгляделся в него военком: доброволец это вчерашний.
– А шуба, позвольте, где? – спрашивает.
– Продана, товарищ подполковник. Я налегке решил. Там, говорят, жара неспасенная… В белых трусах, гогорят, воюют.
– Мдя… Мдя… – смущенно отмеждометился военком. – Возможно, и в трусах… Только поспешили вы шубой распорядиться. Нет мне пока никаких указаний. И, думается, не будет. Думаю, поостудит горячие головы позавчерашнее заявление правительства. Москва говорит – не воздух, чай, сотрясает. Вот так-то, ребятушки. Рапорта ваши пока на столе, под руками у меня будут, а вы спокойно работайте, каждый на прежнем посту. Потребуетесь – немедленно вызову.
Потряс с благодарностью три отбронелых мозольных руки, и подались гусечком славяне не солоно воевавши. Военком еще раз, теперь с тыла уже, оглядел кургузую Костину фуфайчонку и длительно барабанил потом пальцами по стеклу.
– Мдя… Мдя… Век служи – век дивись. А кто ж это произнес, что русские долго-де запрягают?..
Танкисты меж тем совещались: как теперь быть. Инвалид, по словам диспетчера автовокзала, уехал уже в Казахстан. Сделку теперь все равно не расторгнешь, шубы теперь не воротишь…
А без шубы явиться домой куда как неславно, нелепо, конфузно и совестно. И в Египте не побывал, а уж урон в обмундировании. Ведь каждый досужий язык… Скажут: пропил, прогулял… Тещенька птицу наказывала… Губы опять подковкой свернет. А Лена, бедная Ленушка… Полгода яйца сдавала. Дедко быка не щадил. Худо, погано содеялось.
Костя даже на правительство разобиделся: «Съел облизня… Поплевал в кулак да на сквозняк его». Картежник в памяти нарисовался – того поганее на душе сделалось. «Второй раз из-за гада впросак попадаю».
Спасибо Кондрашечке. Пообонял он поисковым, принюшливым носом своим и вдруг встрепенулся:
– Пошли к Македону! Свой брат – танкист. Уж если не Македон, то и не бог…
Македон – офицер запаса. В миру – председатель райпотребсоюза. Сибирский купец.
– Выручай, Македон Федорович! Окончательно мы погорели. Такой «фаус» нам поднесен… Шубу надо. Упаси от бесчестия наглого.
Обревизовали промтоварные склады, обзвонили недальние деревеньки – нет шуб. С подвоза их разбирают. Заранее отоварены. Сибирских барашиков мех…
Ну как домой показаться, как вразумительно объяснить? Бои чуть ли не под экватором где-то идут, а в Сибири шубенку боец забодал. Протяни-ка сумей здесь причинную ниточку.
Купили, поверх телогрейки, непродуваемый плащ. Все-таки на «жельтмена похож», как изволил Кондрашечка выразиться. В собачьих, правда, мохнатках, пожертвованных. Хоть руки в уюте. Домой устремлялся подгадать ночью приехать. Не всякий чтоб глаз соблазнять. Перед дверью вдохнул обреченного воздуху, отворил и юловатым каким-то, несвойственным голосом не то домочадцам, не то «композиторам» здравия пожелал.
– А шу… – не договорила, повисла на шее Ленушка.
– А шуба где? – узаконила вопрос Софья Игнатьевна.
– Мобилизовали шубу, – криво усмехнулся Костенька.
За чаем подробненько все обсказал. Утешил как мог:
– У Кондратья барана по этому поводу съели и бражку… На именины и раны обмыть не осталось.
– Ра-зы-щет! Весь в конокрада-покойника, – попытался направить беседу в сторону пращуров дедушка.
Софья Игнатьевна, однако, Заготскототкормом интересуется.
– У него жир с рожи каплет, – подожгло опять Костеньку. – Жрет коровью печенку!..
– Наплюй! – неожиданно потискала Костину руку тещенька. – Честь наша с нами, а шуба перед ней – тьфу! Вижу не мальчика, а доблестного мужчину, дочь моя, – встормошила прическу Ленушке.
Костенька даже скраснел. На этом домашние толки и кончились. Агрессия тоже вскоре закончилась. Военком правильно рассудил: Москва не воздухи сотрясает.
Про шубу в домашнем кругу порешили не распространяться особо, а дедушка взял да и заложил добровольца. В колхозном правлении. Привсенародно!
– А все-таки здорово иностранная разведка работает, – свои соображения высказал. – Сопчили военным министрам, что сибирски ребята шубы распродавать по дешевке начали, у тех и в кишке стратегической холодно сделалось. «Продадут шубы да заделают нам египецко небо в овчинку…»
– Про какие ты шубы маячишь тут, дед? – наводящий вопрос ему задали.
– Дык… Костенька наш. Неспособно же на икваторе в шубе.
Заложил внука деревенскому мнению. Египтянином после этого Костю прозвали. И старый, и малый в момент подхватили, и начальство, и подчиненные, и в бане, и в сельсовете. Кончился Гуселетов. Живи теперь, Константин, иждивением народного творчества. Сочинится в мехмастерской перекур, и тут же чей-нибудь язычонка проворный отметится:
– А что, Костя?.. Взять бы тебе да и самому Гамаль Абдель Насеру рапорт подать? Неблагородно, мол, с шубой случилось. В фуфайке опять по морозу полкаю из-за своей солидарности. Неужто он тебе египетцку форму не вышлет?!
– Даже египецко звание может присвоить, – поспешает с горячей догадкой второй добросерд. – Фараон третьего ранга!
– Га-га-га…
– В фуфайке проходим, – ежится танкист.
Угнетал, подавлял его такой разговор. Незлобивый он и шутейный, а гордость твоя не приемлет. Пусть кума полоротая, пусть ворожея, пусть самое что ни на есть худоязыкое полудурье, пусть даже понятливый человек и всегдашний доброжелатель твой, а коснутся сторожкого места в душе…
– Салют египтянину!!
– Страуса теще не подстрелил?
И тоже не без смысла. Кто на оглоблю вешался? Она. Кто просил птицу египетску добыть, коя с крокодилом сожительствует, в зубах у него ковыряется? Она!
Опостылело слушать. Кондрата Карабаза – тот походя отшутился бы. А Костя – тяжелодум.
Приспел отпуск, и собрался он якобы к другу на Волгу. На вторую неделю приходит оттуда письмо. «Жизнь наша, Ленушка, в корне меняется. Работаю на бульдозере, живу в общежитии. Поступаю в вечернюю школу. К весне, как семейному, мне обещают квартиру. Закончишь учебный год и скорей приезжай. Учителя здесь нужны. Буду ходить в твой класс. Пиши мне помногу и часто…»
До Нового года жили они перепиской, а в каникулы Ленушка разыскала его. Без никакой телеграммы на рабочей площадке явилась. Выскочил из бульдозера, отнял ее от земли, маленькую, и целует, целует живое румяное счастье свое над застывшей студеною Волгою. Крановщики, экскаваторщики заприметили, видно, что белую заячью шапочку залучила чумазая Костина роба, залучила и носит по кругу, по кругу, по кругу… Как загудят-заревнуют мужья-одиночки. Ленушка уж отбивается от его поцелуев. В нос ему рукавичкой, в нос… А нос-то, вы, братцы мои, наисчастливейший!
Натвердо было обговорено: весною Елена сюда. Работа – хоть завтра.
Уехала заячья шапочка. В Сибирь, к дедушке.
И вот – полоса жизненная… Так настроилась – то передряга какая, то сюрприз тебе подлинный. Событие с событием сближается.
Получает от Ленушки телеграмму. «Приезжай, если можно. Мама выходит замуж Луку Северьяныча».
Поехать, понятно, не смог – авральное время на стройке гудело. Поздравление послал. «И как это оно шустренько у них, старых, склеилось?» – не перестает восхищаться.
А случай-то – не из ряда вон. Житейское дело.
Уехала Лена на Костину стройку. Остались они один на один с недомолвками прежними. Новый год настает. Дед Мороз с чудесами со всякими ходит. Сидит после баньки Лука Северьяныч, отечественным сибирским румянцем сияет.
Манефа мурчит, самовар ворчит. Балакирев конопельку ест. Под сибирское время рюмашку со сватьей приняли. По московскому повторили.
– Ну и гемоглобину в вас еще, Лука Северьяныч! На трех юношей хватит современных.
– Ничо себя чуйствую… – подсекся голос у старого.
Наутро он первым воспрянул – пора бы корову доить. Игнатьевна сладко и мило ягняткой пригретой спала.
Философствовал малость: «Конечно, птица, как ты с ней не играй, – все птица. Одно чириканье».
А потом, через пару каких-то минут, смятенно гляделся он в сонную сватьину грудь и почти по складам, как ликбез позволял, вчитывался в зеленые буквы наколки:
– До-лой стыд…
Еще бдительно раз прочитал – то самое. Не вырубишь топором: «Долой стыд!!» И два восклицательных знака оттатуировано.
Жарко молодожену сделалось, смутно. Закрякал, заворочался, изломал золотую-то вдовью зореньку. Тут же, на ложе греха, и допрос учинил. Ущипнул за один восклицательный знак!
– Это что за лозунга таковая?
– Это… – принялась отстранять его заскорузлые пальцы сватьюшка, – это еще в период нэпа… В Ростове… Организация у нас, у девчонок, такая была. «Долой стыд» называлась. Нэпманши, паразитки, и ихние доченьки в бархатах да в шелках мимо нас фигурируют, а наша прослойка – в сатиновых юбочках выше колен. Безработица нас угнетала, мануфактуры лишнего метра купить было не на что. Ну и, как вызов обществу, наколки вот эти… дурочки глупые…
– А это… Софья тебя зовут… Сонька Золотая Ручка – не твой севдоним? В том же градиусе курулесила…
– Этот мир мне далек и незнаем, Лука Северьянович. Мы вскорости девичий театр организовали.
– И кого же ты там представляла?
– Куплеты пела. Антирелигиозные… Попов искажали.
– Из деревенских баб наших никто не прочитывал это воззвание? – потянулся опять к восклицательным знакам Лука Северьяныч.
– Ну что вы! Я от Ленушки даже таю – одна в бане моюсь.
– И не моги!!! Спаси тебя богородица кому-нибудь этот афиш показать.
– Я сама уже целую жизнь за девичью эту глупость расплачиваюсь. Хоть кожу срезай. Ленушкиного отца постоянно смущало и коробило даже.
– И покоробит. Я сам вот чичас чуть в дугу не загнулся. Тут ведь вот что еще размышлять надо. Вот помрешь ты, к примеру… Придут деревенские бабы тело твое обмывать. Ну и что? Упокойница, скажут, а с чем перед анделом выставилась, на что намекает, чего завещает? Нет. Тут какие-то меры надо принять. Змея бы, что ли, по сему полукружью дорисовать? Или орлиные крылья вытравить?..
– Воля ваша, Лука Северьяныч. Я поэтому самому, может, вполжизни жила. Ленушкин-то отец… Не мог примириться. Не верил мне тоже. Я полгода лишь женщиной пробыла… Ни ласки ничьей и ни преданности…
Слезы крупные у нее навернулись.
Лука Северьяныч сладостный веред какой-то в предсердии своем ощутил, словно птенчик какой-то там отогрелся и выклюнулся. Задышал он взволнованно, жарко, во сватьино ушко:
– Не томись. Перепела тебе упоймаю… Белого… Токовика…
Обвилась-оплелась опять комлеватая плотная шея Луки Северьяныча жаркими белыми руками.
– Мне теперь семирадужного не надо, – лепетала. – Повыпущу всех. От вдовства, от тоски с ними баловалась. Воспоют пусть свою благодарность за грехопадение мое.
– Ну-ну… Уж растрогалась как. Ни холеры им не воспеть. Погинут. Неспособные оне к вольной жизни. Тут кроме птиц есть вопрос. Вдовство наше, по-видиму, кончилось, и следует нам перед детями нашими и перед деревенским обчественным мнением в чистоте и законе себя соблюсти. Справим свадьбу. Объявимся всем. Корову ты научилась доить…
Костенька всякой подробности этой не знал. Откуда ему… Это между двоими. Вполголоса. Однако, по-честному если признаться, трижды и трижды благословил он дедов и тещенькин брак. Вся его жизнь прояснилась. Совесть его ущемляла, что дедушку бросил. Теперь он пристроен, ухожен, Лена от мамы тоже свободна, тещенька вроде бы на искомую колею набрела. Одна головешка в печи гаснет, а две головешки и в поле горят. Стратегики старики!
Приехала Лена. Работал желанно и всласть. Завлекала и зазывала работа. Плечи иной раз немели, пальцы терпнули. Появилась новая песня о Волге. И была в ней строка такая: «Свои ладони в Волгу опусти». Костя ее на свой лад напевал. Не с пригрустью и не с угасанием, а как побудку: «Сотвори ими, на Волге, своими».
Начинается это исподволь, постепенно, и вселяется однажды в рабочего человека сугубая вера, что нет на земле алмазов, равноценных честным мозолям его, что сам он, владыка пары рук, драгоценнейший камень в короне Державы своей. И сознает он тогда себя соленой частичкою рода людского, истцом и ответчиком века, подотчетным лицом за ребячью слезинку, за напряженный бетон, за слова на высокой трибуне.
На Волге получил Костенька первый «гражданский» свой орден. А по окончании строительства вызвали его в отдел кадров и попросили «подробненько» рассказать про судимость. Потом и про шубу. «Откуда дознались?» – дивится Костенька. Веселый рассказ получился. Кадровики с удовольствием выслушали.
– Ну а теперь как? – спрашивают. – Закрепла рука? Можете вы ею руководить? Не понесет опять… в самоволку?
– На ваших глазах живу, – ответствует Костенька. – Аттестат зрелости выдан. Не должна понести, – на кулак усмехается.
И предлагает ему отдел кадров поехать в Египет. Плотину строить. Строить одно, а второе, самое главное, говорят, египтян обучать там придется. Самостоятельно чтобы на наших машинах работать могли.
– О жене вашей тоже подумали, – говорят. – Многие наши специалисты с семьями едут. Школы там русские будут, детские садики.
Вечером пересказал он этот разговор Ленушке.
– Трогаем, египтянушка? – приласкал ее волосы.
Почему-то она раскраснелась. Смотрит тайно: то смелость немая во взоре мелькнет, то беспомощность, ласковость, нега.
– А врачи наши, русские, будут там? – чуть не шепотом спрашивает.
– Будут, конечно, – спроста отвечает. Потом спохватился:
– Погоди, Ленушка… Ты почему про врачей?.. Ты… Ты…
– Я!.. Я!.. – зазолотились слезинки. – Я, паразит такой! – И начала она колотить его по чему попадя. – Столб уральский! Чурбан! Эгоист разнесчастный!!
Поднял он ее на руки, мебель пинает, кошке хвост приступил…
– Ленушка! Ленушка!! – возгудает. – Неужели-то? Дивонько ты мое.
Стал наш Костенька действительным, всамделишным египтянином.
Дедко в деревне аж грудью хрустит:
– Сказано – сделано! В нашем роду трепачей не было. В мусульманы перейдем, а на своем постановим.
Однажды нащупал Лука Северьяныч фотографию в международном конверте. Пупок и кортик наружу, смотрит с нее на Луку Северьяныча молодой Гуселетов. Сватье внук, ему правнук. Через год с небольшим опять жесткий конверт. Сватье внук, ему правнук.
– Климатичецкие условия способствуют, – с ученым видом пояснил он супруге. – В тепле кажин злак…
– Молодость способствует, – вздохнула Софья Игнатьевна. – Нас с вами хоть на Огненную Землю уедини, хоть на Камчатские источники.
– Ты брось господа искушать… Чего намекает?.. Да появись, ко примеру, у нас дите… Это кто будет? Это дед будет? Это дед будет Костенькиновым Ваське с Валеркой. Небывалое дело, чтобы дед младче внуков произрастал.
– Понянчиться бы, – вздохнула опять Софья Игнатьевна.
– Приедут вот в отпуск – понянчишься. А на меня не уповай…
Месяца через два после сего разговора навестило их снова письмо. Костенькиной рукой писано. Смысл тот: если согласны вы, старики, приехать сюда погостить, выхлопочу вам пропуск. Пишите или телеграфируйте. После прочтения Лука Северьянович в сомнениях погряз, в тайных розмыслах. У супруги же пушок на губе ветры странствия тронули:
– Поедемте, Северьяныч! Древнейшая колыбель цивилизации! Контрасты всякие, экзотика. На верблюде сфотографируемся.
– Икзотика? Болезнь, что ли?
– Господи, слышим звон… Чудеса незнакомой природы это. Чужеземные пляски, свадьбы, игрища, останки фараонов…
Северьяныч во время таких непонятных слов и на «вы» начинал ее называть. По имени-отчеству.
– Попутного ветра вам, Софья Игнатьевна. Шесть фунтов под килем. Само время поехать. Соопчали – фараона там неженатого изыскали. Обвенчаетесь гля икзотики. Лучше верблюда уродище…
– Господи! Чего он трактует?! – притворно затиснула уши Софья Игнатьевна. – Как и не оскорбит только!
– Поезжайте, поезжайте… Птица феникс там есть… Раз в пятьсот лег прилетает. Нынче, соопчали, как раз должна прилететь… Муравьиных яиц только с собой захватите.
– Он невыносим, – принялась перцовкой виски себе смачивать супруга. – Пока способна душа удивляться… тьфу! Чего я…. Внук единственный призывает! Правнуки ваши там!! Кулачками маленькими вас за бороду осязать…
– Так бы сразу и говорила по-человецки. А то – верблюды, игрища… Пусть в баню ко мне приедут… Покажу игрище…
Замолчал, заструил бороду и откровенно признался:
– Разведка меня сомущает. Опознает – таких верблюдов применят – повзвоем матерым волчушкой. Там Митьку Козляева не посвистишь!
– Никакая разведка не затронет вас и не опознает. Мания это у вас надуманная. Я бы на вашем месте специально орден для этого случая привинтила. Пусть видели бы Костенькины товарищи, какой у него самобытный дед. Исполнен отваги, достоинства, мужества – закоренелый, могучий, старосибирский дуб на древнюю землю пожаловал. И даме на геройский локоть достойнее опереться.
– Дубы-то у нас не ведутся, конечно, – начал склоняться Лука Северьянович. – Стало быть, привинтить, говоришь?
– Всенепременно! Египтяне вам честь будут отдавать как старейшему воину. Ваша суровая биография рядового сибирских полков всему свету известна.
Подольстилась-таки. Обкуковала седого кочета.
– Тогда вот что, – примиряюще крякнул Лука Северьянович. – Тогда груздочков бы надо молоденьких присолить. Костенька уважает. С разлуки его даже прослезить может. Из-под родимых березок душок…
– Перепел вы мой вдохновенный! – поспешный поцелуй ему в сивую заросль вонзила.
После достигнутого согласия отослали они международную телеграмму: «Ждем вызова».
На другое утро повесил Лука Северьянович корзину на локоть и пошагал по просторным березовым колкам. Гривки выбирал. По гривкам он толстенький, груздь, растет, упругонький. Как осос-поросеночек. Найдет запотелое в соках земных духовитое скользкое рыльце, осмотрит с исподу пушок, волоконца. Слезинку меж волоконцев старается углядеть. Коли гож, коль по нраву груздок – с ближайшей березки веточку сломит, обласкает ее тихим словом:
– Умница. В Египет листок твой свезу. Груздки твоей веточкой переложу.
Не по нраву – другой разговор:
– Самобытности в тебе нету, – укоряет груздя. – Икзотики недостаточно.
Готовит их под посол, а они, как серебряные рублевики, светятся.
– Интересно, употребляют ли их мусульманы? – гадает по ходу дела. – Возможно, с отдельным компанейским веселым феллахом араки восхряпнуть назреет момент… Закусь-то! Под такую – всю международную ярмарку с копытов долой.
Усолели груздики, закупили старики в сельпо чемоданы, сговорили соседку доглядеть по хозяйству в момент их отсутствия. По первому зову, как говорится, готовы, а из Египта покуда ни весточки.
И вдруг телефонная вызывная. Через сельсовет. Приглашают Луку Северьяновича в райисполком. Одного. Без супруги.
Софью Игнатьевну такая неполноценность за сердце кусила.
– Надень орден! – настаивает. – В случае, если мне власти отставку затеяли, ты басом на них, на современную молодежь… С высоты подвига разговаривай.
– Ладныть, – пообещался Лука Северьянович. Торопливо и уважительно усадила его секретарша.
Извинилась, исчезла в соседнюю дверь. Через минуту вытеснился из нее Заготскот, за ним Македон проследовал. Приглашают Луку Северьяновича. Поздоровался с ним председатель, усадил со всей чуткостью.
– Как здоровье, Лука Северьянович?
– Ничо себя чуйствую. Борзенько еще.
– Сердечко не балует?
– Не чуйствую покамест.
– Дровишек, сенца заготовили?
– Дрова соковые ноне нахряпаны, сено под дождичком, правда, случилось.
Еще два-три «обиходных» вопроса – и приступил председатель к сути:
– Крепитесь, Лука Северьянович. Прискорбно обязан я вас известить, что внук ваш Константин Гуселетов отважно и самоотверженно погиб…
Наклонилась и замерла в голубой седине голова. Задавил короткое первое всхлипывание. Задавил и второе. Чего-то отглатывал долго. Молчал.
Когда изготовился всякую боль вместить, бестрепетно поднял взор:
– В сраженьи… случилось? Или… от техники?..
– Тут письмо нам, – развернул листки председатель.








