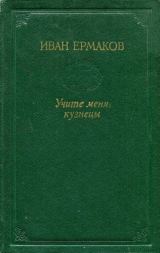
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Давайте выкопаем, – расплылась старожителева борода. – На коклетки пропустим, съедим по коклетке – сразу мамонтовая сила прибудет.
Черноволосый коротышок между тем натянул на себя бумажный, из-под цемента, мешок, упрятался с головой и конечностями в его полую емкость, опять превратился в «пень». В мешке только прорезь для глаз, черта носа и рта, устрашительные усы прорисованы углем.
– Это я придумал, – глуховато доносится из мешка. – От комаров и от оводов…
– Как же ты пылью… цементом не задохнулся, эдак лихо отплясывая? – присел против прорезей дед.
– Мы их выполоскали, – бухтело в мешке.
Пассажиры щупали бивень.
Солнце в такую пору долго высматривает-выискивает над горизонтом укромную западенку. Схорониться на пару часов, подремать. На одной щечке спит в эту пору солнце. Второй стережется. Не проспать – петухов разбудить, шмелю крылышки обсушить, елке «свечечку» обогреть.
Оттого-то и белые ночи. Оттого на Реке и дивы…
Начинаются дивы всегда на изгарном закате, когда солнце – не солнышко уж, а всего от него косачиная алая бровь над хребтами Уральскими остается. Вот и она потихоньку смигнулась, упряталась. Над незабудковым простором воды распростерлось – вдали, впереди, между двух берегов – протяженное узкое облачко.
Солнце да облака, они – старые волхвователи, давние чудотворцы… Подожгло это облачко схоронившейся косачиною бровью, осияло недремною солнцевой щечкой – и взгорело нещадным румянцем, вспылало, оплавилось, до самой последней кудряшки, до самого тонкого перышка пронзилось закатом надречное длинное облачко.
Капитан перед вахтой обходит корабль.
Ночью вахты несут капитаны.
На корме собралось население от трех до семи. Тут же и цыганенок.
– Трави носовой! – отдает он команду и вослед ущемляет татарчонку-ровеснику нос.
Тот не скулит, не робеет. В свою очередь зажимает меж пальцев цыганское нюхальце и тоже по-уставному командует:
– Отдать носовой!
– Трррави носовой! – гундосит цыган.
– Отдать носовой! – пыхтит крепышок татарчонок.
Теперь до чьих-нибудь слез не расстанутся.
Самые малые, прильнув к зарешеченному барьеру, ограждающему борты, следят, не смигнув, подкрашенное закатом неистовство струй, выпирающих из-под винта.
– Как каша кипит, – находит сравнение один.
– Каша белая. Скажи, как кисель, – поправляет второй.
Гладит, походя, ребячьи головки наш Капитан.
Тихо, тихо смеркается.
Красные бакены, белые бакены – каждый сам по себе умница и «колдун». Сам определяет: светло на Реке или уже потемнело. Явись туман или ранние, от обложных туч, сумерки – каждый сам себя зажигает, сам по себе горит. Фотоэлемент. «Где ты, где, семи-радужный тятенькин керосин? С Кавказа везли, а по нефти плавали… Дивы!»
Зажигает Река красные и зеленые «правила».
Капитану на вахту.
Ночью вахты несут-капитаны.
Есть ли запах у древностей?
Капитан уверен, что сейчас ему «мамонтом» пахнет. Бивень сложен на нижнюю палубу, а на мостике, будьте любезны, запах пронзает, навеивает.
«Вот ископаемый! – размышляет-беседует сам с собой Капитан. – Через миллионы лет клык свой явил! И ни чатинки. Ни трещинки, ни зазубринки…»
Трогает кончиком языка свой подъеденный зуб: «Не болит, а шатается. Живьем последние растеряешь. Век не вытерпливают».
Вспомнил «творческого индивидуума»:
«В которой каюте он? В двадцать восьмой, кажется. Как это он о коротком знакомстве?.. «В зубки посмотреть ближнему своему». Сынишку везет рекой подышать. Все с блокнотом подстраивался. «Узелки биографии» интересуют. «Взлеты, шлепки и падения». «Очерк о вас написать попытаюсь». Был таковой обо мне. Был, дорогой. «Душа Иртыша» назывался. Ду-ша Ир-ты-ша… От мамонта – клык, от меня – очерк…»
Капитан усмехается:
«Индивидуум», действительно! Стопку выпьет, а куражу, словотворчества!.. «Пить так пить! Чтобы дым за кормой шел!» – подстерегает очередную чью-нибудь занятную биографию… На полпути заявляется: «Примите шефство над творчеством, Капитан. Кредитуйте до Салехарда полсотни. Проконьячился нерасчетливо. Потомка кормить не на что».
– А дым за кормой, будьте любезны, окончился?.. – Ну вот, дорогой. Дам буфетчице я указание. Парнишку твоего пусть кормит под пряжку, а тебя, будьте любезны, на рубль в сутки. Без «дыму». Эдак и до «голосов» додымляются. Русалки за бортом скатерти им расстилают. Бывалое дело на кораблях…
Третий день теперь на рубле плывет.
На крутом повороте Реки Капитан забывает про «двадцать восьмую», настороженно всматривается в огни, в огоньки. Дизель-электроход оставляет по борту сухогрузные караваны барж. Кирпич, цемент, блоки домов, щебень, стекло, арматура – плывут караванами новые города и поселки. На Север! На Север! Скорее на Север!.. Солнышко на одной щечке спит – Река не спит. От льдов и до новых льдов – беспрерывный рабочий день. «Боевая жила этого организма».
«Индивидуум», тоже на Север. «Языковый котел», говорит, «Современник в ассортименте»… Как это он портрет мой описывал? Вслух, под собственную диктовку в блокнот заносил. Не поступит ли с моей стороны возражений. «Умеренно грузен. Стрижен под «бокс». Фасад золотых зубов. Румян, но не склеротически». Не скле-ро-ти-чес-ки?..
Фу! Опять Капитанушке мамонтом напахнуло. Запах необъясним, но, убей, истинно: мамонтом.
«Вот ископаемый! Хоть на борт сих останков не допускай. Как-то раз позвонок его вез – то же само о вечности думалось. О тлении, нетлении и бренности… Через миллионы лет, будьте любезны, бивнем своим достигает!
Может, добавить в «двадцать восьмую» рубль? До Салехарда еще трое суток без мала плыть. Замрет. Вдохновения после не соберет. Кто их раскусит, «творческих»? На что упирает! И Ной, дескать, пьян бывал, а корабль-ковчег рассчитал. Откуда и капитаны пошли…
До оголенных чувств моих все добирался. Каковы они, неподмесно-пронзительные, в служебно-житейских победах и передрягах. Подай ему их в первородстве и свежести. Хе, парень. Сам оголяйся, если сумеешь. Душа не карман – не выворотишь. Не побренчишь мелочью… Записал, что румянец не склеротический, и шуруй в отдел кадров. Там – анкета, там наградные листы. С последнего, свежего, и перебели. «Старый Капитан – имярек… Тысяча девятьсот шестого года рождения. На речном транспорте работает с 1920 года. В том числе тридцать пять лет (теперь, считай, сорок) на должности капитана. В течение двадцати лет (теперь, считай, двадцати пяти) назначается старшим капитаном по отстою флота…»
«Вот, к примеру, я втайне цыганом в насмешку себя называю, – продолжает негласно беседовать с двадцать восьмою каютою наш Капитан. – Цыганом! А к чему, почему – супруге на мягкой подушке не выдамся. У нее поход в гости спланирован или билеты на знаменитость заказаны, а ее благоверному в тот самый час на Иртыш заприспичило. И сбегу! Выходные дни, а я – на Иртыш. Старший капитан по отстою флота. До трехсот пятидесяти кораблей зимуют в порту… Не пройдусь вокруг них, и насмарку мои выходные. Насмарку! Неуложно тебе, неугревно, знаменитость не в знаменитость, на домашних досада никчемная, кровь в тебе вроде недосоленная, сна нет… И тогда привстаю потихоньку, как тот беззаветный цыган из рассказов отца.
Конокрад семикаторжный жил. Добрую лошадь завидит – седалищный нерв у него вскукарекает, шпоры из босых пяток растут. Полгода будет охотиться, а обратает ее, ненаглядушку. Со временем разбогател. Лошадей, что у меня кораблей. Косяки. Пастухов завел, на всех ярмарках торговал, имя его в каждой драной цыганской кибитке славится, а спать, будьте любезны, не может. Не может – и баста! Снимает тогда среди ночи уздечку с гвоздя, весят на локоть и к родимому своему табуну. Яко тать, тень, старый волк… Часами скрадывает себя, чтоб пастухов провести. В росе вымокнет, в конском горячем навозе извазгается, а самолучшего рысака оголубит. Свисту тут, вопля! Восторгу, гиканья!.. Круга в два обметелит, освищет табун на «украденном» жеребце и из ручек в ручки его пастухам. «Те-те-ри!» После этого, будьте любезны, уснет. Вот такая зараза и у меня. Только что корабли не ворую. Начинает весенний лед созревать – тут и вовсе петуший сон. Почему, может, и румянец не склеротический.
«Чувства»? Оголенные и пронзительные? В первородстве и свежести?.. Случалось, парень, оно и такое. Случается… Иногда сам не подозреваешь, что соседней секундой наскажется. Не ум-мудрец, не язык-блудня, а именно чувство слова твои составляет.
Орден Ленина мне вручили.
Являюсь домой, а навстречу внук пятилетний – Серега. Выше челки на нем моя старая форменная фуражка, вскинул пять пальцев под козырек и картавит, лепечет навстречу:
– Деда! Поздлавляю тебя с высокой нагладой! Сто лет тебе, деда, плавать. Шесть футов тебе под килем!
И завис мне на шею, теплый румяненький мой якорек. Понимаю и знаю, что старшие этим словам обучили его, а вот сместилось дыхание – и баста.
Два портрета висят у меня: батя родной и Владимир Ильич. Упрятал я нос во внуково ухо, и понесли, понесли меня ноги к простенку с портретами.
– Отцы мои, бакенщики!.. – вроде к рапорту голос напряг. Еще чего-то душа силилась высказать, да всегда ли ее кличи разведаешь и на внятный язык поместишь? Только ночью осмыслил, к чему я вдруг Ленина в бакенщики воспроизвел. Огни на Реке Человеческой?! Отец – на Томи, Ильич – на Реке Человеческой.
– Отцы мои, бакенщики! – потом уже в прозрении шептал.
Сон сбежал.
Поднялся и принялся внука рассматривать. Очень успокоительное и жизнерадостное это занятие – смотреть-наблюдать, как сонное брюшко у маленьких дышит. Потом на Иртыш повлекло. К кораблям. По морозцу…»
Ветерок понарушил чуть рдеющий глянец Реки. Встречаются и расходятся корабли. «Алябьев» на горизонте. «Кто там из «моих?» – припоминает седой корабельщик. Да. Приходится припоминать. Редкое судно разыщешь сейчас в пароходстве, на котором не бодрствовали бы его «салажата». Капитанами плавают. Старпомами… Новое офицерство Реки. Молодое и образованное. «Может, оно и есть нетленный мой «бивень?» – приветствует «Алябьева» Капитан.
Белая ночь.
Возобновляется молчаливое собеседование с двадцать восьмою каютой. «Ты, парень, тоже не от резвости и любопытства лишь души «откупориваешь». Тоже свой «бивень» отращиваешь. Канут годы, уйдут поколения, а строчка твоя возьмет да и высветится. Засвидетельствует нас. Был, мол, век и жил человек… И росла во славе Река… Вот, послушай, чего расскажу. Уж откроюсь маленечко…
Как сего Капитана провожали однажды на пенсию.
Четыре года назад «торжество» это правили. Ворох подарков! Именные золотые часы (не опаздывал бы анализ снести в поликлинику водников), хрустальный сервиз («склянки» играть), магнитофон с записью гудка моего корабля (печенку травить). Стопа адресов. Двадцать две папки… Речи. А в тех речах опять я – «душа Иртыша», «живая легенда Оби».
Стихи поднесли: «Шлют привет тебе чайки речные». Разжалобливают, будьте любезны, разнеживают. Хрусталь резной жароптичками заиграл. Спектры света сижу изучаю сквозь пленочку слез.
А зачем же вы эдак, ребятушки? – сам себе думаю. – Ведь если мать ребенка от груди, к примеру, отучивает, отнимает, нешто станет она сладость груди своей расписывать? Напротив всегда! Полынью, горчицей сосок натирают. Колючую щетку взамен из кофты выпрастывают! А вы?.. Без вас знаю, сколь сладка она, Реченька, сколь мила и зазывиста. Больше вас знаю!! По весне – первый гром во льдах – загляните-ка в поликлинику водников. Болеют, казнятся и усыхают отставные старые капитаны. Сто семь хворобин, сто семь обострений у каждого вдруг приключится. А хвороба-то, будьте любезны, – одна. Журавлиная. Льды на Север идут, и тянут шеи на Север, скрипучих сухих позвонков не щадя, отставные старые капитаны. Вздрагивают изостренные кадыки. Тоскуют глаза. Щепочками в Реку балуются… Только что не кричат, не курлычут сивонькие журавушки.
Вот так, товарищ мой творческий, в душе напевалось, насказывалось. А предоставили слово – на понюшку от той заготовленной речи осталось.
– Товарищи! – президиуму сказал. – Ребятушки! – голос в зал надломился. – Сорок шесть лет я проплавал на ней… Позвольте, будьте любезны… пятьдесят…
Сам собою народу поклон получился, и кончилась речь.
– Оставить «деда» на мостике! – кличи по залу пошли.
– Река дедова! – салажата мои нагнетают.
А я ослабел. Всегда в кулаке себя тискаю, а тут – хрустали… Спектры света сижу преломляю.
Ну и попробуй супруге о том расскажи! Хе, сивко-бурко!..
Плаксе, что ли, детей народила? Корабль – место не мокрое…»
«Надо добавить все же «индивидууму» кредиту. Сам видел – сынок ему два ливерных пирожка в бумажной салфетке нес. Мудреный народ – эти творческие! Тот же Алябьев… Запузырил на всю поднебесную «Соловья», и пожалуйста… Гордость России. В теплоход, будьте любезны, обратился. Добавлю кредиту «индивидууму». Интеллигентно попридержал, а теперь добавлю».
Дизель-электроход обгоняет целый караван барж, груженных крупнодюймовыми трубами. Под нефть или газ уготованы. Их полые зевла сложены поперек барж в огромные высокие треугольники.
Поравнялись.
Трубы пронзило зарей. Сейчас они похожи на пчелиные соты, текущие розовым медом.
Дивы на Реке. Дивы!..
Открывает Капитан в рубке дверь. Чу! На палубе разговор.
– Сейчас они, зори, у нас что невесты в соку и на выданье, – доносится снизу басок старожителя. – Молодые, неуснутые, просиянные – кровушка с молоком! А вот осенью по-другому… Густеют по осени. Мраку в них больше. Как железо при разогреве… Почему заприметил – на глухариные прииска в это время хожу.
– Куда, куда?
По голосу опознал Капитан своего задолженника.
– На глухариные прииска, – не смутясь, отвечал старожитель. – Обсыхает одна крупнопесчаная грива. Косой зовем или кошкой. На той гриве – беленький мелконький камушек с гор Уральских весенней водою наносит. Глухари разрывают песок и тот камушек с радостью склевывают. «Жернова» на зиму в свой зоб запасают. Есть там один обрывистый берег. Заляжешь на нем и дивуешься. Ровно стадо баранов на гриве пасется. Сотни, сотни, ежель не тысячи птиц сюда из таежного округа слетывают. Аж песок под когтями поет да щебеткают клювы. «Ах вы, умницы, – думаешь. – Ах, хозяева!» Раз не вытерпел – выстрелил я. Заря мне в глаза падала. Как железо при разогреве… Как взнялась их тьма-тьмушая, на эту зарю-гром, братец мой, из-под крыльев взрыдал! И не стало зари.
– Это надо мне записать, – зашелестели странички блокнота.
– Токо что записать и осталось, – поскучнел басок старожителя. – Выбили их. Прямо на прииске выбили. Камушка-то – нигде, кроме склонной уральской той гривы, нет. А в тайгу что ни человек поселяется-едет, то и новое человеко-ружье. Я вот хорохорюсь перед ребятенками, бренчу – нефть, газ, геолога восхваляю, а на душе – кошки… Почему оно так у нас получается? Говорим: Отечество одаряем, а край родной щиплем?.. Ежли ты истинный сын страны, то живи ты, трудись не за ради ясной пуговки на мундире!
«Запиши, запиши, – мысленно подстрекает наш Капитан владельца блокнота. – Здесь душа… И без «дыму»…»
На Реке появляются ранние «мошки» и «омики». Повстречалась прострельная кокетливая «ракета». Пыхтит, поспешает куда-то еще стародавний плавучий угольный кран. От льдов и до новых льдов неумолчна Река. Она в работе. Авралит. Вздыбила сегодня главную волну в извечно покойном течении своем. На горячем медвежьем следу растут по Ее берегам города, встают нефтепромыслы, станции и подстанции, опоры мостов, искрят напряженные линии электропередачи, пульсируют голубые и черные жилы газонефтепроводов, заселяют Ее берега искусные мастера и неискусные пареньки. И все это скоростное развитие питает Река, Тысяча четыреста сорок притоков сбегаются к Ее работящему стрежню.
Тропинки глубокой разведки.
И ведут, и ведут капитаны «мошку» ли, «блошку» ли по узеньким неизведанным речкам. Везут высоких парней – геологов. Берег к берегу ластится кронами кедров. Здесь на мачты доподлинно прыгают белки. Здесь мотают башкой, грозясь кораблям, круторогие дерзкие лоси. Здесь нога человека… нога Человека. Ступи, добрая! Совестливая. И разумная.
Дивы на Реке, дивы…
Далеко, далеко от Ее берегов до Москвы. Далеко – а из Кремля смотрится. Державная ныне! Державную высит волну. Державную правит судьбу.
– Река ве́ка! Столько лет тебя знал, негромкую, непоспешную, и вдруг – Ре-ка ве-ка, – словно бы первоклассник «маму», находит и видит в слогах Капитан. – Так круто! И годы под горку – так круто…
«Ну, хорошо, – ревниво опять адресуется к мамонту. – Ты бивень сберег? А я? Они, «салажата» мои, погудят. Походят за льдами. А я? Ты мороженый, а мне зябко. Ведь отлучат. Годы отлучат. Придет час, и не скажешь: «Братушки, дозвольте!..»
Ночью вахты несут капитаны.
Ночью в рубках случаются дивы.
Сгонишь мамонта, является в бликах рассветных волн заплаканная Фатима:
– Матроса, матроса! Горит мое сердце! Целуй мое сердце!.. Володя!
– Тсс-с, глупенькая! На пенсии я. Из милости на Реке. Если б снова с матросов начать…
Убегает, сминает босою ножкой солнечных зайчиков на волнах голубая девчушка с оттопыренным голубым локотком… К черным носикам беленьких медвежат. Это зябко, коль реки от нас убегают.
«Беги, девочка. Вечно беги! Если б снова – «пескарь»… Если б снова – с матросов!.. Кого стариковская ревность украсила? Разве что поликлинику».
Годы ли, предчувствие ли скорого расставания, но все доверительнее, чаще и сокровеннее беседует с Рекою наш Капитан. Давно она перестала быть для него текучей водой, географией, давно почитает он Ее за близкое понятливое существо.
«Куда течешь, Реченька? Куда, дикая и державная?..»
«В Великое завтра, мой Капитан. В Страну Могущества Русского», – распрастывает и высит свою рабочую озаренную огнями грудь Река.
Уцепились, до чьих-нибудь слез не расстанутся татарчонок и цыганенок:
«Трави носовой!»
«Отдать носовой!»
«Кто эти дети? Куда ведешь их, Реченька? Куда несешь?»
«Это грядущие мои капитаны, – крепчает рассветной волною Река. – На стрежень ве́ка несу. В Великое Завтра».
«Не забудешь хоть старого? Пятьдесят лет у Твоей груди!..»
«Блемм-м, блемм-м, блемм-м» – разбиваются встречные волны о нос.
«Ты станешь моим кораблем. Назовут», – так вроде бы говорит Капитану Река.
Невнятны волны.
Не разбирает их слов Капитан.
Дивы на Реке, дивы!..
1969 г.
КУЗНЕЦЫ
Веселое заведение – кузница! Веселое и дозарезу необходимое. Поищи-ка такую деревню, где не дымила бы, не искрила бы она, кузница, малая индустрия державы, крохотные уралы, разбросанные на тысячи километров окрест по колхозно-совхозной земле?!
Был бы металл да уголек, нашлась бы бычья кожа для меха да звонкая наковальня – железная лечебница будет. Без нее сироты… Без нее захромает конь, рассыплется телега, изоржавеет плуг, без нее сам «дядюшка» трактор пардону запросит. Трудно перечислить все беды-злосчастья, угрожающие деревне, не стой там на отшибе прокопченная амбарушка, созывающая к себе бойким заутренним звоном народ честной.
Пронзительно голосит забияка-молоток, басит пудовая матушка-кувалда, взбивает прострельную искорку горн, кряхтит и плющится жаркая поковка, а посреди этого огненного бой-дела – Он, Мастер. Умелец. Работяга кузнец, чей инструмент-молот пролег с угла на угол по державному гербу Родины.
Слышал я про один иноземный обычай, по которому путь героя усыпается лепестками роз. Познакомившись с кузнецом Кузурманычем, я задумался: не драгоценнее ли и не щедрее ли наш советский обычай, при котором путь – нет, не героя – просто честного мастеровитого человека украшают добрые и мастеровитые же слова. Розы вянут, доброе слово из неподкупных уст народа-труженика не исцветает. Это о нем, о Кузурманыче, записал я неофициальные живые речения, почти в пословицы скованные, сиювотминутную молвь:
«Конь сам ему копыто протягивает».
«Седьмой разряд… Ежа без чертежа может…»
«К святому дню кулич откует».
Вот так в словесности… Густо, щедро, с «наваром», присадисто! Тоже – ежа без чертежа… А послушайте, как говорит о своем мастерстве Кузурманыч. Скромно. Скупо. И тоже «наваристо»:
– У кузнеца рука легка – была бы шея крепка…
– Ну и как она, шея? – спрашиваю.
– Дюжит пока, – отвечает.
Кузнец высок, жилист, крут в движениях. Немногословен и вдумчив при разговоре. Выслушивая собеседника, вздымает лохматую правую бровь. В коже лица прижились синеватые звездочки охладевшей окалины. Постоянное горячее соседство горна и раскаленных тяжелых поковок наложило на подбородок и скулы льготный круглогодичный загар. Серые, как железо в изломе, глаза. Улыбается редко, зато уж не через кривую губу. Весь твой.
Девятилетним пошел Кузурманыч к отцовскому горну, допущен был раздувать-веселить огонь. На тятьку люди смотрели почтительно и с уважением. Невелик богач – три пуда железа в наличности, а первыми торопились картуз приподнять: Мастер идет.
Кузнец и кузнечонок любили во страсть голубей. Идут от огня, чумазые, углем и железом от них навевает-попахивает, а пестрые, сизые, белокипенные – из-под всех застрех над кормильцами… Мелкотрепетно бьют крылышками над картузами, спешат занять местичко на плечах, на протянутый палец лепятся.
– Васька, – спросил однажды кузнец кузнечонка, – ты чуешь ли, когда тебя голубь когтем по ладошке скребнет?
– Чую, тятя.
– А я ни рожна. Кожа вся отбронела.
Вскоре «отбронела» кожа и у Василия. Полюбилось, взгордило тятькино крутоплечее мастерство. На всю жизнь унаследовал.
– Василий Константинович! А кем был ваш дед?
– Тоже кузнецом.
– А прадед?
– Кузнецом.
– А прапрадед?
– Вот тут затрудняюсь… Не могу точно сказать.
Общая наша беда. Дальше прадедов корня не помним. А ведь, возможно, пращур кузнеца Кузурманыча, того самого, что рубашку цилиндра на наковальне сейчас выворачивает, возможно, тот пращур еще вещему Олегу коня ковал, меч закалял? Не бережем родословную – не княжеского рода. Впрочем, у Кузурманыча лично все на виду. В трудовой книжке, в грамотах…
Горы железа за сорок пять лет перебрал, вагоны угля ссыпал малым совочком в жаркие солнышки горнов.
По пенсионному законодательству, люди «огненной» профессии уходят на пенсию в пятьдесят лет. Испытал и это. Три месяца выдюжил, а на четвертый открыл он в себе две болезни: «печаль плеч» называл он одну, а вторую – «закись всех мускулов». Пришел в родной механический, попросил «на полчасик» передника и… «У кузнеца рука легка…»
Люди, которым по каким-либо причинам не довелось воевать или удалось не воевать, одинаково равно не любят об этом распространяться, нести информацию. Кузурманыч же с приметною даже гордостью заявляет: не воевал.
– Броневой кузнец. На брони был. Однажды, правда, призвали, но вскорости возвратили. Армия, говорят, по генералу плачет, деревня – по кузнецу. Всю войну трактора ремонтировал…
…Из толстого круглого железа выгибал Кузурманыч какой-то замысловатый вал для трансмиссии. Молотобойцем у него новичок. Штрафник. Не поладил парень с автоинспектором – и вот на шесть месяцев… Кувалдой наградили. Он потеет еще, и одышечка, Кузурманыч же знай утешает:
– Ничего, парень. Поначалу у меня все штрафники потеют. Это после вольготной жизни. Вот побалуешься с месяц, – указывает он на кувалду, – спружинишь, собьешь тело – сушей будешь. И животик уйдет.
На порожке сидит, пригорюнившись, еще один молодой шофер. Вчера он так «нежно» разъехался со встречным цельнокузовным самосвалом, что крючки бокового борта с заводскими корнями повыдрало. С надеждой и тихою робостью поглядывает парень на Кузурманыча. Томится. Вздыхает. Рядом с ним восседает дедок с потной бородкой. Этот принес в кузницу диковинных размеров лосиный рог. На широком, словно лопата, материке с дюжину могучих отростков.
– Ежели вот здесь дыру, да здесь, да здесь, – размечает дедок находку, – да ввинтить в дыру по железной ножке, знаешь какое сиденьице будет! – громко втолковывает он «свое разумение» шоферу, следя глазом: слыхал ли кузнец?
– А на этот отростель руку складывать, – переходит на выкрики дед. – Что ты, брат! Я сразу увидел – кресло мне получается!
– На стульях тебе не сидится, – недобро буркает молодой шофер.
– На стульях – всяк дурак… А тут сиди в лосином рогу и покуривай! Не на гниль его зверь отращивал… В дело произведу.
Дедок – не исключение. Одолевают кузнеца ширпотребовские заказы. Кочергу хозяюшке негде купить. Тому скребница для обуви перед крылечком понадобилась, этому – пилу окоротить, третьему – крюк для люльки загнать… Да мало ли мелконькой деревенской нужды, которая ни в одном ГОСТе не значится?! Но это все – после работы. А сейчас срочно потребовалось сцеп для автомобильной тележки поправить.
Огромная, похожая на рельс, железяка ложится в горн. Кузурманыч усиливает дутье, подсыпает угля, шурует жигалом. Ни одного лишнего движения. Инструмент он берет не глядя, из-за спины. Железяка на наковальне. Дерзай, пока горячо! Навесь!!
Молоток Кузурманыча к поковке пока не притрагивается. По соседству пока «дирижирует». Бочком эдак, резвым железным бесиком по наковальне позвякивает, боевые места указывает, молотобойца затравливает:
– Дай-дай-дай! – кувалду науськивает.
– Нна!! Ннна-ах!! – крякает кувалда.
– Бог мой! Ох! Ах! – вздыхает наковальня.
Поковка орет, визжит, стонет, всхлипывает: попробуйте-ка между молотом и наковальней… Как хотят ее, так и бьют, куда хотят, туда и гнут. Вот на нее опускается еще и молоток самого Кузурманыча. Молоток – кувалда, молоток – кувалда, молоток – кувалда…
– Ох! Ах! Бог мой! – частит наковальня.
Красивая, сильная, затравчатая работа!
Поковка снова ложится в горн. Кузурманыч проворно шурует жигалом уголь.
– Да покури ты, парнишко, иди, покури! – зовет кузнеца дедок. – Не грешников, чай, поджариваешь!..
– А некоторых бы поджарил, – кивает кузнец на шофера. – На ползарплаты эдак поджарил бы…
Молодой грешник не знает, куда упрятать глаза.
– Зачем пожаловал? – спрашивает кузнец дедка-рогоносца.
Тот с готовностью указывает на лесную находку:
– Ежели вот тут дыру… Да вот тут…
– Только волк из сказки ко мне не приходил еще… не просил, чтобы я ему голос козлиный сковал, – разводит руками кузнец.
– А то не сковал бы? – льстит открыто дедок. – Саньке Уланову шпынь в протез вставил – как Конек-Горбунек бегает…
Пора. Поковка искрит. Снова в молоты.
– Строговат? – спрашиваю я шофера.
– Кузурманыч-то? – вскидывает пушистые, как одуванчик, ресницы шофер. – Конечно. А как еще с нами?.. – покаянно вздыхает «грешник».
– Ему сделает, – подключается к разговору дедок. – Машина же стоит. Хоть после работы, а сделает. Это знаете что за человек, – кивает на Кузурманыча дед. – Свое право выковал! Кувалду ему на плечо – и иди в коммунизм… Кувалда вместо пропуска!..
Гудит горн, плюется горячей окалиной железо, сладкой гарькой пахнет удалой жизнерадостный воздух кузницы…
– Дай-дай-дай!.. – науськивает молоток.
– Нна-ах-х!.. Нна-ах-х!! – ахает кувалда.
Дед с осторожностью допрашивает: «Быть или не быть лосиному креслу?» От кузнеца ни привета заметного, ни отказа конкретного… А тут еще кроме шофера дюжая молодица с ломом в руках к наковальне протискивается.
– Что у тебя? – спрашивает ее на коротком досуге кузнец.
– Затупился. Все жало помялось. Лед колю в молоканку – одне только брызги…
– Это моментом.
Нагревали. Плющили алые острия. Двугранное. Четырехгранное. Потом, по-горячему, мелкосечкой – слесарной пилой доводил и ровнял им рабочие «жала» кузнец Кузурманыч. Потом закалял. Утопит на мгновение в бадейку с водой и на воздух: «Чтоб железо не задохнулось». Напоследок совсем утопил. Забулькотала бадейка, заворчала по-кошачьи. Двугранный конец… Четырехгранный… Охлажденный и закаленный лом снова ложится на наковальню. Зачем? Ага! Василий Константинович берет напильник и с силой, с надавом проводит им по остриям. Скоргочет сталь о сталь. Размахнувшись, кузнец ударяет двугранным оттягом в кирпич. Кирпич – вдребезги, а рыжие искры!.. На острие лома ни блесточки, цела синева закалки.
– На! – легкой рукой протягивает он румяной молоканщице железное свое произведение.
– Творец! Ну, скажи, – не творец?! – восхищается не без умысла дед-рогоносец. – Богу звезды, пра слово, ковать!..
Дедкин выкрик заставил меня усмехнуться. Вспомнил я еще одного кузнеца. Если Кузурманыч воистину только творец, то псковский коллега его был еще в придачу и критиком. «Куда целишь, тетеря!..» – послышался мне из далекой, далекой военной весны возмущенный его тенорок.
Разоренная, сожженная Псковщина.
По ее земле шла на передовую маршевая стрелковая рота. Чуткое к голосам войны, бдительное солдатское ухо издалека, за двадцать почти километров, улавливало глуховатый бас фронтовой канонады, угадывало ее утробное густое рычание. Окрест лепетали звонкие болтунишки-ручьи, захлебывались прибылой водой захмелевшие лесные речушки, свистела, чирикала вешняя птаха в вершинах дерев, но не чуяли птичек солдатские уши. Дальний гул, прикоснувшийся к ним, подминал и обесценивал прочие легкие пустяковые звуки. По неласковой апрельской дорожке шла навстречу канонаде стрелковая маршевая.
Лес кончился. Завиднелись печи и трубы сожженной дотла деревеньки. В свежевырытых землянках развели военные погорельцы свои камельки, и синеватые свитки дыма метались над остывшими пепелищами.
И здесь повстречал нашу роту какой-то неожиданный, несогласный с войною и канонадой, праздный, ухарский звук.
– Журавль, – предположил кто-то из солдат.
– Какой те журавль!.. Ешак так ревет.
– Откуда бы тут ишак взялся? Кавказ тоже нашли…
Звук доносился отчетливей, громче, и вскоре рота увидела… кузницу. И настолько диковинной была эта кузница, что сопровождавший маршевую роту лейтенант неожиданно для себя скомандовал:
– Привал.
Случись это в другой обстановке – выбрал бы солдат бугорочек посуше, положил бы под сапоги вещмешок (кровь бы от ног откатила) и, блаженно сомкнув глаза, отдыхал, отдыхал бы… Сейчас же, окружив плотным кольцом небывалую кузницу, глазели сюда рядовые, усиленно крякал сержантско-старшинский состав, а лейтенант, расстегнув планшетку, что-то торопливо записывал в походный свой дневник. А может, еще и зарисовывал…
На подстиле из кирпичей стояла чугунная печка – «буржуйка». Она заменяла горн. А мехи… мехами служил здесь трофейный немецкий… аккордеон. В перламутровой его душе была просверлена дыра, в которую башковитый псковитянин втиснул резиновый шланг. На втором, на «горячем», конце шланг соединялся с обрезком змеевика от самогонного аппарата. Выпрямленная трубка змеевика соседствовала с огнем. Она наглухо была замурована в поддувало печурки. В метре от печурки на охапке сосновых веток сидел мальчуган лет двенадцати. Он нагнетал воздух, вел дутье. Парнишка вспотел… Растягивая аккордеон, малый нажимал сразу до десятка клавишей. Вернее столько, сколько помещалось под его ребячьими пальцами. Инструмент ревел, выл, вопил всеми немыслимыми голосами, до тех пор вопил, пока его блестящая утроба предельно не заполнялась воздухом. После этого мальчуган попускал клавиши и потихоньку сводил мехи. Нагнетенный воздух высвистывал, бил струей через шланг, через змеевик в печурку. Березовое уголье жарко, яростно вспыхивало. Малиновели у печурки бока.








