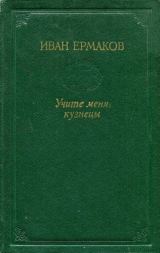
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
– А барнаульскую бубну пробовал? – ринулся Костя к картежнику.
И открылась здесь межсоюзная потасовка.
Картежник, похоже, с приемов бьет, а Константин «бубной». Тоже славно получается. Как приложат который которому, аж скула аплодирует. Ровно по наковальне сработано.
– Еще не все танкисты погорели!! – веселится и сатанеет на весь околоток Костенькин клич.
Слава богу, потронул у негра мотор!
Прянул картежник от Кости в открытую дверцу и воткни, боже, пятую скорость.
Кондрашечка кое-как воскрес до присеста, поместил на асфальт ягодички свои, три зуба, один за другим, на ладошку повыплюнул и завсхлипывал:
– Ко-о-онского даже веку не прожили…
Константин носовые хрящи прощупывает и единовременно свежую гуглю под глазом исследует.
– И как это я промахнулся? – спрашивает танкистов Кондрашечка.
– В законе, Кондрат, в законе… Один на один Костя вышел, мосол на мосол. Пусть не пообидится союзник. А ты промахнулся, ясное дело.
Через полчаса из заречной комендатуры звонки.
Требуют ихней выдачи. Маленького и Большого.
Оказались наши крестьяне на гауптвахте. На родной. На отечественной.
– Яровитый ты человек, – рассматривал Костя через один глаз обеззубленного Кондрашечку. – Кто, вот скажи, кроме тебя, трофейного медведя мог запродать? «Что давайт?» – сразу. Вино увидал – слепая кишка, поди, вскукарекала?
Кондратий молчал.
– И почему тебя завсегда вперед батьки за сердце куснет? – медленно, по-пластунски, допекал своего подчиненного старшина. – Я бы мог заслонить негра – и прав, как патруль. Даже забрать мог их обоих. Комендант разобрался бы… А ты – «в нюх». «Будку сверну!»
Кондратий молчал.
– Теперь вот доводят: неправильно я тебя воспитал. А сколько, вспомни, я тебя пресекал, сколько предупреждал? Как самоблизкого своего земляка! И за гуся. И за цистерну. Как, скажи, тебя можно еще воспитывать?
– Правильно ты меня вошпитал! – шепеляво взревел Кондрашечка. – В нашей шлавяншкой жоне, на твоих глажах, тот же наглый фашижм мне под шамые нождри толкают, а я внюхивай?! А я – шделай вид – отвернишь?! Я, жначит, не видь, как пролетария иштяжают? На кой тогда в танках горели?!
– Это ты в цилиндру, Кондрата, – обласковел сразу Костя. – Мне еще что жутко сделалось… Видал ты, чтобы наш офицер мордобоем солдат учил? Повинного даже! Штрафника? Уголовника? А тут своего водителя – как скотину. Кулак не хочет марать – шлангом. А он улыбается… раб, улыбается.
– Жапретить им проежд в нашу шону! – подхватился Кондрашечка. – Рапорт командующему!! У наш тоже центральная нервная шиштема ешть.
Так закончилось злосчастное то воскресенье.
В последующие дни отсидки на все голоса защищал Кондратий Карабаза своего старшину. Подслушает у «волчка»: начальство какое-нибудь в коридоре или в дежурке басок подает, и огласится гауптвахта кликами:
– Правильно меня штаршина вошпитал!
– Не от улизливого телка произошли!!
– Шли в логово, а угадали в берлогу!!
Прослышали дружки-танкисты, что буйствует на «губе» сын полка, буйствует и непотребное говорит – озаботились экипажи. «Эдак-то он еще на тощенький свой хребет наскребет». Зажарили гуся, того, что недавно из танка изъяли. Старый сибирячок насоветовал крутого макового настою накипятить и под видом всеармейского лекарства от «куриной слепоты» по две ложки ему выпаивать. Рассчитывали в сонливость его вогнать, в непротивление. Шиш возьми! Гуся за два приема прикончили, настой выпили, а клики по-прежнему:
– Танкист видит, кто кого обидит!
Костя зажимал Кондрашечке рот:
– Тише ты, тронутый! Орешь политику всякую… трибуналу в ухи…
– А, мамонька моя, мамонька… – бормотали под Костиной ладонью Кондрашкины губы. – А, сибирская ты вдова, Куприяновна… А почему я титешный ручки у тебя не скрестил… А почему в допризывниках ножки не протянул…
– Пригодятся ишо, пригодятся, – гладит ему обгорелую бровь Константин.
Отсидели по четверо суток – является к ним комендант.
Дежурный быстренько стульчик ему.
Сел. «Кок-сагыз» на коленку сложил. Помолчал. Потом вздохнул, как перед бедой, и открытый повел разговор.
– Не удался маневр мой, ребята. Сберечь на гауптвахте вас думал… В той уверенности, что за один проступок – одно наказание, согласно Уставу, положено. Почему полной властью и всыпал в поспешности. Но… Не вышло. Не вышло на сей раз по Уставу. Уж больно маститый нос вы пометили.
– Неужто выдадите, товарищ майор? Им?.. – похолодевши, спросил Костенька.
– Здесь успокою. Не выдадим. Под трибунал пойдете. Меня с моей должности в отставные, а вам обоим под трибунал.
– А кто он такой, что и вас… что и вы из-за нас пострадаете?
– Отпрыск важной американской фамилии. В Белом доме известен. Не только военный чин носит – еще и дипломатический, департаментский. Неприкосновенность на него распространяется. А я, выходит, не обеспечил.
– А чего он тогда карты таскает, если неприкосновенный? Не знает, что шулеров в перву очередь бьют? И эти… шкилетины. Людоеду – сухой паек вроде… – огневался снова Кондрашечка.
– Ничего, оказывается, странного в этих костях нет. Я по долгу службы тоже поинтересовался. Тут такое дело… Невеста у него – англичанка…
Не все было понятно парням в комендантском рассказе. «Акции», «концессии» – все это неживое для них, чужое, далекое. Ясно стало одно: «картежникова» невеста наследует отцовские капиталы в Египте. Сейчас престарелый ее отец натаскивает себе смену – молодого вот этого бульдога, чтобы в отдрессированные уже клыки капиталы успеть завещать. Волк волка учит, акула с акулой роднятся.
– Был он, наследник, недавно в Египте, – теперь уж дословно, понятно рассказывает комендант. – Сообщил, раскопали тамошние его друзья могилу неизвестного фараона. А поскольку невеста его древности всякие обожает, прихватил он ей в подарок парочку этих мощей. По ребру, по звенышку скелет растащили. Теперь, говорит, в нашем фамильном музее древними пахнуть будет. Возможно, говорит, данный череп на горячей и знойной груди знаменитых восточных цариц возлежал. Сочинит биографию… Карты тоже для коллекций скупает. Более трехсот комплектов уже у него.
– Теперь еще нас, пару валетов, наколол, – всхлипнул Кондраша.
– Это тебя сыном полка зовут? – переменил разговор комендант.
– Меня. Для зубоскальства. Шутейно, – откровенно признался Кондрат.
– Если бы шутейно, – задумчиво потер подбородок комендант. – Если бы только шутейно… Прослышали, что требуют вашей выдачи, едва по машинам не кинулись. Объясняться пришлось с экипажами.
Кондраша заплакал.
– Все мы сыны полков у своей Родины, – погладил ему вихорок комендант. – Она и обласкает. Ей и розгу в ладони. Матерью ведь зовем.
Председателем трибунала седенький подполковник перед парнями предстал. Согбенного уже роста, а румянец живой, крепконький. Бородка белая, клинышком. Вдумчивая, прислушливая бородка. Какой-то негласной надеждой танкистов она присогрела, доброта в ней какая-то «дедушкина» проглядывала-намекалась. И настолько дотошно и терпеливо, всей своей искренней сутью вникала она и слушала дело, что Кондратий «четвертым членом трибунала» про себя ее окрестил. Даже надежно и мило было, что такая понятливая бородка судит тебя.
Предоставлено последнее слово.
Кондрашечка – где-то щегол, говорун, горлодер – здесь, когда участь его молодая решается, семи подлинных слов не собрал:
– Ежели бы он негру не бил…
Костя тоже не больше того произнес:
– Ежели бы он Кондратья не тронул…
Проморгнул пару раз голубыми глазами – еще больки в себе разыскал:
– Я же его, – на Кондратья указывает, – я его под Старою Руссой, как дитенка спеленутого, беспомощного и беспамятного, из танка вынял и вынес. Зачем же он ею, маленького, со всей дурной силы? Разве стерпимо мне?
Стоят обесславленные. Ни ремней, ни погонов на них. Полинялые гимнастерочки, в недавнем огненном употреблении бывшие, с темными звездастыми дорожками поперек груди… И… свеженькие подворотнички.
Сказали по слову и взоры свои на бородку: «Суди».
Сдрожала она. Не совладала сама с собой, беленькая:
«Сынки!! Отчизны спасители!! С молоком Революция питали мы вас понятиями и класса и братства… С пеленками Революции, с первым ситчиком дарили мы вам гуттаперчевых негритенков, китайчат, эскимосиков… На первой бумаге печатали «Хижину дяди Тома»… Теперь вот… Кого и за что я сужу?»
Пронзают, пронзают бородку совестливые токи… Нельзя. Нельзя расслабляться бородке. Союзные и иностранные корреспонденты в зале суда. Сычи да вороны… Щеглы газетные… А главное – помимо всего состав преступления есть. Выпито было. В наряде. Считай – на посту…
Удалился суд…
Возвратился суд…
«Встать!»
Ну и… «Именем…»
Кондрашечка и на следствии, и на суде неоднократно просил три вышибленных своих зуба «к делу подшить». Как вещественные доказательства. «Ежели мы ему нос сместили, – следователю доводил, – за нос с нас взыскивается, то вправе мы предъявить встречный иск – за зубы. Конского веку не прожили… В цацки я ими буду играть, да?» – протягивал следователю ладонь.
Так весь процесс и носил их, родимых, в горсти. После зачтения приговора взял, ссыпал их на зеленый стол трибуналу и обратился к поникшей угрюмой «бородке». Для укора или для подбодрения своего и «бородкина» духа обратился – кто его знает, Кондрашечку.
– Отошлите их маме моей, сибирской вдове Куприяновне. Адрес у вас известен. Пусть рассеет их на девятой грядке от бани… Пока я отсиживаю – из них еще три Кондрашки взойдут.
Вокруг трибунала невесть каким слухом, незнамо чьим зовом до сотни танкистов стянулось. Надеялись – освободят, не засудят ребят, а их выводят опять под конвоем. Одна боевая судьба-голова тихонечко шлем с себя стронула… Вторая… На остальных стрижка зашелестела… Молчат экипажи. Тяжкодумно и указненно молчат. Куда повели боевых побратимов… И кто-то, копченый чертушко, все же не выдержал. Надо же было каким-нибудь способом распрямить, уравнять ребят, живу душу в себе горю ихнему объявить.
– Еще не все танкисты погорели!! – настиг черношлемных понуренных арестантов их удельный, бронесказуемый, железной судьбиной и огненной пыткой сработанный клич.
В сорок первом году, из геенны дней первых войны, выкричал его, огрозясь, упреждая врага, догорающий первый танкист – Неизвестный и Вещий.
Потом назывались фамилии. По фронтам. Корпусам. Бригадам. И сочинялась песня.
Успокойся, Жора! – Жоре говорю. —
В завтрашней атаке обязательно сгорю.
И горели. И обугливались в черные головешки по гремучему полю Родины. Но опять и опять, иссушая гортани, до последнего содрогания беззаветного русского сердца, до божьего обморока, выдирался тот клич из раскаленного смрада пылающих танковых башен, извивался и косноязычился в предсмертной угрозе растресканных губ, в наизломном и яростном скрежете зубов, в страстотерпстве живого по глотку огня…
Нюхал бог нашатырный спирт.
Пахло богу поджаренной шкуркой.
«Еще не все танкисты погорели!!» – завинчивал люк над заклятой своей головой безусый колхозный парнишка.
«Еще не все…» – натягивал черные краги седой коммунист-генерал.
И опять рассекал фронты, замыкал «котлы» неистребимый и грозный, с бессмертием самим породнившийся клич.
Выше несут свои черные шлемы два арестанта.
Не отнять, не сотмить их вчерашнюю жаркую славу.
«Спасибо, копченый чертушко, брат… во брони».
Есть такое присловье… Про солдатское горе. Солдатское, мол, горе – до барабана живет. Спорить не будем. Горе, может, и до «барабана», а вот обида, наглая и невзысканная, по смертный твой час многолетствует. Затаится таким потайным кремешком, заминирует душеньку, и, спаси тебя бог, не коснись невзначай. С пуховой перины сдунет, как перышко, со сладкого женского плечика вихрем сорвет. Все, как у Кости и случилось…
…В лесных проушинках и на жавороночьем чистополье майской обманкой пылает, зеленым огнем молодая веселая дерзость отавы. У проселков-дорог дружненько гонят сочную нежную поросль послеукосные клевера.
Тихий блеск от всего.
Сверкает выхоленным пером грач, тоненько искрит паутинка, ярой медью сгорает неотболелый еще березовый лист, тускнеет черными бликами отглаженный зеркалом лемеха пашенный пласт – даже стерня лучики испускает. Позабыло усталое солнце улыбку свою, и дремлет улыбка на тихом просторе земли. Призадумалось небо. Призадумались поле, воды, леса…
Заяц на клевера выскочил.
Серенький…
Встал на задние лапки и смотрит на Костю, стрижет оживленными ушками.
Замедлил пришелец шаги, сместилось дыхание:
«Ты ли, дивонько? Ты ли, живой глазок?» Сел. Суеверно ластился взглядом к зайчику.
…Утром, чуть свет, увозил его дедушка Лука Северьянович по этой дорожке, вдоль этого поля в военкомат. Родных у юного Костеньки, кроме дедушки, не было. Ехали – корень с отросточком. Молчком ехали. В последний прощальный момент почему-то частенько случается: есть что сказать, да не знаешь, как начать. Причинной ниточки нет. Такой, через которую ростанное слово твое подловчило бы высказать. И чтоб не с маху оно, не по-обушьему, а в тропиночку.
Колесо у телеги повизгивает – не та ниточка… Супонька ослабнула – тоже не та. Так и молчали, пока вот такой же пушистый ушканчик на клевер не выскочил.
Поднялся на задние лапки, ушами округу «причул», потом умываться начал. Клевера отягченные, росные… Обкупнет туда лапки и обиходит резаную свою доблестную губу.
– Нашего сельсовета зверь, – как-то обласкованно указал на него кнутовищем дедушка.
Миновали ложбинку, на пригорок Буланко вскарабкался – стоит малый зверик, смотрит в Костенькин след.
Дедушка так же – тихо и ласково:
– Споминай его, Костенька. Последен, кто тебя проводить проснулся. Он… ждать тебя будет.
Косте, юному, как-то неловко, устыдчиво речи дедовы слушать: «разнеживает, как маленького» – на старика подосадовал.
– Была нужда вспоминать, – шуршит самокруткой.
– А ты не грубиянничай! – укорил его дедушка. – Нельзя тебе этого… Спокаяться можно. Заяц – он тоже… На одних полях с тобой взрос. Живой глазок Родины. Вот не сей ли момент одним воздухом вы подышали? Он выдохнул, а ты воздохнул. Ты выдохнул – он причул. Из груди в грудку! Воздух – он достигает!..
«Пророк ты был, дедушка…»
Когда выводили хирурги танкиста из забытья, на самой-то тоненькой грани мерцающей яви и темной пучины беспамятства вставал этот зверик на задние лапки и начинал разговаривать с раненым Костенькой.
«Дохни! Еще дохни! Еще!» – упрашивал, требовал серенький, отзывая померкшую Костину душу из бездны предсмертия на людское, на заячье солнышко.
Дрогнут веки, осмыслится взор – подевается зайчик. Сестра с кислородной подушкой стоит:
– Дышите, дышите, больной.
…Отглатывает пришелец стеснившийся в горле комок, дивится щемящему светлому таинству слез…
«Живой… глазок… Родины…»
Тем же вечером обсказал он деду Луке Северьяновичу бесталанный и горький свой поворот судьбы и немало был подивлен, когда старый без вздоха, скорби и соболезнования вдруг заявил:
– А все-таки здорово иностранная разведка работает!
– Ты… к чему? – растерялся Костя.
– Неужто не достигаешь?
– Нет! – помедлил с ответом Костя. – При чем тут разведка?
– В том-то и дело, что бдительности в вас еще – кот наплакал, – безоговорочно заявил Лука Северьяныч. – Никакой он был не английский зять, никакой не дипломатичецкий чин и не картежник, само собой, а был промеж вас натуральных кровей шпиен.
– Ну-у-у, дед! – все больше дивился и озадачивался Константин. – Наговоришь!
– Ты мне не нукай, а слушай, – постановил дед. – Пошире твоего бороды есть. По какой вот, ответь мне, причине крокодиловый тот чемодан, с остатками фараона и картами, в канаве мог очутиться? Ну? Шурупь, шурупий…
– Утерян был.
– Под-ки-нут был! С у-мыс-лом, – четырежды проколол пальцем воздух Лука Северьянович. – С умыслом! А умысел этот в том состоял, что обязательно отнесут эти диковины к коменданту. А у коменданта в кабинете медведь. Вы, полоротые, мечтаете, – он вам меду подносит, а он… У него самопишущая машинка внутрях потрохов была засекречена. Близко вы возле бдительности не ночевали!
Все просторнее открывался у Костеньки рот: не узнать деда, и баста. Обличьем все тот же почти: по-прежнему крутоплеч, в кирпичном румянце скула, нос узорной багряной жилочкой испещрен, дымчатая борода, кулак со слесарную наковаленку. Обличье – родное – дедово, а беседа…
– Комендант говорит, а машинка фиксировает, он секретный приказ отдает, а она регистрировает… Теперь прицель… Подкинут чемодан и доставлен к нему, к коменданту. Осталось заинтересованному шпиену в майорском или картежницком образе явиться якубы за остатками фараона и картами и попутно с этим сторговать ненавистную коменданту медвежью чучелу. Им не чучела, век бы моль ее ела, им тайнописная запись цены не имеет.
Первые петухи опели дедово изголовье, вторые – ворчит, ворочается.
– Не носы дуроломом контузить – чучелу отбивать надо было!
На второй только день стало ясным для Кости, по какой такой неравнодушной причине «бдительность» дедко его оседлал. Участковый Митрий Козляев, спасибо, растолковал.
– Ну и жук же ты, дедо! – затормошил Константин старого Гуселета. – Почему ж ты от внука награду скрываешь? – бороть деда начал. – А я уже напугался. Думал, ты шизофреник какой сделался.
– Отпусти, отпусти, кобыляк! Ишь, клешни-то… Железо мять… Утаил потому – тебя опасался обидеть. Горел, ранетый, а награды сняты. Зачем мне в рану со шкарпионом…
Дедушка крякнул достойно и непоспешно полез на божницу. Иконок на ней не стояло, украшала ее замысловатая фарфоровая сахарница. Голубка сидит на гнезде. Через секунду лежало перед Костей новое орденское удостоверение, а в голубкином беленьком гнездышке сиял, излучался орден Красной Звезды.
– Вшизахреник не вшизахреник, а вот… – взвесил на ладошке Звезду дедушка. – Состоял я во время твоих боев в трудармии. Работал на нумерном секретном заводе. И упоймал я там одной темной ночью крупнейшего фашистского диверсанта. Проявил бдительность и отважность, за что был им, гадином, ранетый в грудь. Выздоровевши, работал в отделе по повышению и обострению бдительности. Тут промашку изделал. Канкретна, чуть опять же не задушил одного итенданта военного. Смотрю, моторы мелом размечает… Ну я… по подозрению… За калтык опять же… В рабочую команду по этому случаю переведен был.
– А чего же не носишь? – перенял Звездочку Костя. – Положил под голубку, думаешь, еще одна выпарится?.. На грудь, на грудь ее, деда! И грудь корольком!..
– А разведка? – притаил голос дед. – Она не дре-емит! Она рабо-о-отает! Живо опознают. Гля мстительности…
Костя фыркнуть готов:
– Да кто тебя опознает? В отстающем колхозе живешь…
– Не лопочи пусто-напусто. Я все ихни коварные приемы в отделе том изучил. Мстительность им – превыше всего! По библии работают: око за око… Кому хочешь яду подмесят. Цыганистый калей есть, – шепнул Лука Северьянович.
Разуверять и умалять дедовы подозрения, сторожкость Костя не стал. «Да простится годам твоим, – думает, – Большого подвига ты не совершил, да и вряд ли когда совершишь… Твори свою причуду».
По теперешним суматошливым боевым временам едва ли кого удивишь тем, что иная невеста, их таких – миллион, на пороге своей неминучей любви по разным служебным, учебным и комсомольским причинам отдельно от мамы живет. Завладеет такая дыханием твоим, наколдует бессонницу, научится пульсом твоим на расстоянии управлять, – вот тут-то и обсядут соловьи да жар-птицы твое изголовье. Прежде всего на стихи волокет человека. Едят в это время худо – карандаши грызут. Один такой ушибленный, нецелованный, первотрепетный до какого восторга дошел! «Губы милой – как бабкин квас» – строку возлюбленной сочинил. Другой – тоже управляемый на расстоянии – «пчелиными грезами», «пчелиными оазисами» те же самые губы воспроизвел. Какую-то, видно, тайную сладость предчувствуют, ну и, соответственно, угибают. Шейка – «лилия», щечки – «яблочки-ранетки», груди – «два белых барашка» – оснащают свою избранницу. А что за «специя» – тещенька? Какая оскома ко сладостям этим тебе уготована? – не знаем того мы, не ведаем и даже существование ее подозревать в наш изжажданный час не хотим.
И вот тут-то, на перво-последней ступенечке загса, и приобретает мужская влюбленная единица… кота в мешке приобретает.
Костя тоже себе приобрел. Да такого, что деревенские стратеги, сваха, кума плюсом ворожея, до сих пор утверждают, что не иначе как через тещу сделался он Египтянином.
Выпахивал он на поле картошку, а пятиклассники со своею учительницей собирали ее в бурты.
Имя учительницы расслышал.
Ребятишки-то беспрестанно: «Елена Васильевна! Елена Васильевна!»
«Ленушка, значит», – лицо ее рассмотрел.
И она потянулась; Солярка заблагоухала, мазут не вспуганул, даже повседневная грязь под механизаторскими ногтями ничуть не смутила.
Все искупила тихая, застенчивая Костенькина улыбка.
Дедушка первый схватился, что надо бы сватью на свадьбу затребовать.
Малопонятное получили от сватьи письмо:
«…коноплю и сурепку в последнее время колхозы повывели, зерна в стране недостаточно, и полевой жаворонок Карузо стал сбиваться и делать в распевных коленах помарки. Зато дрозд Балакирев на одних сухарях да рябине такой росчерк в финале обрел – душа пламенеет и воскрыляется».
Внизу шла приписка: «Приехать не могу. Погублю птиц».
Ленушка кратенько пояснила «птичью» эту зависимость: редкие и ценнейшие экземпляры у матери. Чуть ли не каждый певучий самец композиторским именем назван. Скворец Алабердыев, чижик Френкелев… Иностранцы есть. Косте-то всякая эта подробность – без смысла. Ослепши, оглохнувши ходит… Мозолей от счастья не чувствует. А деду, на здравый-то ум, невнятно и подозрительно сделалось:
– Птицыолог какая-то, – отозвался о теще. – Единственная дочь замуж рыскует, а у нее от дрозда душа иссякает. Не в шароварах ли он, тот дрозд, щеглует?..
Вот так и не стало холостяка Константинушки Гуселетова. Дом у деда просторный, свету в нем – с трех сторон горизонта. Да еще Ленушка! Наконец-то искренним русским, духом запахло здесь. Полы чистые, занавески на окнах, половички появились, сапоги мужики начали в сенцах снимать. Что ни говори – бобыли жили. Самой-то живоструечки – рук, да глаза, да женской песенки – и недоставало жилью ихнему.
Начал Лука Северьянович приучать молодую невестку корову доить. Ленушка – с превеликим усердием. Даром что, кроме маминых певчих птиц, ни за кем не ухаживала. «Синенький скромный платочек» приспособилась под коровой петь. Корова разнежится, осоловеет, вымя расслабит, уши повянут, глаза истомленные сделаются – хоть поцелуй ее в эту минуту.
«А я, страмец, неудобьсказуемым на коровенку, страмец», – любуется этой умильной картиной Лука Северьянович.
На летних каникулах поехала Ленушка собирать свою маму в Сибирь. Сама-то она, невестушка, по институтскому распределению здесь оказалась. Думалось – временно, а тут Костенька. Надо и мать к костру.
– Синенький скромный плато-о-о… Стой! В рога и копыта… – мучается в пригоне с коровой Лука Северьянович. – Привыкла под «лазаря». Я тебе не Сульженко!
Приходит однажды с удоем и, не процедив молока, не распутав цветастого Ленушкиного передника, затеивает такой разговор:
– Робею я, Костенькин. Как запредчуйствую, что вот-вот птицыолог у нас на пороге предстанет, как запредчуйствую – в животе захолонет. На шпиена груддю пойду, а тут пятый угол высматриваю.
– Наладится, дед! – бодрит его Костя. – Никто нас не съест!
– А Балакирь с Алабердыем? Ошшебечут на прах! Найдут, в каком боке печенка. Пустяковое и просмешливое, саркыстичецкое это занятие – птички-синички… Притчу в дом завезем, шутовство.
– На-ла-адится!
Наступил безысходный тот трепетный день. Костя по телеграмме на станцию выехал, букетик цветов в школьном саду для встречи настриг, а Лука Северьянович как взобрался с утра на сеновал, как залег на душистую кладенку свежего сенца-подлесовничка, как затеял зевать – аж взвывает по-песьему, тоненько, аж ускулья в шарнирах хрустят.
После полудня дохнула у его родового крыльца синим дымом машина и возникнула из шоферской кабины высокая статная женщина с вольнодумным каким-то пером на соломенной шляпке.
– Ничо – фельфебель! – подлизнул пересохшие губы Лука Северьянович.
Чемоданов и узлов была самая малость, зато клеток со птицами…
– Пять… Шесть… – подсчитывал проволочные обустройства замаскированный домохозяин. – По трудодню на клюв?.. При нынешнем трудодне…
Из-под крыльца, из засады, вызвездила на беспечных пичуг душегубские очи свои троешерстная кошка Манефа.
– Кончился твой суверьнитет, – посочувствовал кошке Лука Северьянович.
И началась в его доме веселая, звонкая жизнь.
На исходе же первого дня разыграл, распотешил Балакирев-дрозд местного участкового милиционера Митрия Козляева. Завидел за окном промелькнувшую его форму с околышем да как выдаст-повыдаст заполошную милицейскую трель свистка. Ровно на пятах у преступника он наседает, ровно весь остальной гарнизон на подмогу созывает.
Ворвался Козляев в неприбранный дом – лицом бел, пистолетко на взводе.
– Кто свистел?! – детективным взглядом обвел всех.
– Не вы первый, не вы первый, – заулыбалась навстречу ему приезжая гостьюшка. – Присядьте, пожалуйста, я вам кратенько объясню…
– Кто свистел, я вас спрашиваю?! – не колебнулся Козляев. – Откуда сигнал подавался?
– Он свистел, – указала сватьюшка на Балакирева.
– То ись – как? – помутился Козляев. – А свисток он где взял?
– Он не в свисток свистел, а талантом, имитация птичья… Понимаете?
Тут Балакирев зобнул воздуху да как даст опять эту классику.
– Де… Держите меня четверо! – поместился на табуретку Козляев. – Позвольте опомниться… За обнаженное оружие прошу извинения. Вот насекомый! – восхитился сраженный Балакиревым Козляев.
– Не вы первый впросак угадали, – опять улыбается Костина тещенька. – Прежний его владелец, – указывает на Балакирева, – напротив почти пешеходной дорожки жил. Постоянно там милиционеры дежурили. Беспрерывно свистки, задержания. А дрозды – они переимчивые, подражательные. Освоил вот, как изволили слышать, ваше коленце. Через это он мне и продан был. К прежнему-то владельцу и соседи двери выламывали, и милиция тоже врывалась. За бесценок избавился.
– И ворвешься! – подтвердил Козляев, с нескрываемым дружелюбием разглядывавший Балакирева. – У нас, в сельской местности, свистеть не принято. Руки обычным приемом заверну – весь и свисток.
Внедолге вынужден был Лука Северьянович курочек овдовить. Петух проголосный был, жизнелюбец. Орет по любой погоде.
Первым Алабердыев-скворец довольно явственно петушиную втору вымучил. За ним дрозд поперхнулся. Вроде осень бы, не певучее время, а у них потягота.
Софья Игнатьевна и голову мокрым полотенцем стянула.
– Неможется? – участливо спросил Лука Северьянович.
– Этот петух – семикаторжный!.. Пришлось зарубить.
Манефа, бедненькая, столько пинков опознала, что у нее даже на дикую пташку рефлекс начал в лапы вступать. От жуланчика опрометью, вскачь, неслась.
А Лука Северьянович, гроза диверсантов, чему не подвергнут был? Чем только не угождал! И муравьиные яйца на зиму томил, и сурепкино семя искал, и коноплю на задах шелушил. Одного лишь не мог обеспечить-добыть: затхлой, слежалой муки. Птичьи черви в ней, в затхлой, прекрасно разводятся.
– Таки годы были – жмых не залеживался, – оправдывал он перед сватьей свою невозможность.
– Кончился наш суверьнитет, – только кошке и всхлипнет.
По субботам баньку обычно топили. Северьяныч, сибирская кость, до вступления экстаза, до дичалого вопленья, до кликушества пару себе нагнетал. «Ого-го-гошеньки! Улю-лю-люлю-шеньки!! – веником себя истязает. – Дай-дай-дай-дай!!» Полчаса эти лешевы кличи из баньки ликуют. Кринку квасу потом опрокинет с истомы, причешется, струйка к струечке бороду набодрит и сияет погожим челдонским румянцем своим.
Смотрит, смотрит Софья Игнатьевна на него, дюжего, помладевшего, и не вытерпит вдруг – восхитится:
– Ну и гемоглобину у вас еще, Лука Северьянович!
– Кого? – не поймет тот мудреного слова.
– Красные кровяные тельца это, – с удовольствием сватьюшка объясняет. – Силы жизненные… в ребрах у нас вырабатываются. Поглядитесь-ка в зеркало – какой Стенька Разин оттуда выглядывает.
– Ничо себя чуйствую, – тронет ребра Лука Северьянович.
И пуще того его краска пронзит.
Смущался старик.
Еще то примечал: наладится у него со сватьей согласие – тут и Костенька тещеньке мил да пригож. Разладится – жди-ка, Ленушка, маминых свежих попреков да слез.
– Завезла в бирючиное королевство… Неужели бы я тебе жениха-европейца не выбрала? Я бы тоже могла за уральский столб замуж выйти. Ни души и ни нервов… Тонкости никакой. Осмысляй, анализируй, чего мать говорит, пока детский садик не возрыдал.
– Чего мне анализировать, мама? Люблю… Верю ему. И душа у него чуткая, совестливая. Никакой он не столб.
– Чуткая, говоришь? А кто жаворонку золы пожалел? Балакирева по носу кто щелкнул?..
– Да ведь не ради птичек мы живем?
– Не знаю, как вы, а я – ради птичек. Всю жизнь – ради птичек одних. Того-то не постигаем, что птица – дитя самой радуги. Первопеснь мироздания!
И поведет от восторга к восторгу.
А заключит так:
– Имею я право хотя бы на птичью любовь и привязанность?
– Имеете, – пояснил ей однажды Костя. – Спаривайте ваших «композиторов», а Ленушку не смущайте. Она вам не птичка, хотя бы и ваша дочь.
В неподвижности все это выслушала. Голова в оскорбленной и гордой позиции замерла. Ладони сцеплены, губы подковкой свернулись.
Через недолгое время подвернулся ей способ отмщения. Не по специальному умыслу, а одно обстоятельство ее к этому подстрекнуло.
Прослышала, что появился в школе магнитофон. И записывает звуки, и тут же воспроизводит. И зазуделась у нее честолюбивая идейка одна в удалой голове. Явилась к учителю физики и с первой же попытки, за первый присест ощебечен он был, меценатством его заручилась.
– У нас, птицелюбов пяти континентов, в Москве, в Доме птицы и на Птичьем базаре, состязания назначены в этом году. Чей воспитанник больше колен отобьет. Сама я присутствовать там не могу, а вот записи песен желательно мне отослать. Виднейшие птичьи арбитры их будут прослушивать. Это не петушиный вам бой между Курской и Тульской губерниями… Другого порядка… У меня не все птицы, конечно, достойны, но дрозд Балакирев мог бы претендовать. У него и почин, и раскат, и оттолчка, и россыпь, и росчерк – душа отторгается. Не птица, а какая-то божья свирелька, какая-то тайна лесная поет.
В дальнейшем – о магнитофоне:
– Через сутки-другие – верну.
Научил ее физик, как пленку вставлять, как включать, выключать, записывать и проигрывать, вверил магнитофон.
У Лены экзамены пододвинулись, у Кости – разгар посевной. Лука Северьянович в шорницкой. Или в поле с шатериком перепелов кроет. Сватьюшка его в это мероприятие втравила. «Поймайте мне, Северьяныч, белого перепела. Альбиносного. Вдохновенный у него бой!» Вот и ловил.








