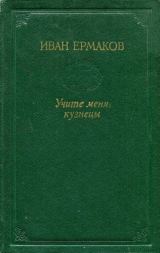
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Бориска губешками дрогнул.
– Не так, думаешь, сказал? – дернул усом Матвеич. – А ты погоди… Купали тебя маленького где?
– В ванне, наверно… В жестяной.
– Правильно. В ванне. И обязательно, заметь, поближе к печке ее придвигали. Тебя чтоб, поросенка, не застудить. А кашку где варили?
– Кашку на керогазе можно…
– Х-хе, хлопчик!.. Керогаз-то, он чуток тебя постарше. А тысячи лет до него за все печь отвечала. И за баню, и за квас, и за Бородинское поле. Да и сейчас… Три раза за стол садишься – с кого спрос? С нее. Озябнул, измокнул – где грудку, спинку погреть, где одежонку просушить? Откуда угольков взять штанцы погладить? Даже пустяк – ус побрить-поголить, и то горяченькой водички надо. Это не говоря про каждодневное ее тепло. Оно незаметное нам, а в лихой час… Ой, парень! Почему солдату, когда он на боевом поле лежит, неотступно печка грезится?.. Запеть неудобно… А только в нашем краю люди свои пепелища по печам определяли. У кого петушками была раскрашена – по петушкам, у кого цветиками – по цветикам, у кого ничем не раскрашена – все равно свою печь узнавал. Падал с нее, от тятькиного хлыстика на ней хоронился, дедовы сказки слушал, ягняток обсушивал, тысячу, может, коржиков из нее съел. Каждая царапинка… Главную-то присягу, Боренька, человек возле родной печки принимает. Здесь его родина начинается, отсюда!.. А ты говоришь, запеть неудобно…
Вот так, где прямиком, где обходами, а подведет парня. Укажет ему звездочку на ремесле. А это великое дело – звездочку увидеть. И в мраморе, и в глине. Кротовья без нее жизнь.
Парнишке и засияло. Две смены готов передник не снимать. И все сам до всего дорывается, сам, своими мозольками надо. И хорошие эти Матвеичевы слова напеваются: «…Души в дома. Семейные солнышки…» А тут еще со штукатуром у Дымка схватка произошла – вовсе…
Случилось как-то в одном доме, что и штукатурили его тем же часом, и печи ставили. Народишку густо… В таком разе без перекура редко случается. И вот разлакомился один штукатур веселые истории про печниковское сословье рассказывать. С очерненьем авторитета все. Ну, там, как печник фуражку у генерала напрокат брал. Не Бориске бы, верно, и слушать, да куда ты его подеваешь. А штукатур завернет и похохатывает.
– Было такое дело, было… – подтверждает Дымок и тоже посмеивается.
Штукатур еще.
– И это было! – не отрицает Дымок.
Штукатур все поскребышки на кон.
– И это было. Даже то было, что печник после вора первым человеком на земле числился.
– Как это? – осклабился штукатур.
– Прометея… слыхали такого? – навострил на них бородку Дымок.
– Это – который к скале прикован, орлы терзают?..
– Который огонь у богов украл, – задогадывались.
– Именно! – подтвердил Дымок. – Украл да людям дал. Именно после этого вора Прометея и есть первый человек на земле – печник!
Сказал так и замолчал. Раскушайте, мол. Потом нацелился чубуком в штукатура, с расстановочкой по словечку продолжил:
– И если бы тогда на Прометея уголовное дело возвели – сидеть бы и печнику с ним на одной скамейке…
– А его-то за что? – свел брови штукатур. – Печника-то с какого боку-припеку?
У Дымка и петушки в голосе заиграли:
– За су-у-ча-сти-е! За укрывательство краденого имущества-а! Огонь-то… в печь-то его, под заслонку его кто?.. Вот оно, парень, откуда наша родословная берется.
У штукатура неясность образовалась:
– А как же тогда… хы… Добры соучастники!.. Одного к скале приковали, орлы ему сердце рвут, а другой четвертинки… Как же печник-то ускользнул?
– А он глиной вымазался… – дробненько захохотал Дымок, – глиной, говорю, вымазался – боги его и не узнали.
– Силен ты, дядя, загибать, я посмотрю, – сплюнул цигарку штукатур. – Глиной…
– Да. Глиной… – смаковал Дымок. – Глиной! А тебя хоть самой алебастрой обделай, хоть по самую маковку размалюй – все равно ни с какого боку к Прометею не приживишь.
Засопел штукатур, задосадовал.
– Без нас с Прометеем гы бы снова шерстью оброс, – окончательно доконал его Дымок.
Тем оно, мастерство, и славно, тем и высится, что верует всякий мастер: сгинь оно, изведись – и труби труба архангелова. Ведь это не сию минуту придумано – про шерсть-то! Почему я бывалых мастеров с «ванька-встаньками» всегда и сравниваю. С какого ты боку ни сшиби, как ни переверни – он встанет. Само мастерство его торчмя держит. Вот и штукатур… Поработает с Дымково – тоже себе своего Прометея заведет. Он уж и сейчас… раствором бьет, гладилкой трет, а сам себе в «соучастники» красивого бога ищет.
Бориска лукавым лисенком на него поглядывает.
Матвеич, ровно сытый кот, мурчит.
Горит на мастерстве звездочка, лучики испускает.
А в Помпеевом отделе между тем про Дымка не забыли. Приехал в наш райцентр лектор из области. Попутно со своей работой сильно он интересовался всякими сектами, «старцами», бродячими игумнами и при всякой возможности в беседы с ними вступал. Изучаю, говорит, арсенал противника. Ну и к нашим обратился, У вас, мол, братцы, нет ли где «лизнуть»?
– Есть! – вспомнили «братцы» про Дымка.
– У всех на виду лекцию покинул, старух увел, – Антон подчеркивает.
– Библейскую ерундистику к сегодняшнему дню прииначивает, – свел губы в рюмочку Помпей.
– Парнишку охмурил – второе лето от него ни на шаг…
– Ядовитые, ехидные вопросы задавал, псалмы поет.
– Там лизнешь – язык спекчи можно!
Ну, без дальнейших разговоров поместились все втроем в машину и – айда к нам в совхоз. Антошка расспросил строителей, в котором доме печные работы ведутся. Заходят.
Бориска с алюминиевым квадратиком как раз возится. Табличка по технике безопасности. Краску с нее кирпичом сдирает.
Их, этих табличек, две тысячи штук одна добродушная артель нашему совхозу выслала. За деньги, конечно. Чистой выплавки алюминий! Хоть тарелки из него формуй, хоть самолеты строй. И оттрафаречена на них всякая предосторожность. «Имей защитные очки», «Подбирай волосья…», «Не стой в кузове…», «Не заглатывай бензин…», «Не спи на ходу…», даже «Не при на рожон» одна попалась. Шутники-то, видно, артелями жить стали. Ну, штук шестьсот их, где только можно было развесить, развесили. Приколотили. А остальные куда?..
Поздоровались вошедшие с Бориской. «А где главный мастер?» – спрашивают.
– Болеет, – отвечает Бориска. – Просквозило на чердаке и, пожалуйста, – воспаление легких. Я без него вторую печку уж докладываю.
– Сам? Один?! – удивился Помпей.
– Один, – проглотил слюнки Бориска.
– А это для чего? – потянулся к алюминьке Антошка.
Бориска ее за спину.
Антон руки в дело, пошучивает, похохатывает… Ну и заполучил.
На алюминьке – письмена… Ножичком выбраны, кончиком или уголком стамески. Как вот на фронтовых портсигарах звезды выбирали, сердца, танки, надписи всякие. Тоже алюминий в дело шел. Простреленные котелки, кружки… Сдвинулись приезжие голова к голове – читают: «Печь № 2. Поставлена Курочкиным Борисом Владимировичем. Целина». Пониже – число, месяц, год проставлены, подпись мастера выведена и еще пять слов: «Учился у Тилигузова Ефрема Матвеевича».
– Это ты для чего? – заинтересовало лектора.
– Вьюшки, что ли, такие вставляете? – поторопился догадаться Антошка.
– Зачем вьюшки… – покосился на него Бориска. – Ефрем Матвеич в кладку их замуровывает.
– В кладку? А зачем? – по возможности ласковей – не отпугнуть бы парнишку – спрашивает лектор.
– Печи-то не век стоять будут… Ну и найдут будущие люди, прочитают… известно станет.
– Что известно станет?
– Вот жил, скажут, на заре коммунизма печник Ефрем Матвеич Тилигузов… Целину тогда поднимали для изобилья… Хорошие печи ложил людям. Помянем же его, товарищи, добрым словом из нашего светлого века. Он и для нас, старичок, потрудился, вложил свой кирпичик.
– Это кто же так задумывает? Ты?
– Я только вторую, – потупился Бориска. – А Ефрем Матвеич… Он без вести в войну пропадал… извещенье у него… Не хочу, говорит, больше без вести пропавшим быть…
– Ну, а ты свои для чего замуровываешь? – не отступал от Бориски лектор. – Ты ведь сам будущий «людь». Сам до этого века доживешь.
– Теперь-то доживу, наверно, – улыбнулся Бориска. – А вообще-то я в капкан уже попадался, с обоих стволов хотели…
И захохотал. Как взрослый, над бывшей своей ребячьей проказой захохотал. А от ответа уклонился.
– Матвеич так делает, и я – по его.
Антошка видит – дело табак, решил быка за рога брать.
– А расскажи-ка, чего это он про. Адама все тебе трактует. Ну-ка… Я ведь на три метра в землю вижу! – предупредил он Бориску.
– Это не мне… – гыкнул Бориска. – Это он с печами разговаривает. Как новую печь растоплять, так и про Адама.
– А чего… чего он про Адама? – сшевелился Помпей.
– Ну… знаете, что бог Адама из глины слепил? – спрашивает Бориска.
– Ну, ну… – прикивнул Помпей.
– А потом душу в него вдувал?..
– Ага… вдувал, – подтвердил Антошка.
– Ну и вот, как печь растоплять, так у него присказулька.
Бориска подошел к челу печи, присугорбился, слова мятые у него получаются, жеваные, как будто он трубку во рту держит. Сует алюминьку в печь заместо полена и приговаривает:
– Бог из глины, и мы не без глины… Бог душу, и мы душу… Вот тебе березовой чурочки! Вот тебе сосновой стружечки! А вот тебе и серничка. Дыши, милая, дыши, протягивай!.. Как с живыми разговаривает! – выпрямился Бориска.
– А ты – талант! – восхитился Антон. – В самодеятельность тебе надо…
– Ефрем Матвеич меня «обезьяном» зовет.
Делать больше было нечего. Лектор развернул блокнотик, Борискину запись стал заносить, а наши к машине направились. Помпей во все тяжкие вздыхает, а Антошка хорохорится:
– На три метра…
– Прекра… Прекратишь ты, концы-то в концах, свои метры? – задохнулся Помпей. – Во что ты меня перед человеком вбякал? – шепотом спрашивает.
Антошка – полководца на выручку:
– Метры не мои, – шепчет. – Так Суворов солдату определял видеть…
– Суво-о-оров, Суво-о-оров!.. – перекосоротил Помпей. – Вам с Суворовым что? Холостяки оба… выдумываете! А тут – семь душ, теща и разрыв сердца на носу. Геологи, таку вашшу…
Ну и обругал обоих по совокупности. Потом лектор подошел. Карандашиком до пуговки на Антошкиной гимнастерке дотронулся и говорит:
– Когда, молодой человек, с народом работаете, поменьше надо в землю глядеть. На людей надо глядеть…
– Зенитчик я! – вялым голосом отбрехнулся Антошка.
«Пальцем в небо ты зенитчик!» – чуть не вырвалось у Помпея. На ходу уж язык закусил… Вспомнил, что в одном расчете они сейчас, – молчком в машину полез.
А Бориска… Бориска через несколько дней в школу пошел. И вот сидит как-то под вечер на уроке, смотрит в окно: легонькие такие дымки из труб потянулись. Струечками вначале, маревцем… Потом погуще охапочки выметывать стало. Вскочил он за партой и к окошку тянется.
– Ты чего, Курочкин? – учитель спрашивает.
– Там печи… Печи мои затопили! Разрешите, сбегаю!..
– Конечно, – говорит учитель, – сбегай. Беги, Боря.
Только двери по школе заговорили.
Стоит перед домом – головенка задрана, локотки на взлете, в глазах синё. Губешки играют – и улыбнуться-то их разводит, и степенство надо соблюсти, закусываются. В окнах народ. Бабушка Максимовна присядку там какую-то устраивает, руками взмахивает, кричит.
А дымки играют, свиваются, гривами разметываются…
Богатый человек Бориска… На два дымка богаче других! И счастливый! Это для него, «голенастого журавлика», людскими улыбками окна нового дома сегодня расцвели: «Взлети, Невидимушко! Обогрей в своих дымках крылышки!»
А из другого окна, из больничного, глядит на них, на дымки, старый мастер и незваные две слезинки в ресницах таит, прихоранивает:
– Нянюшка! Запалили бы вы мне трубочку?
– Трубочку нельзя!
– Запалите, нянечка…
– Строго-настрого врач запретил!
– Запалите… Две задышечки… Счастливый я сегодня… Дымки мои по Сибиру…
…Вот я и раздумываю: «Дымки… Дымки.. Не на сберкнижку их, не под замок, не в карман, не в мешок… Да чего там! – в горсти подержать нечего, а у одного крылышки-то, локотки на взлете, у другого – серебринка слезы на усах. Драгоценное оно, это счастье, которое без волкодава на белом свете живет. Трудовое! Мозольное! На весь народ поделенное и себе с избытком».
Ну и еще про Антошку.
Заходил он к Матвеичу на квартиру – божка определить. К какому виду святых его отнести. Пригляделся когда – что за дивушко?! У «божка» партизанская красная лента наискось папахи обозначена, и громадную с крышкой трубку «святой старец» сосет. Щурится он на известного нам зенитчика, и трепетно тому: а ну как вынет сейчас трубку изо рта и спросит ехидным голосом: «А вы, молодой человек, лично Библию читали?»
Колодцы роет сейчас наш «геолог». До двадцати восьми метров дошел, а воды все нет. Там он в висячей бадье на дне этой скважины и задумался: «Как дальше жить буду? По суворовским, значит, присловьям или заочником куда устраиваться?»
1964 г.
СТОИТ МЕЖ ЛЕСОВ ДЕРЕВЕНЬКА
Летописцем Илью Стратоныча недавно прозвали.
По выходе на пенсию задумал он историю родной своей деревни написать. Сорок лет бессменным сельсоветским секретарем отбыл – всякое событие на памяти, всякий житель перед ним, как на блюдечке, – кому же, если не ему, этим делом заняться? Завел себе дюжину клеенчатых тетрадей, авторучкой вооружился, очки сменил, ну а прозвище «Летописец» народ ему сочинил.
И скажите пожалуйста!.. Самое безвредное занятие себе старичок придумал, самую неответственную нештатную должность избрал: ни штрафа, ни взыскания от него, а на людей между тем сдействовало. Затревожились. Заподумывали. «А под каким видом-образом я в эту самую Стратонычеву летопись угадаю? А вдруг перед потомками и перед грядущими поколениями оконфузит?» С этой мыслью на свою жизнь заоглядывались, свои поступки-проступки применительно к летописи соразмерять начали.
Одна мудрейшая механизаторская женка, по прозвищу Оксютка-барыня, дабы не ехать на сенокос, ногу сама себе гипсом вымазала. Кость, дескать, треснула. Ясное дело – разоблачили… Три раза к Стратонычу прибегала.
– Ты не пиши! – шепчет. – Вычеркни! – шепчет. – Я тебя, селезня белого, по смертный твой час мягким калачиком и яишней с салом кормить буду.
Всячески улещала. А только без воздействия.
– Зря, дева, порох тратишь, – Стратоныч ей ответствует. – Что я действительно белый, это ты правильно подметила… А что история за яишню не продается – недоучла. Хоть жемчугами теперь корми селезня!.. Ни за птичье молоко!
Оксютке вычеркнуться надо было, а киномеханику Захарке Бадрызлову наоборот – вписаться. Этот, будучи навеселе, тещины иконы порубил и печку ими растопил. Теща в суд подала. За оскорбленные верующие чувства и стоимость двенадцати апостолов е Захарки взыскивала. Вот он и трактует Стратонычу:
– Ежель мне срок присудят, так и запиши: «А был он, Захарка Бадрызлов, воинственный безбожник. И не мог он, Захарка, терпеть под одной крышей всякого разного опиуму. И не водка на него окончательно совлияла, а антирелигиозный, про папу римского, кинофильм. За что и под кодекс угадал…»
Каждому свое, как видите.
Спешит деревенской улицей Илья Летописец. Согнули годы старого.
Ноги хоть и проворят, а лысины обогнать не могут. На вершок, да впереди она. Как будто боднуть кого вознамерена. Загар по ней ржавыми пятнами лег. Вокруг белым оснежьем сияют остатки кудрей. И весь он, Стратоныч, белый. И борода, и усы, и брови. У Маремьяновны на что глаза ослабли, а его издалека примечает. Глядишь, и заторопилась навстречу:
– Ты, Илюшенька?
– Я, Маремьяновна.
– Вписал моих?
– Не дошел еще, Маремьяновна. Первые выборы описываю.
– Ты не забудь, – заторопилась Маремьяновна. – Старший – Степан был, за ним – Кирилл, дальше – Егорушка, Вася, Алеша.
Пять сынов, пять румяных груздочков, проводила на фронт Маремьяновна, и хоть бы один… Мнится ей, что вот впишет Стратоныч ее горьких солдат в свою летопись, и отнимется у праха-забвения какая-то сущая долька живого, не навсегда, не бесследно истребятся на земле ее Степа, Кирилл, Егорушка, Вася, Алеша. Хоть малой частицей воскреснут они из кругленьких буковок под дрожащим пером Летописца.
– Не забудешь, Стратоныч?
– Как можно, Маремьяновна! Допишусь до этой страницы – всех поименно назову. У самого двое там…
– У Егорушки зубы рано прорезались. За грудь кусал… Все до болятки, все до болятки… Запиши для памяти.
Стратоныч достает из-под ремешка желтую клеенчатую, с самодельным алфавитом, тетрадь, открывает ее на букве «М» – Маремьяновна. «У Егорушки рано прорезались зубы», – записывает.
– А Степа, баловник, пистону деду в трубку заложил. Взрыв у того под носом получился, – поспешает Маремьяновна.
И про «пистону» пометит Стратоныч.
Много исписалось у него тетрадей, много накопилось в них потешных и горестных, геройских и житейских деревенских былей, а конца летописи не предвидится. И не будет конца. Не вчерашней ли ночью вписал он на свежий листок тревожным бессоньем рожденные строчки: «Ребячье сердце в неправой обиде, что птичий подранок…»
Так у Стратоныча начинается быль о Савостьке Горошке.
Шел он, Савостька Горошек, из школы домой. Не сказать, что веселый шел. Денек весенний, голубой да звонкий выдался, над пашнями маревца струят, скворцы кошек передразнивают, на дровосечных делянах сладкий березовый сок из каждой конурки цедится, а у него, у Савостьки, две двойки портфель отягчают.
Учительница опять рассердилась:
– Яровые принялся сеять?!
Осенние Савостькины двойки она называет «озимыми». Все с подкусом да с подковыром!.. Эх, жизнь, жизнь третьеклассничья!
Домой Савостьке не к спеху. Не к спеху, не к радости. Он останавливается перед огромным тополем, раздумывает, вздыхает. От корней до вершины измеряет глазенками дерево.
«Великанище. А когда-то ведь тоже лозинкой был. Прутичком. Желтых гусят таким в табунок сшевеливать».
Тоненький гибкий прутичек был высажен в честь рождения Савостькина деда. Тоже Савостьяна. Сейчас его так и зовут: «Савостьянов тополь». Вспушил под него прадед в давние годы круговинку земли, нацелил тугой верхней почкой в апрельское солнышко – и расти тополек. Зеленая сказка сынку. Единственному. Долгожданному.
Сейчас этот бывший прутичек двум дядькам не обхватить. По чайному блюдцу листы выметывает. Пушить начнет – на полдеревни пороши наделает. И ложится от него на дорогу тень, как от черного, грозового облака. Солнечный зайчик не прошмыгнет. Корни наподвид толстых удавов вокруг по земле расползлись, извиваются. Сила дерево! У всех на виду, всем вприметку. А в честь кого посажено, в чью память цветет, того давно уж в живых нет. Пал Савостькин дедушка смертью храбрых у стен Кенигсберга. Пал, когда Савостьки Горошка еще и на свете не было. Только по чужим рассказам знает он своего геройского, отважного, таинственного деда-солдата. Он-то, пожалуй, не дал бы сегодня Савостьку в обиду. Не причитал бы, как мать, разные жалостные слова, не разыскивал бы, как отчим, некую вещь, имя существительное которой – троехвостка. Усадил бы старый Савостьян малого к себе на колени, щекотнул бы боевой бородой его стриженую макушку, и запели бы они вдвоем какую-нибудь военную песню. Вот эту хоть:
Наши деды – бравые победы,
Вот кто наши деды!
А потом шепнул бы ему дед скрадком на ухо некое куряно-петушиное слово, и не стал бы Савостька носить в своем дневнике ни «яровых», ни «озимых». А что?! Старики, они много всякого разного волшебства знают. Да опять та же беда… Нет деда у Савостьки. Только тополь. Летней порой взберется Савостька проворным соболькой под его лепетливую крышу, где ярко-зелено буйствует густой, непроглядный лист, взберется Савостька под лепетливую крышу и затаится неведомым миру зверяткой. Укромна и обжита надежная развилка суков. Коль обидели крепко – горстку терпких слезинок на зеленую тополиную грудь прольет. Словно бы деду на гимнастерку… Не обижен – выдумывать, сочинять чего-нибудь примется. По тихой погоде рискнет иной раз на самую высь, на самую гибкую тополиную вершинку вскарабкаться.
«Не видать ли с нее Кенигсберга?»
Перелески да пашни, стога да стада, недальние соседние деревеньки, затемненная сизая крепь лесов, а дальше, до самой окаемочки неба, ширь да простор – песенные журавлиные угодья.
Не видать Кенигсберга.
Спустится Савостька до заветной суковатой развилины, обовьет ствол худенькими исцарапанными руками и опять надолго-надолго затихнет. И слышит, причуивает его левое ухо, как от самых корней до вершины пронизывает тополиную сердцевину неумолчный печальный гул.
«Соки ходят, – догадывается Савостька. – А может, не соки? Может, плачет, тоскует по-своему? Конечно, тоскует. Ведь они с дедушкой как братья-близнецы росли. Перед фронтом, сказывают, обнял его старый Савостьян. В письмах упоминал…»
И еще крепче прижимаются Савостькины ребрышки к тусклой прозелени ствола.
Высоки тополя по Сибири растут. Через горы им видно. Через долы им слышно. И недремны их вещие зоркие очи. Тыщу дней и ночей да еще сотни дней и ночей неотступно глядели они на кровавый закат, где нещадно и смертно сражались сибирские грозные роты. Оседала одна пыль под их сапогами – вздымалась другая, истаивала одна лыжня – проминалась другая. Из-под огня на огонь, из огня да в полымя, из полымя в пекло: «Командир! Где геенна?!» По бессмертью шагали, с легендами венчались, с былинами махоркой делились, с преданиями по сто граммов наркомовских пили.
И все дальше и дальше, туда, на кровавый закат.
«Ты прости, мать-Сибирь, что не кажем лица, что спиною к тебе тыщи суток стоим – недостойно бесстрашным твоим сыновьям далее малым мгновеньем глаза от врага отвести».
Скольких же, скольких их, беззаветных, упавших лицом на кровавый закат, не досчитались вы, тополиные вещие очи?
Не видать Кенигсберга.
«Дом твой, дедушка, мама на снос продала. Иструхлявел снизу. Двор теперь бурьяном да крапивой зарос. Журавель у колодца сломался… А у меня все двойки, все двойки. И силы почему-то мало. Всякому поддаюсь. Кому не лень, щиплют меня. За вихорок. «Горошек, дай горошку». А еще девкиным сыном зовут. Потому что у меня не отец, а отчим. Когда любит, когда нет. Я его никогда не люблю. Боюсь. А еще…»
Все свои обиды-горести поведает дедову тополю Савостька. И никнет белая неприласканная головка. В синих глазах дальняя-дальняя, совсем не ребячья думка. Даже любопытной, рядом присевшей пичужки не замечают они. Вот задрожали, сломались вдруг губы, и гасит тополиный шелест их горестный шепот:
– Дедушка, дедушка! Почему не дождался Савостьку? Вместе бы смертью храбрых пали…
Однажды по сумерочкам пригорюнился он вот так же, обнявши тополь, и не заметил, как подкралась к деревне гроза. Гулко и неожиданно рявкнул вольный гром. Поначалу Савостька от каждой внезапной, прострельно-огненной, яростной молнии сжимался в тугой обреченный комочек, жмурил до боли глаза, а когда приобвык – даже интересно стало, даже храбро и весело сделалось.
И привиделась ему тут Кенигсбергская битва.
Стенами вражеской крепости стал высвеченный молниями Деньгин лес. Проголосные басовитые грома – тяжелой дальнобойной артиллерией. Молодые, суматошливые, дробные громочки – минометами, пулеметами, автоматами. Сами молнии – «катюшами». А теперь стоило только закрыть глаза – и вот он! Вот он! Савостькин дедушка.
«Вперед, сибирская рота!!» – покрывает грома, расстояния, года воскресший в грозе его голос.
Дед бежит по гремучему, жгучему полю, и с каждым шагом своим к Кенигсбергу высится, высится, вырастает. Вот уж вровень со стенами его борода, выше стен Кенигсберга его боевая пилотка.
«За мной, сибирская рота!!» – громогласно зовет он бесстрашных и верных товарищей. Бессчетно пуль пронзило дедову грудь, без числа снарядов и мин осколками дедово тело порвали – любой бы пал, но деду надо пасть смертью храбрых…
Рядом стены, а не дошагнуть до них облитому алой кровью Савостькиному деду.
«Храбрая?.. Храбрая?.. Ага!»
Дед снимает сапог и бросает его через стены: «Я не дошел – мой сапог дошел!»
Потом отрезает разведческой финкой половину своей бороды, наматывает ее на гранату и бросает гранату под стены: «Я не дошел – моя борода дошла!»
После этого пал.
И содрогнулась под ним вражья земля.
И рухнули стены Кенигсберга…
Да, да! Сапог бросал, бороду финкой обрезал… Так и рассказывает Савостька Горошек про храбрую, геройскую смерть своего неведомого, таинственного деда-солдата. Всем рассказывает. Даже Илье Стратонычу – Летописцу.
Погладит Стратоныч ему вихорок и приулыбнется чуть:
– Савостька, Савостька!.. Какой же ты, парень, выдумщик! Не было у твоего деда бороды. Двадцати семи лет на войну уходил. Медовый ус носил, сахарный зуб, бедовый глаз… С молодыми девчонками на круг плясать выходил!
Только не убедить Савостьку. Никому не убедить.
– Была борода! Была!
Стратоныч задумчиво щурится:
– Будь по-твоему. Твой дед – не мой…
– Мой. И была у него борода, – оставит за собой последнее слово Савостька.
…Скворцы кошек передразнивают, над пашнями маревца струят, на дровосечных делянках сладкий березовый сок из каждой конурки цедится, стоит перед тополем солдатский внук Савостька с двумя «яровыми» двойками в дневнике. «Залезть или не залезать»? – востроносенько принюхивает он первую смолку, источаемую побуревшими блестящими почками.
Оглядевшись, Савостька замечает подвигающихся в его сторону Захарку Бадрызлова с бензопилой на плече и Володю Целинника с топором.
Должность киномеханика Захар оставил по собственному желанию.
– Не могу! – убеждал он общественность в тайной надежде на смягчение судебной ответственности за порубленных апостолов и оскорбленные тещины верующие чувства. – Не могу! Насмотрюсь антирелигиозных фильмов, а после щи мне мощами пахнут и на тещу злостный рефлекс – Сам между тем, дабы утихомирить истицу, раздобыл где-то ей завалященького Георгия Победоносца и для лампадки – веретенного масла четушку.
Теперь Захарка работает на разных работах в совхозе. Вот и сейчас куда-то с бензопилой поспешает. Толстые улыбчивые губы, как всегда, приоткрыты. Сверкают из-под них три «благородных» зуба – золотой, стальной да серебряный. Румянеет первым загарцем провисший долу нос. Не фуражку носит Захарка, а малиновый берет. На мизинце – перстень с голубым, как гусиный глаз, камушком. Поравнявшись с Савостькой, чего-то под нос посвистывая, сворачивает Захарка к тополю. За ним – Володя…
– Дяденьки! Вы зачем с топором… с пилой? – ознобило Савостьку.
– Тебя, узкопленочного, не спросили, – лениво отстраняет его с дороги Захарка.
Задрав голову, он поодаль обходит вкруг тополя.
– Куда его внаклон ведет?
Примерившись, командует Володе Целиннику:
– Подрубай с той стороны!
– Дяденьки, не надо! – заметался от одного к другому Савостька. – Это дедушкин! Он смертью храбрых пал…
– Вот и этот сейчас хряпнется, – запосмеивался Захарка. – Подрубай! – кивает он еще раз напарнику.
Володя Целинник медлит.
– Здесь, малый, на этом месте, – поясняет он Савостьке, – клуб наметили строить. Видишь, колышками размечено… Грунт вон из тех ямок на пробу брали.
– Не надо клуб! – заслонил тополь Савостька. – Это мой… Это дедушкин! – торопливо, испуганно бормотал он.
Захарка отшвырнул Савостьку. Затрещала пила, и вот уже сотни стальных безжалостных молниек бензопилы готовы со звериным рыком вгрызться в податливую сладкую мякоть тополя. Вскочивший с земли Савостька кинул под зубья портфель. Взметнулись вспоротые лоскуты клеенки, вспорхнули странички «Родной речи», от корки до корки сжевало Савостькин дневник. И все это в миг, в птичий пописк. Во второй миг увидел оторопевший Захарка в двух шагах от себя обескровленное, в темных искрах веснушек лицо Савостьки. Только на тоненькой шее дрожала синяя жилка да под белесым зализом вихра лоснился в потном туманце лоб. Неподвижные большие глаза бесстрашно сближались с жаркой, гремучей россыпью солнечных зайчиков, искрометно сбегающих с яростных зубьев пилы.
– Обеспамятел, что ли?! – схватил его за острые локотки Володя Целинник.
– А пу… пусть не трогает! Пусть не трогает! – заизвивалось в Володиных руках судорожное тщедушное тельце.
Напуганный Захарка заглушил пилу, коршуном налетел на Савостьку, скрутил в шершавых разлапистых пальцах парнишкины уши и, до хруста сдавляя хрящики, поволок его на дорогу.
– Рахитик несчастный! Ты чего?! Душа у тебя а самоволку ушла или вполкумпола работаешь – под самую пилу лезешь?
Боли Савостька не почувствовал. Он рвался к тополю. Рвался защитить свое маленькое счастье, приговоренное рухнуть, искорчеваться, осиротить и опустошить его и без того неласковую жизнь.
– Дяденька Захар! Миленький! Не пили… Это дедушка… дедушка мой!..
– Подрубай! Я попридержу! – заторопил Захарка напарника.
Володя, вяло размахнувшись, вогнал топор в землю и глухо проговорил:
– Не буду, Захарка…
– Чего?
– Не буду… У меня тоже дед…
– Чего – дед? – все крепче досадовал Захарка.
– Тоже… там… – махнул Володя рукой в сторону Кенигсберга.
Захарка затейливо выругался и решительным шагом двинулся к пиле. Савостька обогнал его. И снова тоненьким жертвенным одуванчиком вытянулся вдоль могучего ствола дерева.
– Ну, не буду. Не буду, – заотступал Захарка. – Мы утречком. На коровьем реву… – донес ветерок до Савостьки утаенный Захаркин голос.
…Как известно, много позаписано в тетрадках Ильи Летописца веселых, грустных, геройских и саможитейских деревенских былей. Если бы спросить его сегодня, почему и отчего так яро дорывался Захарка со своею бензопилой до Савостьянова тополя, ничего, пожалуй бы, не ответил Стратоныч. Надел бы очки, разыскал нужную тетрадь, развернул ее на алфавитной букве «Б» – Бадрызловы – и предложил бы: «Читайте!»
И вот что у него там записано:
«По деревенским преданиям, случай этот имел место произойти в средине примерно прошлого столетия. Некто зажиточный мужик Агафон Бадрызлов в один день и в один час поженил своих сыновей-близнецов Свиридона и Спиридона и, дав им родительское благословение, ушел в пустынь замаливать какие-то грехи.
Поначалу братья жили дружно. Дела у них по хозяйству спорились, жены подобрались работящие, скотинка велась, земля плодоносила… Все равно было – одно не равно. Прошло десять лет – вокруг Свиридона пятеро ребятишек щебечут-лепечут, а у Спиридона ни дочки, ни сына. И купил тогда Спиридон борзенького щенка. Детному Свиридону братова прихоть-причуда не поглянулась. Есть на подворье Полкан, есть Жучка – на кой ляд борзенький?
– Дармоеда завел, – не раз и не два выговаривал он бездетному Спиридону.
И вот одно время исчез борзенький щенок. Неделю разыскивал его Спиридон – исчез.
И началась между братьями свара да грызня.
– Ты его невзлюбил, ты его погубитель! – резал в глаза Спиридон Свиридону. – Я твоих пятерых, наравне с тобой горб гну, кормлю, а ты мне щененочка не дозволяешь!
Жены подключились.
Такой шум-разлад пошел, хоть урядника зови.








