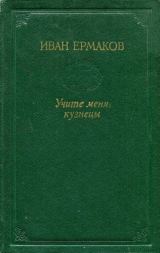
Текст книги "Учите меня, кузнецы (сказы)"
Автор книги: И. Ермаков
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
От стана он ехал шажком. За один куст заехал, оглянулся – не смотрят.
– Грраббют! – весело рявкнул он своей кобыленке и галопом поскакал на Огневскую поляну. «Ну и обалдуй же я обалдуевский… – рассуждал он на скаку. – В колдуна стрелял… Мальчонком перевернулся. Ить надо же такую мечту поиметь! И чего я так всякой нечистой силы напугиваюсь? Как увидел его замест лося – все печеня сомлели. По всем жилкам и косточкам прострелило. Постой-ка! А ежели его найдут? Прытча получается!»
В тот самый час, когда Ермек с Кырмурыном дожевывали горбушку, поселок снова тронулся на поиск. Дед Галим в эту ночь не смыкал глаз. На рассвете побудил он лесорубов, позавтракали они наспех, поседлали коней и направились в леса. Теперь уже на отряды разделились, по разным направлениям разъехались. Женщины и ребятишки обыскивали Горелое болото. Пятеро конных поскакали по лесным кордонам, по полевым станам, по совхозным фермам.
В сенокосную да ягодную пору леса пусты не бывают. И полевые бригады их заселяют, и домохозяйки по кустам да по вымочкам своим буренкам усердствуют, пастухи со стадами передвигаются, телячьи, овечьи, поросячьи стоянки, дойные гурты – всё в это время в лесах находится. Про ягоды и говорить нечего. И в одиночку и целыми табунами за ними идут. Бывалые бабушки туда забираются, в такие глушняки залазят, где кажись, и русским духом до этого не пахло. Густенько народу в лесах обитается. И весь этот народ нужно было спешно оповестить. А то ведь как могло получиться? Не знаючи, и увидишь его, Ермека-то, а ни к чему тебе. Вон их сколько ягодничает. И одни идут, и отцы с матерями ведут. Пусть, мол, детишки свежим лесным воздухом подышат, соковой ягодой полакомятся.
Прибыл гонец и к директору совхоза, председателя сельсовета известили. И зазвенели телефоны… До этого утра Ермека только в поселке да еще у излучины Ишима знали, а сейчас на пятнадцать километров в окружности известно стало: жил-был такой пятилетний парень – Ермек Сабтаганов – и ушел этот парень в леса.
Большие районные начальники вынули автоматические ручки и записали на настольных календарях его фамилию и имя. И зашумели веселогривские леса…
– Эй, пастухи! Зачем вы лес пугаете? К чему кнутами без дела щелкаете?
– Мы не без дела… Парнишечка в лесу заблудился. Может, услышит…
У тракториста Гани Бекетова трактор с гудком… Косит он широкозахватными косилками заканавные низины и гудит, гудит, гудит!..
– Чего разгуделся, Ганя?
– Знакомый у меня в лесу задерживается! Шумлю вот…
Пионерский барабанщик Володька Бородин и горнист Славка Королев собрали своих дружков и по очереди бьют в барабан, дуют в горн, голосят в дюжину глоток:
– Ермека из леса вызываем…
Звенят под брусками косы, в дело и не в дело сигналят случившиеся на лесных дорогах шоферы, щелкают пастушьи бичи, рокочет пионерский барабан… И во всех концах светлого леса тревожно теснят тишину людские голоса: «Ерме-е-к! Ерме-е-к!»
Бригадир Вася Волков объезжает сенокосные звенья. Сидит он в седле, до ржавого цвета загорелый, пружинистый, словно из литой резины его отформовали. Большой нос его нежно румянеет с кончика. Десятую шелуху отвевают с него летние горячие ветры. Глаза у Васи и зимой какие-то выцвелые, белесые, а сейчас, на загаре, вовсе себя простоквашными оказывают. Но это не беда! Вид у Васи завсегда мужественный. Грудь в подбородок упирается – это раз, гвардейский значок на ней – это два! Суровые морщины с его лба хоть полководцу подари, хоть полярному капитану… Любого украсят. Говорить Вася старается по возможности без улыбки. Даже брови у него при этом отвердевают. Голос у Волкова с грозой, с черной хмарой на перекатах – натуральный «генерал-бас» временами. На самом же деле Вася мягкой и предоброй души человек.
Подъезжает Вася Волков к полевому стану.
А Филька спит. Настырные и неугомонно-резвые августовские мухи то и дело тревожат его ноздрю. Филька мычит, отпыхивается, но окончательно проснуться не в силах. Не размыкая глаз, он вполголоса оскорбляет мух, натягивает на голову ватную стеганку и вразносвист, с переливами, начинает опять храпеть. После встречи с «нечистой силой» всегда его сон берет…
На Горелом болоте кричат женщины, кричат ребятишки, на ближних кордонах выехали на просеки лесники, мелькает между белых стволов Берестышкова шляпа, зорко смотрят верховые, трещат по лесным тропинкам, по конотопным дорожкам комсомольские мотоциклетки, звенят телефоны, сотни глаз в веселогривских лесах следят, не покажется ли черная стриженая головка, не сверкнет ли за каким кустиком узенький черный глазок. Каждому стал он дорогим и близким, казахский мальчик Ермек. А Филька спит. Проснись, Филька! Укажи, в каком месте ты утром видел казашонка. Многое простят тебе за это люди!
Спит Казненный Нос… Даже во сне ему лось мерещится. «Думаешь, ты меченый, дак тебя и картеча не возьмет?!»
Нажал Филька спусковую лапку у ружья, и – небывалое дело – осечку ружье дало!
Взвел Филька опять курок – опять осечка. И вдруг из-за каждого куста, из-за каждого дерева двинулись на него горбоносые, рогатые, вислогубые хари. И не лоси это, а какие-то неведомые чудовища. Сплошным кольцом окружают они Фильку. Фыркают, рогами грозятся. Выше седла рога, Фильке слышен их сухой костяной перещелк. Сейчас они сомкнутся – и!..
Филька мелко-мелко вдруг затрепетал ногами, заскулил, завзмыкивал, потом подхватился и такой исторгнул из себя рев, что повариха возле котлов вздрогнула.
– Что с тобой? – подбежала она к Филькиному балагану.
Тот бессмысленно поводил глазами, взахлеб хватал в себя воздух, в пальцах мертвой хваткой была затиснута стеганка.
– Да что с тобой, Филипп Панкратьевич?
Филька постепенно приходил в себя.
– Со мной?.. Эта… хвороба. Жаба опять в грудях ожила. За самое сердце кусила… присмыкающая.
– Тебе, может, воды принести?
– Ага…
Повариха ушла.
«Нашелся, видать, кыргызенок, – тревожно думал Филька. – Как есть нашелся. Иначе к чему бы такой сон?»
Повариха принесла воды.
«Ить он, азият, расскажет, что я по лосю стрелял!.. – тянул мелкими глотками воду Филька. – Рыжая, мол, борода, чалая кобыла… Вот прытча! И как я его не доглядел… Перекинул бы через седло – за него выкуп бы еще дали! Дали бы… Навек бы «дружка» сделался».
– Полегчало? – спросила повариха.
– Послабляет вроде… – принялся растирать грудь Филька.
Повариха заторопилась к котлам. Через минуту прилетел оттуда звонкий голос Берестышки:
– Здравствуй, Матренушка! У тебя перекусить не найдется? Не завтракавши выбежал…
– Чего так?
– Парнишка в лесу…
– Не говори. У матери-то, поди, все сердце обуглевело. Хоть бы зверь не тронул! Хоть бы пощадил!
– Волка покуда ему нечего опасаться… Время летнее, а он какой-никакой человек все же. Не вдруг-то насмелится… Комар ему самый враг! Злой он перед смертью, неотступный… Не зря говорится, что орды от него стонут. Над рыбой только не властен. Капелька по капельке – это сколько они из него крови высосут?
– Может, уж нашли где?
– Вряд ли! Встретил я сейчас мотоциклетку, сказывали: директор с военным комиссаром разговаривал. Призывникам на день явка отсрочена. На розыски пойдут. Спасибо, Матренушка. Тоже побегу. Комар ему самый враг…
Берестышко закинул на плечо двустволку, набодрил костылик и опять, маленький, сухонький, неустанный, пошагал в леса.
Фильке больше не спалось.
Ломал и сек чащу вспуганный выстрелом, ожаленный горячей картечью, обрызганный бисеринками крови Кырмурын.
Скакал и заклинался от «нечистой силы» сомлевший в седле Филька.
Бежал от страшного Фильки Ермек. Бежал, плакал, кричал:
– Дедушка! Дедушка! Кырмурын…
Впереди лес, лес и без конца лес. Но в эту сторону умчался Кырмурын! Неужто он совсем убежал? Нет, Ермек найдет его! Нашелся же он вчера. И еще дальше от поселка, еще глубже в леса забирается Ермек. Не чуют усталости его босые, исцарапанные в кровь ножонки, не чуют они и боли. Страх томит маленького. Целый день не смолкает в лесах его горький плач. Осипшим голосишком выкрикивает он:
– Дедушка! Любимый, милый мой дедушка! Кырмурын!..
Светлый лес хоть чем-нибудь пробует утешить его. Вот он расстилает перед его глазами круговинку алых кисточек костяники.
«Поешь, детка, остуди жажду… отдохни…» – шепчет добрый лес.
Но Ермек не замечает лесной доброты. Ты придавил его, маленького, зеленый великан, ты схоронил и укрыл его, неслётышка, от людских глаз, тебе ли, могучему, бурестойкому, тесным, корневитым братством возросшему, понять, каким голеньким трепетным комочком мечется между твоими стволами пятилетняя жизнь. От комариных укусов лепешками вздувается и затвердевает кожа. Густыми жадными косяками, слепыми стаями рвется комарье к телу, к поту, к теплой крови, облепляет шею, лицо, руки, пронзает тонкий ситчик рубашонки, рыжей поземкой застилает легонький ребячий след.
Все дальше и дальше… Вот уже и солнышко садится. Затаиваются птичьи голоса. По дуплам, по гнездам, по развилинкам сучьев устраиваются они на ночь. Столько лесу излетано – пора спать.
Темно и тихо стало в лесу. Ни листок не дрогнет, ни веточка. Только встрепыхнется вдруг дремотная, вспугнутая приглушенным ребячьим плачем пичужка. Встрепыхнется, чивикнет что-то себе в запазушку и опять спрячет свой носик под теплое крылышко.
Вскоре и плач стихает. Ермеку кажется, что кто-то неведомый, страшный может подслушать его в затемнелом лесу. Он сворачивается калачиком под большой березой, потихоньку нашаривает вокруг себя прошлогодний лист, укрывает им ноги, шею, щечки и совсем затихает, маленький и незаметный… Так прячутся робкие недельные козлята. Некоторое время он чутко прислушивается, а потом начинает придремывать. Она тонка, как паутинка, его дремотка. То вздрогнет, то всхлипнет. Но вот кто-то ласковый, надежный садится у его изголовья. Теплой мягкой лапкой гладит его лицо, утирает со щек холодные слезинки.
«Спи, маленький, спи… Взойдет завтра солнышко…»
Как хорошо пахнет заячья лапка! Не уходи, зайчик!
А в это время черная, бесшумная, бирюковатая, кралась к Веселой Гриве грозовая туча. Кралась, чтобы врасплох, в одно мгновение, огненным своим сполохом, ревучим трубным грохотом, тугим нахлестом косых струй ослепить, оглушить, исхлестать Веселую Гриву.
Сначала насквозь просветился лес. Каждую былинку, каждую малую козявку осияло. Один миг разглядывало огненное небо земную темь и все успело увидеть.
Вот обстукивает неведомую тропочку костылек деда Берестышки. Вот вырвались из темноты лошадиные морды, седла, люди. Едет глухими осинниками с покраснелыми от бессонья глазами Галим Бакенович. Неслышно ступают в лошадиный след мягкие лапы Жолбарыса. Вот спит под березой припорошенный сухими листьями мальчик…
И грянул гром!!
Ермек вскочил, открыл испуганные глазенки, и тут же согнул его, оглушил, до земли осадил гремучий дробный смерч. Пронзали, рассекали и рвали густую темноту огненные мечи, трубило, грохотало, ревело, стонало черное небо, сжимался в страхе и бессильно выл добрый великан – светлый лес. Только что до зеленоты яростная молния в щепки, в мочало, в обугленные куски бересты, в рваный, далеко вокруг разметанный лист измельчила могучую красавицу березу. Видел лес ее моментальную смерть. Видел и устрашился. Грохот, вой, скрежет, синие, зеленые сполохи – грозная, непонятная битва!.. Ермек бежал, падал, вскакивал и опять, опять бежал…
Выбирались из-под теплых одеял люди, зажигались в домах огни: «Мальчик в лесу…» Босоногая, с непокрытой мокрой головой, с черным посверком в глазах, озаренная молниями, оглушенная громами, заметалась по темным улицам и переулкам тревога. Стучалась тревога в каждое окно, в каждую дверь и каждое сердце. Люди в эту ночь не могли больше уснуть. А чуть стихла гроза. – заговорило радио:
«Товарищи! Кто имеет возможность принять участие в розысках Ермека Сабтаганова – спешите явиться к конторе совхоза. Выезд в леса через час. Захватите с собой продуктов и воды».
Подпакостил дождь полевым бригадам. Ходит Вася Волков по кошенине и гмыкает:
– Мда-а… Славно пропарило. Только после обеда и подсохнет…
Повариха первая подошла к Васе Волкову и сквозь слезы заговорила:
– Василий!.. Отпустил бы ты сегодня бригаду на розыски. Мысленно ли это дело – ребенок в лесу погибает! Мать убивается… До любого коснись…
Вася молчит. Взвешивает что-то, прикидывает. Зато Филька кочетком на повариху запривскакивал:
– Ладно придумала! Сенокос, значит, государственную задачу брось и шастай, вздеря башку, по лесу. Вот ыть, что обозначает «волос долог…».
– Одним днем не пострадаем, – поддержали повариху бригадники. – Все равно до обеда грести нельзя.
– «Одним днем… Одним днем!..» – запередразнивал Филька. – А соображаете, какой чичас день? Год кормит! Скотину, по-вашему, весной на жердях подымать?..
– В другие дни поднажмем, – высказался неожиданно бригадный молчун и большой любитель «грошей» длинноногий, длиннорукий и длинношеий Павел Андросюк.
– Уж ты поднажмешь! Куда там… – заехидничал Филька. – Это тебе сенокос, а не «дядя – достань воробушка»… Поднажимальщик… сорочьи гнезда с земли зорить…
Студентка Валя Загваздина не то Фильке, не то Волкову проговорила:
– Гражданин Советского Союза Ермек Сабтаганов пропал без вести…
– Какой он гражданин?! – окрысился на нее Филька. – От горшка два вершка… Бросай теперь из-за него, из-за малекула, работу на весь государственный горизонт! Скажи, что лень вперед нас родилась! Смородинки заглотить охота…
– Ты так думаешь? Так думаешь?! – подступилась к нему Валя. – Да, может, если не леса, здесь бы уже самолеты летали – эту «малекулу» разыскивали бы!..
Филька растопорщил руки, выбодрил торчком бороду и запомахивал ею.
– Подумайте, какой принцесс потерялся! Тьфу ты, господи! – сплюнул он как бы в великой досаде. – Прости ты мою душу грешную.
– И грудную жабу… – подсказал кто-то ему вполголоса.
– Чего? – насторожился «больной».
Все расхохотались.
Опустел стан, повариха и та не отстала. Один Филька… «Жаба» опять у него заворошилась: «Чует сырость, присмыкающая». Как поджался на виду у всех, как присел на оглоблю двуколки, так и сидит. Думки, беспокойные, тревожные думки усадили.
«Двое суток скоро, как блудит, – прикидывает. – Очень возможно, что комары его могут снистожить. Или волк… Притом гроза была. Я, опять, выстрелил… От одного этого онеметь можно. Вот, действительно, ладно бы! Нашли его, а он немой! Слова сказать не может. Вот это прытча! Его спрашивают: где был, чего видел, а он ни бельмесы. Ни бум-бум… А иначе раскуржавют опять мою бороду. Одно, что по лосю стрелял, а другое – почему малого в лесу бросил. Почему не собчил на худой конец… На уголовное потянет. А чего же я не доеду туда? Ведь лося-то, должно, тронуло. Лежит, может… Следы, опять, кровь…»
Заподсвистывал Филька Чалушку.
К полудню этих суток вышел Ермек к животноводческому отгону и сразу к колоде с водой припал. Одна черная макушка виднеется. Тут и заметила его дежурная доярка Фрося Калмагорова. Подбежала, подхватила его на руки.
– Дикуша ты моя маленькая!.. – прижимает его к груди. – Черноглазик мой скуластенький… Зачем ты из колоды?.. Пойдем, пойдем, я тебя молочком напою!
В это время и выехала из лесов копновозная конница Васи Волкова. Вот он сам на верном своем Серке – до ржавого цвета загорелый, грудь в подбородок упирается, гвардейский значок на ней – направляется к Фросе. Задрожали вдруг, заторопились Васины ресницы. Большие белесые глаза заприщуривались, словно им на само солнышко взглянуть пришлось.
– Ермешик! Живой?
И Ермек узнал Васю. Не один раз бригадир бывал у них в поселке. Чай с дедушкой Галимом пил.
С радостными глазенками тянет Ермек к седлу руки.
– Вася! Вася! – твердит.
…На Горелом болоте человек побольше сотни густой цепью прочесывали кочкарник. Поближе к середине, где никогда не высыхала вода, рос камыш, краснели початки пуховок, цепь смыкалась и люди шли, ухватившись за руки. Самое глухое место. Рогозинник, моховая ряска, осока, камыш. Перед цепью это болотное буйство стеной стояло, но сделают люди шаг вперед, и полегает оно, смятое, потоптанное, придавленное.
В последних перед болотом лесках Вася на минутку остановился и пересадил Ермека с луки седла к себе за спину. Это чтобы не сразу его заметили с болота, чтоб взять вдруг да и показать всем эту диковинную птаху. Так, чтобы не горело, не дымило, а припекло.
«Ээ-э, да тут и из центральной усадьбы народ», – заприглядывался к цепи Вася. Вот шагает конторская техничка тетя Даша. Ее держит за пальцы пионерский барабанщик Володька Бородин. Штрек Иосиф Иосифович… Старичок. Поволжский немец. Шофер Вася Черненький в цепи… Этот целый косяк ребятишек ведет. Казашата, русские… Матери тоже вперемешку. И цыган Гриша Кучеров тут. И молдаванка Василина. Понятно! Эти не только по болоту – по дорогам рука в руке ходят.
– Погляди-ка, Ермек, что ты натворил, – сделал Вася из локтя створочку. – Погляди! Половину республик на Горелое болото вывел!
Цепь выходила на чистое место.
– Ну, держись, Ермешик! Сейчас мы их по заячьему следу да на медведя… Снег на голову…
Вскинул Вася Ермека у себя над головой: «Не золотой пудовый самородок у меня к седлу приторочен…»
Сломалась цепь, разлетелась по звенышку: крики, ахи, ребячья визготня, свист.
Потеснили Васину конницу, живым тугим кольцом сомкнулись вокруг Серка.
Чья-то ребячья глоточка не выдержала: «Урра! – заголосила. – Нашелся!» Что за догадливая глоточка!
– Ура-а-а! – подхватило все живое вокруг.
Целовались русские и казахские матери, мокрыми щеками прижимались друг к другу; взмывали в небо ребячьи фуражки: «Урра-а-а!»
– Зачем же ты от ребят ушел? – стал допытываться у Ермека Галим.
– Я от них не уходил. Я только с зайчиком хотел поговорить.
– С каким зайчиком?
– А который лепешки мне пек, ягоды присылал… Ты забыл разве?
– И ты пошел его разыскивать?
– Я кустик смородины искал, а он ко мне выбежал. Я ему хотел сказать: «Здравствуй, заюшка!» – а он побежал. Я подумал, что он боится ребят, пошел за ним.
Дед Галим руками всплеснул:
– Глупый ты, глупый! Да разве зайцы разговаривают? Разве умеют они печь лепешки? Ведь я тебе вместо сказки это рассказывал!..
– Я Кырмурына находил. Еще одно чудное дело!
Рассказал Ермек, как таскал он под Кырмурыновы копыта сучья, как пили-ели они, как выстрелил по ним неведомый человек.
Дед Галим сомневается:
– Не в грозу ли это тебе приснилось?
– Это утром было. Кырмурыну ушко отстрелили, с листочком которое…
– А кто стрелял?
– Дяденька на лошади стрелял.
– Какой из себя?
– С ружьем.
– А лошадь какой масти?
– Не помню. Я испугался.
Допытывали, допытывали его – никакой приметы парнишка не помнит.
«Дяденька. С ружьем… На лошади…» – вот и весь его разговор.
В поселок между тем все прибывал народ. Целыми поисковыми машинами подъезжали. Прослышали, что разыскался мальчик, ну и как же не взглянуть на него? Хозяева поселка в этот промежуток успели заложить в котлы полдюжины баранов, и бывалые носы за километр определяли – жарки́м дело пахнет.
Выходил на народ по-прежнему приветливый улыбчивый Галим Бакенович. Вместе с Ермековым отцом они обносили знакомых и незнакомых мужчин и женщин пиалушками с вином. Бабушка Асья и другие казашки разносили подносы с дымящейся бараниной, Ермекова мать Жамиля вскрывала маленьким топориком ящики конфет и печенья.
– Кушайте, дети, – приглашала она ребят.
…Филька огляделся и спешился.
Перед ним на траве валялись Ермековы сапоги, котелок и Кырмурыново ушко.
«Куда бы спрятать? – заторопился он. – Ага… в муравейник!» Прикладом ружья он разворотил муравьиную кучу и кинул туда сапоги и котелок. С ухом он несколько задержался. Листок рассматривал.
– Прихораниваешь, значит?.. – отделился от белесого ствола Берестышко.
Филька схватил ружье.
– Брось! – скомандовал Берестышко и взвел курки.
Бледный Филька тяжело дышал, затравленно озирался. Страхом и ненавистью горели его глаза…
– Бросай оружье!! – еще раз приказал Фильке Берестышко.
Их разделяли какие-нибудь пять шагов.
– На! – протянул ему Филька свое ружье. Не прицеливаясь, с вытянутых рук, в упор выстрелил в Берестышку.
Вилюшками, заячьими скидками бежал Казненный Нос к лошади.
Раненый Берестышко целился. Картечь пришлась по Чалушке. Окровавленная, с седлом на боку, примчалась она на полевой стан.
Через полтора часа по ее кровавым следам нашли Берестышку.
Он был еще в памяти: «…У закона ружье всегда на секунду позже стреляет… Бороду сбреет, усы сбреет – ноздрю никуда не девает. Для уголовного розыска собачка старалась…»
– Сена на телегу, и моментом сюда! – распорядился Вася Волков.
Сережа Куроптев поскакал на стан.
– Нашли парнишку? – спросил Берестышко.
– Нашли, – склонился над ним Вася. – С зайцем поговорить хотел… ушел.
– Ну и славно… хорошо… Попить нет, Вася?
Когда повезли его – забываться стал. Бредить.
«Посиди на коленках у деда Берестышки… зайчиком, значит, она тебя поманила?.. Она уме-е-ет!.. Мно-о-го у нее всякой заманки…»
«…А меня – голубенькая стрекозка… Я ее изловить на мизинчике, а она порх – и полете-е-ла. И запела крылышками… И ты иди! Иди, голубок! Узнавать… любить… Иди».
Вернется в чувство – забеспокоится, сено ощупывать вокруг себя начнет.
– Вася… Вася! А куда подевался парнишка?
– У себя в поселке, Кузьма Алексеевич. Чай с бурсаками пьет! – бодрит его сквозь слезы Вася.
– Как – чай?.. Он только что на коленках у меня сидел?!
Есть в старых сибирских поселениях обычай… Почетным караулом его не назовешь, ни к какой панихиде не приравняешь – просто собираются к изголовью покойного деревенские долгожители, престарелые свидетели дней его жизни, и всю-то долгую прощальную ночь не сомкнут они глаз. Сплетаются в скорбный венок тихие добрые слова воспоминаний, и, сколько бы ты ни знал о человеке, здесь услышишь новое, давно позабытое, а случается – нежданное и удивительное.
Разбирал старший лесничий Берестышковы бумаги. Акты разные, почетные грамоты, квитанции, лесорубочные билеты. И вот вдруг – старое пожелтевшее письмо.
Подправил старший лесничий очки, добавил в лампе свету.
«Товарищ Ленин!
Докладывает Вам обходчик четвертого Веселогривского обхода Пятков Кузьма Алексеев…»
Тут придется нам вернуться к той поре, когда березки на Веселой Гриве белоногими еще девчушками были.
Колчак по Сибири правил.
И сон, и покой истерял Берестышко. Оружьем хитро ли было разжиться?.. Бой кончился – одна сторона бежит, другая настигать ее устремляется, а мирный житель, подросток чаще всего, в этот момент оборужается. Подсумки патронные с убитых снимает, винтовки, гранаты промышляет – да при добром желании саму пушку на гумне спрятать можно было.
Войска схлынут – охота начнется. Иные добычливые семейки на года дичинки насаливали. Все погреба кадками уставлены. Колчаку-то, ему разве об лосе сердце болело? Корона мерещилась, скипетр блазнил. Лесники уж по году и больше жалованья не получали. Обходы свои побросали, да кто во что горазд. И деготь гонят, и зайцев ловят, и дуги гнут, и те же кадушки сбивают. Один Берестышко не попустился. Однако и он… Видит, что вытворяется, а управы не сыщет. Безвластие. В открытую хитничают. Всплеснет иной раз руками да проговорит:
– Посиротят землю! Как есть посиротят… Совсем народ одичал, истварился.
Ему такой довод в утешение:
– Брат на брата, сын на отца поднялись… Писание сбывается. Нас самих вот-вот на овец и козлищ поделят, а ты об каких-то рогалях стонешь.
– Сам ты рогаль! – обругает подобного мудреца Берестышко. – Рогаль и костяная башка притом. Брат на брата?.. У них, у братовей, по винтовке в руках да у каждого по своей правде-неправде за душой. Они в сознании идут, в интересе… А зверь как к этому причастен? Он безоружный, кроткий – губи его, бей, изводи! С таким понятьем ты его внучатам только на картинке показывать будешь. Был, мол, зверь, да весь вывелся.
– И что ты все об наших внучатах соболезнуешь? – задосадует «костяная башка». – Какая тебе забота об чужих, коль своих не заведено?
– А та и забота, дуб милый, что из-за них, из-за внучат ваших, полземли сегодня в огне горит, в громах гремит. Понять бы! А ты под эту заварушку заместо живого радостного зверя третьи рога на ворота прибил…
Громкий разговор, конечно, получался, да перед кем кричать? Все эти обчерниленные Берестышковым карандашом браконьеры возрадели, воспрянули. Царским сатрапом его за прошлые штрафы обзывают, кривым лешим, козлиным адвокатом – кому как поглянется.
Стоял как-то в Веселой Гриве штабом большой колчаковский воинский начальник. Добился Берестышко к нему приема.
– Ваше высокоблагородие! Лосей губят. Коз изводят.
Посмотрело на него «высокоблагородие», как на папуаса какого диковинного, и говорит:
– А тебя, служба, пыльным мешком случайно не ударили? У нас фронт прорван, батареи погублены, а он – с козлятиной… Притом, что такое лось?
– Зверь лось… – буркнул в бороду Берестышко.
– Ну вот… Зверь! А у меня мужики породистую конюшню разграбили. Борзых собак – породу испортили… Пошел прочь!
И пошел, конечно. Чего скажешь?
А совесть-то служебная все равно не смиряется. А душа-то тоскует. Дошло до того, что к попу вынужден был обратиться.
– Вы бы, батюшка, увещевательное слово к прихожанам… Как там у вас в писании сказано: «Блажен, иже и скоты милует». Ведь переведут зверя.
Поп возвеселенный – по случаю. Только-только двух своих поповен за колчаковских писарей замуж столкал.
– Не тужи и не кручинься, сын мой, – Берестышку по форменке похлопывает. – На развод останется. В Ноевом ковчеге всякой твари по паре.
И заподхохатывал. Ищи права, лесник.
Окончательно его из терпения дезертиры вывели. Их вокруг Веселой Гривы до полувзвода в лесах обиталось. От Колчака убежали. Некоторые с оружием. И наши деревенские, и из других мест. Берестышке-то в лес без подозрения. По службе вроде… Харч им на своей кобыленке подвозил, курево, другое прочее. И вот один раз приезжает, а дезертиры его под обе ручки подхватывают и к застолице тащат.
– Лоськом разжились, молоденьким! Отведай вот почечки.
Берестышко на них и поднялся. За берданку вгорячах схватился. А у дезертиров винтовки. Ладно, среди их братии учитель один ишимский оказался. Заслонил он Берестышка от штыков и говорит:
– Свиньи мы, парни… Нам добро, а мы – рюх-рюх. Правильно лесник угрозил! Ведь что делаем? Душу русского леса расстреливаем. Нет для Колчака ту пулю сберечь.
Ну и ради случая примеры привел: сколько таким вот беспощадным способом редкого да дорогого зверя на земле истребили. В зверинец даже поместить не осталось.
Дезертирам неубедительно.
– Нас самих хучь в зверильницу помещай, – бурчат.
Перед Берестышком, правда, снисхождения ищут. Умиротворить его ладят.
– Бор горит, а он, соловушко, по гнездышку плачет, – пословицу подкидывают.
У него же между тем крепко-накрепко одна думка в голове засела.
Приезжает как-то в лес, чернилку из сумочки достает, ручку, бумагу. Говорит учителю во всеуслышание:
– У меня, голубок, почерк плохой… В солдатах грамоту одолевал. А про такое дело надо разборчиво… Составь-ка мне две копии. Одну отошлю, а другую сберегу. Пусть не скажут потом, что лесник Пятков Кузьма Алексеев с хитниками мирился.
– Куда писать, кому? – спрашивает учитель.
– Пиши Ленину. По всем моим приметам, ему скорее до сердца достанет. Землю-то, похоже, не на рубли оценивает.
Дезертиры уши насторожили.
А Берестышко не торопясь, не спеша, диктует.
«Товарищ Ленин!
Докладывает Вам обходчик четвертого Веселогривского обхода Пятков Кузьма Алексеев.
Большие беспорядки творятся в наших местах. Колчаковская армия служить не желает и, освирипевши от шомполов да зуботычин, неудержимо бежит в леса. Сколько ее по Сибири в глухоманях засело – точно не скажу, а только каждая деревня свое дезертирское стойбище имеет. И нет мне с таким народом никакого сладу и управы. Беспощадно и безраздумно губят они дорогого, милого русского зверя – лося и козлушку. А кроме дезертиров есть еще народ, который совести своей не чует, властей не знает и тоже бьет бессердечно. Подходит дело к тому, что переведется в русском лесу всякий живой попрыск, всякой сказки дыхание.
В прошлом году косил я сено. И сылани из одного облачка дождь. Я кошенинкой прикрылся – сижу на рядке. Наподвид кочки или пенька замшелого себя оказываю. И выходит тут из кустов он – лось. Шерсть на нем смокла, огладилась, без солнца отсверки дает. Шагов пять до меня не доступил – нюхтить начал. Сопатку навытяжку, ноздри в дрожь – кочка я или пенек, определяет. Стоит передо мной чудо потешное, муромец звериный, князь леса сибирского, отшельник дремучий – сама сказка, сама тайна лесная ко мне принюхивается. И столько нежданной радости он мне за одну минуту в душу вонзил – до смерти не издышу эту радость. Такого вот невознаградимого зверя бьют, товарищ Ленин, бьют, снистожают, сводят с лица земли.
Есть у меня на предбудущее время одна думка… Цари, короли да султаны страшных хищников в своих гербах рисовали, зверояростных всяких драконов. Ваше первое слово, товарищ Ленин, ко всем живущим на земле народам про мир и о мире сказано было, и, стало быть, нам ни к чему в своем гербе устрашительного зверя рисовать. И вот, думаю… нельзя ли поместить в него голову зверя лесного, с распростертыми рогами? Она обозначала бы силу, могущество, богатство, красоту, быстроту и сказку земли нашей русской. И пусть бы тогда насмелился кто-нибудь стрелять в зверя, который в герб Державы сопризван. А так – беда! Грозил дезертирам берданкой, а они в меня боевые штыки уставили и говорят: «Поспешай отсюда, пока черны вороны на скелет твою тушку не обработали». Без государственной меры никак нельзя, о чем, товарищ Ленин, и прошу».
Выслушали дезертиры… Ну, среди них всякий же народ был. Одни раздумались, а другие на гыганьки Берестышку подняли.
– Видал что?! Лось – князь ему сибирский!.. Ленин князей страсть, говорят, как обожает!
Следом такое высказывание:
– Ему только и мечты, что про лося да про козу. Сейчас всю мировую буржуазию на произвол бросит, фронта оголит: «Спасай лосей, комиссары!»
А третий к этому присовокупляет:
– Ить и выдумает же, голова в кости склепана! Заместо, значит, двухглавого орла – двухрогого лося?! Рогатой державой чтобы Расею звали…
Терпел Берестышко. Всякую насмешку переносил. И Колчака отбили, а над ним все зудят. Под вечер соберутся на деревенских бревнышках вольные охотнички, и ненароком вроде его подзовут. Тот разговор, другой, а тут какая-нибудь борода и ввернет:
– Сказывают, новые деньги печатать начали… Посередке ассигнации лосиная будто бы голова нарисована. Только без рогов… комолая. Опротестовать надо. – Вслед этому такое «га-га-га» громыхнет, аж петухи на насестах встрепетываются.
Терпел.
Дошло, нет ли его письмо до Ленина – кто скажет? А только вызывают в том же году Берестышку в РИК и вручают в его собственные руки декрет. И сказано в том декрете, что по всему государству лось и коза объявляются заповедными зверями. Подпись: «Ульянов-Ленин». У Берестышки и сердце зачастило: «Дошло! Прочитал!»








